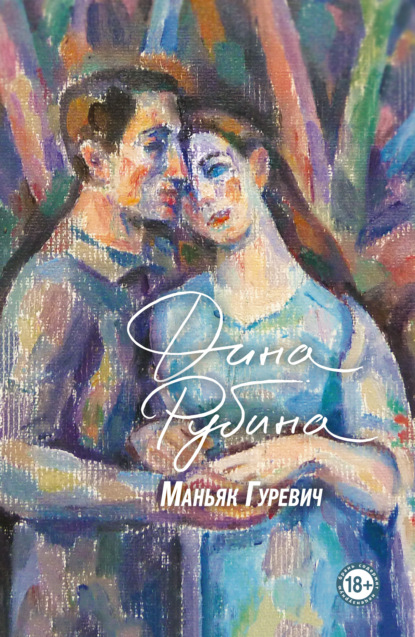По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Маньяк Гуревич
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В мае же отдельные смельчаки в чёрных трусах приступали к ледяному Оредежу. Пацаны ныряли вниз головой, показывая удаль молодецкую, и уж кто-то непременно врезался башкой в корягу… Тогда над речкой взвивался рёв и визг, и оглушительный ругачий ор чьей-нибудь мамани. В солнечный день песчаные отмели обживали целые семейства. На байковых одеялах раскладывались дачные натюрморты: огурцы, крутые яйца, ломти чёрного хлеба и соль в фунтиках, скрученных из газетной четвертьстраницы…
Народ здесь не церемонный, голосом берёт, так что слышно издалека; над рекой далеко разносится: «Бездельничать некогда, работы полно: клубнику прополоть, усы отрезать, банки закатать, у нас и помидоры свои, и огурцы на всю родню солим, заготовок полный гараж, еле-еле Колина «копейка» вползает…»
Вечерами по дворам и верандам гоняли чаи; неугомонные пацаны стрижами носились на раздолбанных великах. Они у всех одинаковые: «Школьник», рамы голубые или зелёные, сплошь облупленные… Коля, Ваня, Федя или ещё какой-нибудь гордый хозяин «копейки», «жигуля» первой модели, отдыхает после работы в майке и трениках, домашним огурцом хрустит, бьёт с размаху комарьё.
Комары, тучи комаров… В Вырице теплее, чем в городе. С мая по август Сенина физиономия, не говоря уже о руках-ногах и даже о заднице, претерпевала волдыри и расчёсы разной степени озверелости и кровавого беспредела.
…Чтобы ребёнок «дышал» все три месяца без перерыва, родители брали отпуска по очереди. Один неотлучно сидел с Сеней на даче, другой навещал их раз в неделю и – что гораздо важнее – привозил огромные сумки с продуктами.
Тут необходимо ещё одно литературное отступление – папа стоил многих отступлений.
Он был из тех интеллигентов, которые ничего не умеют делать руками. Если брался забить гвоздь, то забивал в стену собственный палец. Покупки тоже делать не умел. Однажды мама послала его за кочаном капусты на голубцы, он принёс три кочана, каждый размером с яблоко. Взрывная и безжалостная мама немедленно довела до его сведения, что только отпетый идиот мог вообразить голубцы из этих эмбрионов. Папа вспылил и запустил кочаном в форточку.
Окна у них когда-то были заклеены на зиму и с тех пор уже не расклеены никогда. Между рамами валялись дохлые мухи и осы, упавшие внутрь карандаши, при помощи которых открывали и закрывали форточку, три незадачливых бумажных голубя, огрызок груши, деталь от конструктора. Так что Сеня с мамой внимательно следили за полётом: запущенный папой кочан мог и не долететь, мог свалиться между рамами и лежать там восемь лет. Но то был редчайший случай, когда папа забросил мяч в корзину, ловко разбив стекло форточки.
Словом, папа витал над бытом, стараясь не заземляться, будто опасался, что ноги увязнут в этом болоте. Зато он много гулял с сыном по поэтичным окрестностям Вырицы, рассказывая про графа Сиверса, которому поместье пожаловала государыня Екатерина Великая, и про то, с каким завидным усердием граф разводил тут картофель. Что касается нашего Алексан Сергеича, добавлял папа, так он целых тринадцать раз проезжал через эти места на Святые Горы; последний раз – в похоронных дрогах, на пути к бессмертию.
Обходили они и окрестные старинные кладбища при запущенных храмах, и, глядя на безносую плакучую деву или сильно оббитого ангелочка, папа произносил, печально вздымая густые актёрские брови: «Смерть велика и непознаваема…»
* * *
Второе Куриное Пришествие стряслось в дачной жизни юного Гуревича, когда они с папой куковали в папину очередь. Посреди недели у них вдруг закончилась еда. Единственная продуктовая лавка была целый месяц закрыта на лопату, и хозяйка их дачи говорила, что ничего не попишешь, понимать надо: Людмила ушла в забой.
– Сенечка, нам нечего есть! – озабоченно доложил папа. В отличие от мамы, рубившей фразы тоном красного командарма, папа любил поговорить с сыном душевно. Считал, что мягкие интонации голоса лучше доходят до сознания ребёнка. Тем же манером он разговаривал с пациентами. – Совершенно нечего есть, сынок. Боюсь, помрём с голодухи.
Однако всё же догадался пойти со своей бедой к Татьяне Кузьминичне, хозяйке.
Та папу очень уважала – он лечил и саму Татьяну Кузьминичну, и сына её, дебила Костю, и её одноногого отца, ветерана Гражданской войны деда Никона, который пропил костыль, но зато научился передвигаться по двору на одной ноге: скакал, хватаясь за ствол яблони, за перила веранды, за стены, кусты, опоры голубятни… Целыми днями стоял на одной ноге, привалясь к воротам, и задумчиво курил, глядя на дорогу. Был тогда похож на большого оловянного солдата из сказки Андерсена.
– Господь с вами, Марк Самуилыч, – легко сказала хозяйка. – Вон курятник, колода, топор. Хватайте любую куру, рубите голову, варите ребёнку суп.
Папа, который в жизни своей не убил комара, а в хирургию (семейную вотчину) не пошёл именно потому, что не мог видеть малейший порез на живом существе, – папа позеленел от взваленного на него душегубства. Но на руках у него был ребёнок, и ребёнка надо было кормить; а обратиться за помощью к деду Никону или к тому же Косте-дебилу он считал недостойным мужчины.
Он нырнул в курятник и вытащил… точнее, пригласил из курятника курицу, водрузил её на колоду и схватился за топор… С лицом «краше в гроб кладут» минут пять папа тюкал по бедной курице, будто примеривался для решительного замаха. Та рвалась и кудахтала, истекая кровью. За окном веранды стоял и наблюдал за поединком похолодевший Сеня, а от ворот, привалясь к столбу и сплёвывая на землю, с большим интересом разглядывал это позорное побоище дед Никон.
– Плядь ты бессильная, Самуилыч… – добродушно заметил он.
От всего этого папа разъярился по-настоящему (о, благородная ярость интеллигента, она может горы свернуть!), размахнулся и с плеча рубанул топором по курице. Голова её отскочила, как теннисный мяч от ракетки, а сама курица кувыркнулась с чурбака и ринулась – безголовая – через ворота на улицу… где немедленно попала под автобус, тот самый, что проезжал мимо их дачи дважды в день.
Вторая казнь мученицы была уже вовсе бесполезной и какой-то… запредельной: в таком изувеченном виде она никому пригодиться не могла. Её даже похоронить по-человечески было невозможно. И сердобольная Татьяна Кузьминична, махнув на папу рукой, сама взялась за дело.
Сеня же окоченел от ужаса…
Он стоял за окном веранды, потрясённо глядя сквозь ворота на дорогу. Мысли его вскипали и крутились, как сухие листья в ветреный день: можно ли назвать обезумевшей безголовую курицу? И каким образом она так решительно бросилась точно в ворота – может ли чувство ориентации находиться не в куриной голове, а где-то в другом месте организма? Как она ринулась навстречу второй и окончательной смерти, будучи, строго говоря, и так уже мёртвой! И кружили, кружили перед глазами безносые каменные девы и траченые ветрами-снегами-дождями ангелочки, и завывали печальные слова на забытых всеми памятниках, незабвенно-безутешные… скорбящие-осиротелые…
Месяца два его мучили ночные кошмары, в которых огромная неотмщенная курица размахивала топором над папой, распластанным на колоде. Всё оздоровление Сени тем летом пошло насмарку, как и вообще его пожизненные вкусовые пристрастия.
Он так и не смог проглотить ни единой ложки супа, да и впоследствии, с удовольствием смакуя антрекоты и бифштексы и прочие части тел разных животных, так и не смог преодолеть в себе отвращение к куриному мясу. Курица казалась ему существом хтонического мира: её беззвучный вопль, её тайный бегущий зов настигал его через годы с потрясающей регулярностью. Можете считать, как вам угодно: религиозное или антирелигиозное это чувство. Но когда его жена, столь похожая на маму, называла его куринофобию «идиотством» и в свидетели призывала тени всех съеденных им коров, телят, баранов, кроликов и оленей, Гуревич резонно отвечал, что «смерть велика и непознаваема», но он ни разу, даже в страшном сне, не видел, чтоб безголовый баран или бык гонялись за автобусом. После чего отпиливал кусочек бифштекса, мазал его горчицей или хреном и кротко отправлял себе в рот.
Оздоровительный месяц в Друскениках
И всё же деревня Вырица в зудящем комарином облаке, печальные кладби?ща с отбитыми носами дев и крылышками херувимов, самоубийство безголовой курицы и вечно пьяный дед Никон были далеко не самым тягостным воспоминанием его детства.
С пятого класса Гуревича стали вывозить в Литву, в Друскеники; этот отдых считался рангом повыше. Кроме того, маму привлекал дешёвый и качественный прибалтийский трикотаж: свитерки-майки-панталоны-лифчики. Она закупалась на целый год, с учётом подарков на все грядущие даты для всех близких и родственных дам, подружек, сослуживиц и даже любимых пациенток.
В отделе трикотажа местного универмага работала продавщица Тося, замужним ветром занесённая из щикарного Ростова в эту дохлую Литву. Была она разбитной, сердечной и памятливой бабой, всех своих постоянных клиенток помнила в лицо и даже по имени, хотя возникали те только на летние месяцы. И всегда-то у неё припрятан был «для своих» особенный товар, и всегда она с беззаботным запевом: «Та шо той жжызни!» «Дама! – восклицала, – берите вот ещё панталончики нежно-салатовые, это ж щасте! Берите, пока я добрая на трикотаж. Не жмитесь, шо той жжызни!»
В этом провинциальном городке на берегу реки Неман Сеня с мамой снимали комнату у местных литовцев, вежливых и отстранённых людей, которые приезжих не любили и не скрывали этого. Они не любили русских и не любили евреев, а Сеня с мамой попадали сразу в обе эти категории.
Почему надо было непременно уезжать на лето из родного города, лучшего города на свете, с его прекрасными парками, могучей рекой, катерками и лодками на каналах, с его знаменитыми музеями и морем-рукой-подать, – Сеня тогда не понимал. Понял значительно позже, когда вкалывал во все лопатки, набирая дополнительные ночные дежурства в «бедуинском секторе», чтобы только вывезти сыновей из летней Беэр-Шевы в какой-нибудь кибуц на севере, где комната с четырьмя койками стоила не меньше, чем дорогой отель на побережье Португалии. Зачем?! И можно ли сменить климат в стране размером с табуретку?
Видимо, у родителей внутри находится тот же навигационный инстинкт, какой заставляет птиц лететь на юг, потом возвращаться на север… Тот же инстинкт, который заставляет нас сначала высиживать яйца, потом выкармливать птенцов из собственного клюва, потом кричать: «Что здесь сложного: три прибавить два?! Это может сосчитать любой кретин!» – и лететь в самолёте со своими птенцами в неизвестную страну-окончательно-навсегда, с разрывающимся сердцем и навеки застрявшим в диафрагме немым воплем: «Что я делаю?!»
* * *
Оздоровительный месяц в Друскениках… Он длился как год. Сеня дышал. Сеня гулял. Его закаляли…
Неман, как известно, быстрая, глубокая и холодная река. Мама сама в воду никогда не лезла – как можно в такую холодрыгу! Но, дождь не дождь, мама брала зонтик, выводила Сеню на берег, приказывала раздеться и «окунуться». Ещё раз! Ещё! Последний раз, я сказала, попробуй только выскочить, я тебя немедленно прибью зонтиком!!!
Приседая в мутной ледяной воде, Сеня издавал даже не вопли, а сдавленный визг. Затем мама выволакивала сына на берег и лупцевала свёрнутым в жгут полотенцем: разгоняла кровь. Очень полезная процедура, да, можешь вопить, сколько влезет, тебя никто не спасёт, дохлая ты мышь!
В наши дни маму безусловно посадили бы за истязания ребёнка.
Народ здесь не церемонный, голосом берёт, так что слышно издалека; над рекой далеко разносится: «Бездельничать некогда, работы полно: клубнику прополоть, усы отрезать, банки закатать, у нас и помидоры свои, и огурцы на всю родню солим, заготовок полный гараж, еле-еле Колина «копейка» вползает…»
Вечерами по дворам и верандам гоняли чаи; неугомонные пацаны стрижами носились на раздолбанных великах. Они у всех одинаковые: «Школьник», рамы голубые или зелёные, сплошь облупленные… Коля, Ваня, Федя или ещё какой-нибудь гордый хозяин «копейки», «жигуля» первой модели, отдыхает после работы в майке и трениках, домашним огурцом хрустит, бьёт с размаху комарьё.
Комары, тучи комаров… В Вырице теплее, чем в городе. С мая по август Сенина физиономия, не говоря уже о руках-ногах и даже о заднице, претерпевала волдыри и расчёсы разной степени озверелости и кровавого беспредела.
…Чтобы ребёнок «дышал» все три месяца без перерыва, родители брали отпуска по очереди. Один неотлучно сидел с Сеней на даче, другой навещал их раз в неделю и – что гораздо важнее – привозил огромные сумки с продуктами.
Тут необходимо ещё одно литературное отступление – папа стоил многих отступлений.
Он был из тех интеллигентов, которые ничего не умеют делать руками. Если брался забить гвоздь, то забивал в стену собственный палец. Покупки тоже делать не умел. Однажды мама послала его за кочаном капусты на голубцы, он принёс три кочана, каждый размером с яблоко. Взрывная и безжалостная мама немедленно довела до его сведения, что только отпетый идиот мог вообразить голубцы из этих эмбрионов. Папа вспылил и запустил кочаном в форточку.
Окна у них когда-то были заклеены на зиму и с тех пор уже не расклеены никогда. Между рамами валялись дохлые мухи и осы, упавшие внутрь карандаши, при помощи которых открывали и закрывали форточку, три незадачливых бумажных голубя, огрызок груши, деталь от конструктора. Так что Сеня с мамой внимательно следили за полётом: запущенный папой кочан мог и не долететь, мог свалиться между рамами и лежать там восемь лет. Но то был редчайший случай, когда папа забросил мяч в корзину, ловко разбив стекло форточки.
Словом, папа витал над бытом, стараясь не заземляться, будто опасался, что ноги увязнут в этом болоте. Зато он много гулял с сыном по поэтичным окрестностям Вырицы, рассказывая про графа Сиверса, которому поместье пожаловала государыня Екатерина Великая, и про то, с каким завидным усердием граф разводил тут картофель. Что касается нашего Алексан Сергеича, добавлял папа, так он целых тринадцать раз проезжал через эти места на Святые Горы; последний раз – в похоронных дрогах, на пути к бессмертию.
Обходили они и окрестные старинные кладбища при запущенных храмах, и, глядя на безносую плакучую деву или сильно оббитого ангелочка, папа произносил, печально вздымая густые актёрские брови: «Смерть велика и непознаваема…»
* * *
Второе Куриное Пришествие стряслось в дачной жизни юного Гуревича, когда они с папой куковали в папину очередь. Посреди недели у них вдруг закончилась еда. Единственная продуктовая лавка была целый месяц закрыта на лопату, и хозяйка их дачи говорила, что ничего не попишешь, понимать надо: Людмила ушла в забой.
– Сенечка, нам нечего есть! – озабоченно доложил папа. В отличие от мамы, рубившей фразы тоном красного командарма, папа любил поговорить с сыном душевно. Считал, что мягкие интонации голоса лучше доходят до сознания ребёнка. Тем же манером он разговаривал с пациентами. – Совершенно нечего есть, сынок. Боюсь, помрём с голодухи.
Однако всё же догадался пойти со своей бедой к Татьяне Кузьминичне, хозяйке.
Та папу очень уважала – он лечил и саму Татьяну Кузьминичну, и сына её, дебила Костю, и её одноногого отца, ветерана Гражданской войны деда Никона, который пропил костыль, но зато научился передвигаться по двору на одной ноге: скакал, хватаясь за ствол яблони, за перила веранды, за стены, кусты, опоры голубятни… Целыми днями стоял на одной ноге, привалясь к воротам, и задумчиво курил, глядя на дорогу. Был тогда похож на большого оловянного солдата из сказки Андерсена.
– Господь с вами, Марк Самуилыч, – легко сказала хозяйка. – Вон курятник, колода, топор. Хватайте любую куру, рубите голову, варите ребёнку суп.
Папа, который в жизни своей не убил комара, а в хирургию (семейную вотчину) не пошёл именно потому, что не мог видеть малейший порез на живом существе, – папа позеленел от взваленного на него душегубства. Но на руках у него был ребёнок, и ребёнка надо было кормить; а обратиться за помощью к деду Никону или к тому же Косте-дебилу он считал недостойным мужчины.
Он нырнул в курятник и вытащил… точнее, пригласил из курятника курицу, водрузил её на колоду и схватился за топор… С лицом «краше в гроб кладут» минут пять папа тюкал по бедной курице, будто примеривался для решительного замаха. Та рвалась и кудахтала, истекая кровью. За окном веранды стоял и наблюдал за поединком похолодевший Сеня, а от ворот, привалясь к столбу и сплёвывая на землю, с большим интересом разглядывал это позорное побоище дед Никон.
– Плядь ты бессильная, Самуилыч… – добродушно заметил он.
От всего этого папа разъярился по-настоящему (о, благородная ярость интеллигента, она может горы свернуть!), размахнулся и с плеча рубанул топором по курице. Голова её отскочила, как теннисный мяч от ракетки, а сама курица кувыркнулась с чурбака и ринулась – безголовая – через ворота на улицу… где немедленно попала под автобус, тот самый, что проезжал мимо их дачи дважды в день.
Вторая казнь мученицы была уже вовсе бесполезной и какой-то… запредельной: в таком изувеченном виде она никому пригодиться не могла. Её даже похоронить по-человечески было невозможно. И сердобольная Татьяна Кузьминична, махнув на папу рукой, сама взялась за дело.
Сеня же окоченел от ужаса…
Он стоял за окном веранды, потрясённо глядя сквозь ворота на дорогу. Мысли его вскипали и крутились, как сухие листья в ветреный день: можно ли назвать обезумевшей безголовую курицу? И каким образом она так решительно бросилась точно в ворота – может ли чувство ориентации находиться не в куриной голове, а где-то в другом месте организма? Как она ринулась навстречу второй и окончательной смерти, будучи, строго говоря, и так уже мёртвой! И кружили, кружили перед глазами безносые каменные девы и траченые ветрами-снегами-дождями ангелочки, и завывали печальные слова на забытых всеми памятниках, незабвенно-безутешные… скорбящие-осиротелые…
Месяца два его мучили ночные кошмары, в которых огромная неотмщенная курица размахивала топором над папой, распластанным на колоде. Всё оздоровление Сени тем летом пошло насмарку, как и вообще его пожизненные вкусовые пристрастия.
Он так и не смог проглотить ни единой ложки супа, да и впоследствии, с удовольствием смакуя антрекоты и бифштексы и прочие части тел разных животных, так и не смог преодолеть в себе отвращение к куриному мясу. Курица казалась ему существом хтонического мира: её беззвучный вопль, её тайный бегущий зов настигал его через годы с потрясающей регулярностью. Можете считать, как вам угодно: религиозное или антирелигиозное это чувство. Но когда его жена, столь похожая на маму, называла его куринофобию «идиотством» и в свидетели призывала тени всех съеденных им коров, телят, баранов, кроликов и оленей, Гуревич резонно отвечал, что «смерть велика и непознаваема», но он ни разу, даже в страшном сне, не видел, чтоб безголовый баран или бык гонялись за автобусом. После чего отпиливал кусочек бифштекса, мазал его горчицей или хреном и кротко отправлял себе в рот.
Оздоровительный месяц в Друскениках
И всё же деревня Вырица в зудящем комарином облаке, печальные кладби?ща с отбитыми носами дев и крылышками херувимов, самоубийство безголовой курицы и вечно пьяный дед Никон были далеко не самым тягостным воспоминанием его детства.
С пятого класса Гуревича стали вывозить в Литву, в Друскеники; этот отдых считался рангом повыше. Кроме того, маму привлекал дешёвый и качественный прибалтийский трикотаж: свитерки-майки-панталоны-лифчики. Она закупалась на целый год, с учётом подарков на все грядущие даты для всех близких и родственных дам, подружек, сослуживиц и даже любимых пациенток.
В отделе трикотажа местного универмага работала продавщица Тося, замужним ветром занесённая из щикарного Ростова в эту дохлую Литву. Была она разбитной, сердечной и памятливой бабой, всех своих постоянных клиенток помнила в лицо и даже по имени, хотя возникали те только на летние месяцы. И всегда-то у неё припрятан был «для своих» особенный товар, и всегда она с беззаботным запевом: «Та шо той жжызни!» «Дама! – восклицала, – берите вот ещё панталончики нежно-салатовые, это ж щасте! Берите, пока я добрая на трикотаж. Не жмитесь, шо той жжызни!»
В этом провинциальном городке на берегу реки Неман Сеня с мамой снимали комнату у местных литовцев, вежливых и отстранённых людей, которые приезжих не любили и не скрывали этого. Они не любили русских и не любили евреев, а Сеня с мамой попадали сразу в обе эти категории.
Почему надо было непременно уезжать на лето из родного города, лучшего города на свете, с его прекрасными парками, могучей рекой, катерками и лодками на каналах, с его знаменитыми музеями и морем-рукой-подать, – Сеня тогда не понимал. Понял значительно позже, когда вкалывал во все лопатки, набирая дополнительные ночные дежурства в «бедуинском секторе», чтобы только вывезти сыновей из летней Беэр-Шевы в какой-нибудь кибуц на севере, где комната с четырьмя койками стоила не меньше, чем дорогой отель на побережье Португалии. Зачем?! И можно ли сменить климат в стране размером с табуретку?
Видимо, у родителей внутри находится тот же навигационный инстинкт, какой заставляет птиц лететь на юг, потом возвращаться на север… Тот же инстинкт, который заставляет нас сначала высиживать яйца, потом выкармливать птенцов из собственного клюва, потом кричать: «Что здесь сложного: три прибавить два?! Это может сосчитать любой кретин!» – и лететь в самолёте со своими птенцами в неизвестную страну-окончательно-навсегда, с разрывающимся сердцем и навеки застрявшим в диафрагме немым воплем: «Что я делаю?!»
* * *
Оздоровительный месяц в Друскениках… Он длился как год. Сеня дышал. Сеня гулял. Его закаляли…
Неман, как известно, быстрая, глубокая и холодная река. Мама сама в воду никогда не лезла – как можно в такую холодрыгу! Но, дождь не дождь, мама брала зонтик, выводила Сеню на берег, приказывала раздеться и «окунуться». Ещё раз! Ещё! Последний раз, я сказала, попробуй только выскочить, я тебя немедленно прибью зонтиком!!!
Приседая в мутной ледяной воде, Сеня издавал даже не вопли, а сдавленный визг. Затем мама выволакивала сына на берег и лупцевала свёрнутым в жгут полотенцем: разгоняла кровь. Очень полезная процедура, да, можешь вопить, сколько влезет, тебя никто не спасёт, дохлая ты мышь!
В наши дни маму безусловно посадили бы за истязания ребёнка.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: