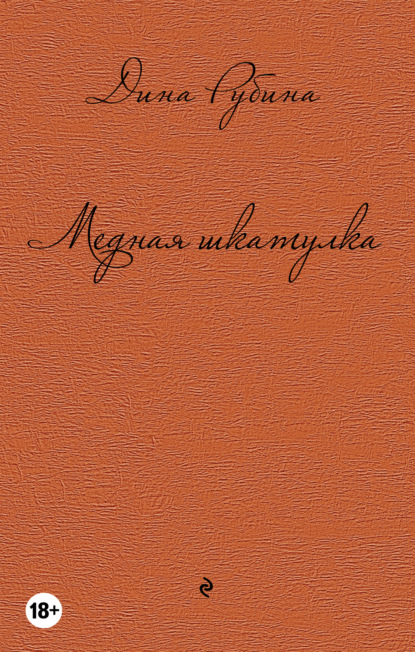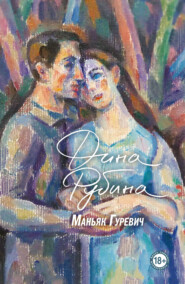По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Медная шкатулка (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ежи возвратился в Варшаву, оттуда – в 1963-м – перебрался в Париж и, прожив там большую часть жизни, умер в 1997-м уже почтенным стариком лет под восемьдесят.
«Почтенным» – это я брякнул не подумав. «Почтенным» Ежи никогда так и не стал, но прожил длинную и бурную жизнь, был известным скульптором.
Между прочим, если придется побывать в резиденции премьер-министра Израиля, обратите там внимание на несколько бюстов израильских президентов, выполненных Ежи Терлецким. Сильная, выразительная лепка… В Москве помню памятник Александру Герцену его работы, и барельеф «Пушкин и Мицкевич», – на мой взгляд, слегка напыщенный: у эпохи соцреализма были свои понятия о величии.
Так вот, на похоронах Ежи Терлецкого на кладбище в Банье произошел неожиданный скандал. Впрочем, почему неожиданный? Этого человека по жизни сопровождали бесконечные скандалы, можно сказать, он, как король скандалов, тащил за собой целый эскорт давно горящих или недавно вспыхнувших, а также затухающих интрижек, бесчинств, историй, анекдотов и драм. И все исключительно были связаны с его слабостью к слабому полу. Внешне Ежи ничего особенного собой не представлял. Физиономию имел скорее нагловатую, чем приятную, во всяком случае, мне всегда казалось, что эта его физиономия с порога сама себя и объявляла – знакомьтесь, мол, я принадлежу первейшему прохвосту. Но был он высок и широкоплеч, – вероятно, это что-то значит в дамском представлении о красоте мужчины? И был силен физически, как, собственно, и положено человеку его профессии. Одно время, помнится, увлекался карате, да не философией учения, а этой показушной чепухой, когда ребром задубелой ладони разбивают доски, кирпичи или что там под руку попадется… Потом он это бросил, но однажды я видел, как в окружении потрясенных дам Ежи разбивал ладонью какой-то там предмет, наверняка вполне еще полезный, – так, что веером вокруг летели мраморные осколки.
Короче, над его могилой сошлись в скорби, вернее, подрались на славу две его вдовы, симпатичные, хотя и не очень молодые женщины, совершенно незнакомые друг с другом, причем, каждая была убеждена, что является единственной законной подругой Ежи за последние десять лет его жизни.
Но не это самое примечательное и грустное в его истории; к этому, напротив, можно подойти даже с изрядной долей юмора, как и сделала «главная» его женщина, Руфка, одна из липовых вдов, которая до сих пор рассказывает о надгробном турнире всем желающим с милой бесшабашной улыбкой.
Самое печальное, я бы даже сказал трагическое, в истории Ежи, в бездумной истории его жизни – это два сына, брошенные им на произвол судьбы. Два сына, которых он никогда в жизни так и не увидел.
О существовании одного из них, «московского» сына, Ежи, кажется, совсем забыл, так как не платил на него алименты. Уж очень гордой оказалась мать этого ребенка, чтобы унизиться до просьб или судебных разбирательств. Известная переводчица с польского на русский, она и вообще была личностью в русской литературе заслуженной: это она с известным риском переправила в Польшу рукопись «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, откуда потом ее переслали в Италию. Несколько раз мы с ней встречались в Москве, подолгу чаевничали. Ей было что рассказать. Ее сын от Ежи Терлецкого, Саша Большаков, стал физиком, доктором наук, и отлично обошелся без внимания такого никчемного папаши…
А вот на первого сына, Марека, рожденного некой польской девушкой Катаржинкой, Ежи платил увесистые алименты, как и положено, до совершеннолетия, – хотя сына в глаза не видал и даже признавать за своего не желал, скотина. А все из-за того, что страшно зол был на Катаржинку, которой виртуозно просто удалось заставить его платить. Вот послушайте, как она это проделала.
Забеременев от Ежи, к тому времени уже перелетевшего на другой цветок в поисках сладостной пыльцы, она написала ему письмо, в котором известила о своем, вернее, об их общем положении. Ежи взбесился, запаниковал и в ответном письме, по сути, приказал избавиться от ребенка – мол, у него нет ни времени, ни средств возиться с младенцами, и вообще, как пишут в таких случаях, – «мы разошлись, как в море корабли»…
Но эта самая Катаржинка, видимо, оказалась крепким орешком и далеко не дурой. И когда, положенное время спустя, Ежи вызвали в суд, он завертелся ужом, отбиваясь от отцовства и даже прозрачно намекая на якобы недостойное поведение истицы, которая, по его словам, уделяла внимание каждому, кто попросит, так что ребенок – он в этом убежден – не имеет к нему, высоконравственному Ежи Терлецкому, ни малейшего отношения.
После этих его слов судья (между прочим, женщина) извлекла из папки то самое, сильно помятое его письмо к Катаржинке.
– Тогда потрудитесь объяснить, – сухо поинтересовалась она, – какого черта вы вмешивались в чужие дела и требовали избавиться от ребенка, к которому не имели отношения?
Короче, Ежи, как и сам потом говорил, «обделался по уши». Ему присудили выплачивать алименты, и, кроме того, новорожденный получил фамилию отца. Знакомьтесь: Марек Терлецкий…
Алименты Ежи платил по закону, но о сыне и слышать не желал, а когда ему удалось слинять в Париж, то и вовсе забыл бы о его существовании, если б не изрядная сумма, ежемесячно сходившая с его банковского счета – автоматически, но чувствительно.
Но все это – зачин, так сказать, истории. А сама история начинается в начале восьмидесятых, когда уже взрослый и женатый сынок Ежи, Марек Терлецкий, перебрался с женой и двумя сыновьями в Швецию, стал там водителем автобуса, а для души в свободное время играл на гитаре в джазовом клубе. И, знаете, хорошо играл, – видать, унаследовал музыкальные способности отца. Ежи, по воспоминаниям моих родителей, сам любил присесть к фортепиано и сбренчать какую-нибудь популярную мелодию, что помогало ему охмурять прекрасный пол.
К тому же Марек прибился там, в Стокгольме, к землячеству польских евреев и активно участвовал в разных встречах, собраниях и благотворительных концертах. Словом, как раз в этом оказался полной противоположностью отцу – тот терпеть не мог с кем бы то ни было кооперироваться. И вот там, в этом землячестве, Марек Терлецкий повстречал одного старого парижанина, месье Лихтенштейна, который навещал в Стокгольме родственников. Они разговорились, Марек признался, что давно разыскивает своего отца, тот якобы тоже проживает в Париже, и вполне вероятно…
– Позвольте, а как его фамилия?
– Терлецкий.
– Ежи?! Господи, да я же с ним прекрасно знаком!
И хотя знал, что Ежи терпеть не может никаких упоминаний о своих отпрысках и сына не желает признавать, так расчувствовался, что решил дать Мареку адрес отца – не квартиры, само собой, а мастерской, в одном из маленьких переулков Латинского квартала.
К сожалению, наш добрый месье Лихтенштейн не умел держать язык за зубами, и, вернувшись в Париж, растрезвонил про свою доброту всем, на кого попадал, – моим родителям в том числе. Более того, он знал, когда Марек собирается приехать навестить отца.
От этой неожиданной напасти Ежи изрядно струхнул – в те годы у него уже стала развиваться паранойя, что все вокруг только и жаждут его обобрать – и удрал на все лето в Испанию, оставив ключи от ателье Руфке, своей главной любовнице.
Прибывший на нежную встречу с родителем Марек Терлецкий помотался по Парижу, съездил на экскурсию по замкам Луары и несолоно хлебавши вернулся в Стокгольм, перед отъездом бросив письмо в почтовый ящик на дверях мастерской.
Это письмо мне показала Руфка, она и вытащила его из ящика. Написано по-польски, и, читая, трудно удержаться от слез:
«Дорогой Отец! Мне от Тебя ничего не надо, я всем обеспечен, мечтаю только об одном: показать Тебе своих мальчиков, чтобы и у них был дедушка, которым они вправе гордиться»… – ну и так далее, еще полстраницы в том же роде.
Руфка понятия не имела ни о каких сыновьях, скрытный Ежи никогда ей ничего не говорил. По возвращении его из Испании она поскандалила, конечно, обещала спустить его с лестницы «за обман». Но потом все утряслось. В конце концов, дело давнее…
В последние годы жизни Ежи, как Адама Козлевича, охмуряли какие-то ксендзы. Они обещали ему устроить заказ на бюст папы римского, того самого, что был поляком. Такой заказ, мерещилось Ежи, уж точно принес бы ему мировую славу, это вам не портреты каких-то израильских президентов. К тому времени он успел наваять бюсты многих знаменитых людей, например, Чеслава Милоша, польского поэта и Нобелевского лауреата, но ему и того было мало, все казалось, что он недостаточно отмечен премиями и критикой.
Однако всем этим планам и мечтам не суждено было сбыться: Ежи хватил удар. Его прооперировали в парижской больнице Hotel-Dieu, но в себя он так и не пришел. Правда, когда я навестил его в палате интенсивной терапии, мне показалось, что он узнал меня и даже попытался поднять в приветствии левую, не отнявшуюся, руку… Но возможно, мне это только почудилось.
Между прочим, в палате на меня накинулись медсестры, выясняя, кто я такой и какое отношение имею к больному. «Тут все время шастают какие-то женщины, а кем ему приходятся – не разберешь. Понимаете, у нас в реанимацию только родных пускают… Неужели у него нет никого из родственников?»
– Да нет, никого, – сказал я. – Никого не припомню…
Через неделю все мы, знакомые и приятели скульптора, встретились на его похоронах. Приехал из Стокгольма и сын его Марек, извещенный о кончине отца все тем же сердобольным и хлопотливым месье Лихтенштейном.
И вот тут выяснилось, что, ввиду отсутствия письменного (равно как и устного) завещания, Марек Терлецкий – единственный законный наследник всего имущества Ежи, которое, собственно, заключалось в его скульптурах… Ксендзы, которые на похороны явились подозрительно монолитной группой, подкатывались к Мареку, утверждая, что Ежи будто бы завещал свои скульптуры польскому католическому центру, но за неимением документального тому подтверждения вынуждены были отвалить. Руфка, связанная с еврейским культурным центром в Париже, пробовала уговорить Марека подарить Центру хоть часть скульптур – тех, в которых можно было углядеть что-то более или менее еврейское. Но и она получила от ворот поворот, и даже не слишком вежливый.
После похорон отца Марек честь по чести получил от нотариуса соответствующий документ, подтверждавший его исключительные права на наследство, и Руфке, как ни противилась она, пришлось отдать ему ключи от мастерской…
…Пару недель спустя старик Лихтенштейн с ужасом рассказывал мне, что произошло в ателье Ежи Терлецкого в ночь перед возвращением его сына в Стокгольм.
– Вы даже вообразить не можете, что сотворил этот молодой вандал! Он разбил все скульптуры!
– Как разбил?! Чем?!
– Ну, в инструментах недостатка там нет. Скульптурный молоток, долото… не знаю, что еще скульпторы в работе используют. Перебил все абсолютно, осколки вынес в мешках на помойку.
– Но почему соседи… там же грохот ужасный стоял?
– Помилуйте, какие соседи? Мастерские ночами пустуют. А если кто и оставался на ночь, так шум и попойки среди этой публики кого могут удивить?
Он тяжко вздохнул и проговорил:
– Подумайте только: его и деньги не привлекли. Страшно представить, какая горечь скопилась в его душе!
Больше я ни о чем не спрашивал, да и особой охоты узнавать подробности, по правде говоря, не было никакой. Но перед глазами почему-то немедленно возникла картина: молодой Ежи ребром затвердевшей ладони рубит на куски перед восторженными дамами то ли скульптурку, то ли цветочный горшок… Вполне полезную вещь.
Зато некоторое время спустя в Париже вынырнул Саша Большаков, другой непризнанный сын Ежи Терлецкого. Приехал он на какую-то там конференцию по физике и (мать его к тому времени уже умерла) решил поискать следы своего незнакомого отца. Знаете, когда уходит старшее поколение, возникает нестерпимое желание разыскать хоть крупицы правды об их молодости, драмах, предательствах и любви. А тут еще после смерти Ежи я прислал Саше несколько молодых фотографий его отца, которые нашел в нашем семейном альбоме, два-три каталога выставок и вырезки из газет, – в те дни я и сам разбирал архивы собственного отца после его смерти. Для Саши все это было единственным доказательством связи между Ежи и матерью, не считая главного и самого значительного доказательства, отражаемого каждым зеркалом.
– Скажите, по-вашему, я похож на скульптора Терлецкого? – Это был первый вопрос, который Саша задал, встретившись со мной в Париже. – Вы считаете, я действительно его сын?
И казалось, никакие слова, никакие уверения до конца убедить его не в состоянии. Бог знает, почему это было так ему важно.
В первый же день он наведался по адресу бывшей мастерской Ежи. Постучал в дверь консьержа-алжирца, спросил – не здесь ли работал скульптор Терлецкий.
– Как же, как же, – последовал ответ. – Неплохой был мужик, хотя и странноватый. А вы, часом, не сынок ли его?
– С чего вы так решили? – оживился Саша.
– С чего?! Господи… Бера, иди-ка сюда! – позвал тот жену. – Смотри, парень спрашивает о месье Терлецки. Глянь-ка на лапы его, на плечи… – вылитый отец! Оказывается, у него еще сын был, ты подумай… Жаль, все наследство пропало. Братец ваш расстарался… Всю ночь долбил, как дятел. Я сначала думал – не вызвать ли полицию? А потом сказал себе: не лезь не в свое дело. В конце концов, он был законным наследником, не так ли? Значит, имел право с папашей счеты свести. – Он вздохнул: – А скульптур этих было… – и руками развел: – До потолка! Надо же, ни одной не пощадил. И чем это отец так его допек?