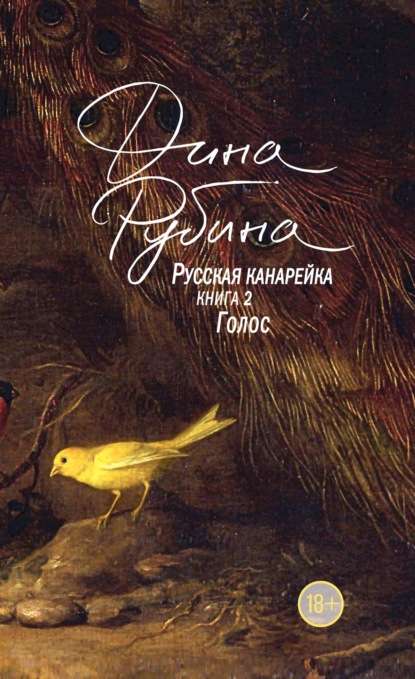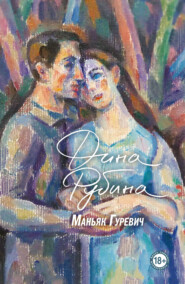По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская канарейка. Голос
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В его неожиданной запальчивости есть что-то сугубо личное, подумал Леон, будто он примеривает на свое не такое уж дальнее будущее некоторые сцены, прорабатывает ситуации, реплики… Предусмотрительность старого разведчика на домашнем полигоне.
Вслух он проговорил:
– Не преувеличивай. Никогда такого не замечал. При мне и Мири и Алекс вели себя вполне благопристойно. И как, по-твоему, его следовало хоронить – с воинскими почестями, на лафете, с оркестром и оружейными залпами? Какая разница, что делают с твоим телом после…
– Нет! – Натан прихлопнул по столу широкой ладонью с тремя обезглавленными пальцами. – Нет! Человеку, благодаря которому государство выиграло свою главную битву – за право быть! – не отдать того, что ему причитается? Не назвать его именем улицу, площадь, школу?!
– Не уверен, что Иммануэлю хотелось бы всего этого, – заметил Леон. – Вовсе не уверен.
Он вспомнил старика уже на колесах, но по-прежнему властного и действительно – громкоголосого («У меня луженая глотка!» – хвастливым тоном), в любом разговоре шутливо-острого. Вот кто не позволял и намека на сентиментальную пошлость, чувствительность или жалость – ни себе, ни окружающим. Да, под конец бывало, что он опять принимался рассказывать какую-нибудь свою давно известную историю, из-за чего Леон все их вызубрил наизусть; вполне возможно, что Мири или Алекс – престарелые его дети, со своими проблемами, болячками и нутьбой – когда-нибудь и могли сказать это самое хватит, перестань, папа, уже все слышали эту майсу[8 - Историю (идиш).]двести раз!.. Но что правда, то правда: мир продолжал крутиться у колес его инвалидного транспорта не только потому, что алкал его миллионов. И два его преданных тайца, Винай и Тассна (мои ужасные нубийцы, называл он их фразой, вычитанной из какой-то дореволюционной книжки для юношества) всегда ненавязчиво и молчаливо присутствовали рядом для любых поручений. Их почему-то считали братьями, хотя они были очень разными: Тассна – высокий, жилистый и гибкий (его всегда хотелось назвать танцором, он и походку имел какую-то ритмичную, и, когда руки бывали свободны, постоянно прищелкивал пальцами, локтями покачивал, поводил плечами). Винай – тот покрепче был, ниже ростом, молчалив и как-то слишком уж цепок: возникал перед тобой внезапно и предупредительно – для любых просьб. Да: для любых поручений и затей.
А как они готовили всю эту морскую разно-прелесть – прекрасно подменяя один другого, как жонглеры с кеглями. Оба великолепные повара, так споро-весело щелкали ножами и тесаками по разделочным доскам, будто чечетку отбивали. И такими ловко-точными, любо-дорого-движениями вбрасывали из ладони куски мяса на сковороду…
В их расчудесном меню было коронное блюдо: салат из холодной говядины. Подавался в широкой и плоской керамической чаше, непременно увенчанный произведением искусства: луковой розой, вырезанной Винаем из головки красного лука.
Считалось, что при них обо всем можно было говорить на иврите – они, мол, понимают только английский (хотя жили в доме Иммануэля последние лет десять). С ними, помнится, все говорили по-английски – прислуга, Мири и Алекс, все внуки Иммануэля и даже его молодая любовница – да-да, была и такая сомнительная фигура в парадоксальные последние годы старика. Недурная, кстати, фигурка, впоследствии изгнанная в пустыню из-за какой-то истории с кредитной карточкой Иммануэля… Кажется, она щедро оплачивала ею расходы своего возлюбленного альфонса, а может, и целого ряда альфонсов, уходящих в зеркальную перспективу. И старик переживал «предательство», как юный брошенный тореро, сидел, нахохлившись, в своем кресле и в один из приездов не постеснялся с горькой ухмылкой сказать двадцатитрехлетнему Леону:
– А что прикажешь делать, если я все еще мужчина? – чем привел того в восторг.
Плевать, конечно, на все похоронные ритуалы и тем более на признание политических заслуг. Вот слушать истории Иммануэля, пусть и повторенные слово в слово, всегда было радостью… Как и просто сидеть у огромных колес его гениального кресла, выписанного по каталогу фирмы одного безумного изобретателя, впоследствии прогоревшего: Иммануэль обожал новшества и наверняка был единственным, кто заочно купил этот дикий, космический по виду агрегат.
Свой дом в Савьоне он почему-то упорно называл «бунгало». В воображении Леона при слове «бунгало» возникала хлипкая приземистая постройка с камышовой крышей. Дом же Иммануэля, выстроенный им когда-то с горделивым размахом в стиле мексиканской гасиенды, хотя и был одноэтажным, но с четырехметровыми потолками, четырьмя великолепными колоннами у входа, с гигантским холлом, чья стеклянная раздвижная стена выходила прямо в просторное, обсаженное старыми пальмами патио с необычно глубоким, как озеро, бассейном.
Сколько же вечеров Леон просидел со стариком у этого бассейна, глядя, как струя электрического света из холла колышется на воде, скользит по стволам, перебирая вееристые листья пальм! Между пальмами расставлены широкие низкие кадки с кустами любимой стариком лаванды («Твоя убогая лаванда, папа! Давно пора посадить тут цветы…» – и цветы были посажены сразу после смерти Иммануэля).
Запах воды, смешанный с запахом лаванды, лунный свет на плитах пола; чувство настоящего дома – то, что со смертью старика утрачено даже в мечтах.
В двенадцать ночи у бассейна возникал один из «ужасных нубийцев» и уносил старика на спине – огромное кресло застревало в дверях спальни. Бывало, являлись вдвоем, ровно в двенадцать – в этом они были неумолимы. Иногда Иммануэль, не оборачиваясь, раздраженно поднимал ладонь, как бы приказывая оставаться на месте, пока он не попрощается с гостем. «Ужасные нубийцы» молча застывали минуты на три – в этом было нечто постановочно-голливудское, – после чего вновь спокойно и настойчиво подступались к старику. Он называл это «передислокацией к ночному горшку».
– Ты останешься ночевать? – каждый раз спрашивал старик уже вполоборота. Маленькая веснушчатая кисть выразительно «крутит штопор». – Цуцик, почему ты никогда не останешься ночевать? Я бы хотел однажды с тобой позавтракать. Что у тебя за вечные привычки полевого агента? Неужели тебе охота мчаться на ночь глядя в Иерусалим? Тебя ждет там женщина? Только ради женщины я мог вскочить и лететь бог знает куда… Но Леон не оставался у него ни разу, это правда.
Впрочем… стоп! Однажды он вломился к Иммануэлю ночью – той ночью, когда не убил Владку, слава богу; не убил мать, а просто выбежал из дому, прыгнул на мотоцикл и, выжигая предельную скорость, чуть не за полчаса примчался к Иммануэлю. Тот уже лежал в кровати, но еще не спал – читал в свете настольной лампы. И даже не вздрогнул, когда Леон возник в дверях. Просто молча смотрел поверх очков, как тот шагнул в комнату, рухнул на низкий пуф напротив и мучительно выхаркнул:
– Я – араб…
Тогда старик улыбнулся (и эту улыбку забыть невозможно, она парит над всей жизнью: конопатая старческая улыбка, отменяющая вздор, пошлость и жестокость этого мира), помолчал, легонько кивая каким-то своим мыслям, и домашним уютным тоном, сминающим мотоциклетный надрыв, задумчиво проговорил:
– Так вот от кого она тебя родила…
Итак, два верных «ужасных нубийца» уносили старика на плечах… Прежде чем пересечь холл и по мраморным ступеням спуститься в ночной сад, изысканно подсвеченный фонариками, Леон несколько мгновений стоял и смотрел вслед этой процессии: в ней было что-то из обихода цезарей…
Когда они оставались вдвоем, Иммануэль переходил на русский. Великая штука – родной язык, говорил он, черт бы его побрал! Родной язык… его хочется держать во рту и посасывать слоги, как дегустатор слагает подробности аромата винного букета, лаская его послевкусие. Хочется ворочать камешки согласных между щек, а гласные глотать по капле, и чтобы смысл иных слов уходил глубоко в землю, как весенние ливни в горах…
Он по-прежнему много читал по-русски, поэтому сохранил язык, хотя говорил с небольшим акцентом, но говорил ярко, запальчиво, иногда неуместно-цветисто, немного книжно, пересыпая вполне культурный текст занозистыми харьковскими словечками и ругательствами: «сявка», «ракло», «раклица»…
Так вот, байки Иммануэля. Особенно та, молитвенно-бордельная, под летящим косым венецианским снегом:
– В ноябре сорок седьмого, суч-потрох, да! В ту осень ООН приняла резолюцию о создании государства: ноябрь сорок седьмого. Как топором по шее! И башка моя слетела к чертям – я был счастлив, суч-потрох! Мы с Шифрой тогда приехали из Лондона в Париж проведать Алекса – ему исполнилось тринадцать, он учился в закрытом пансионе, который стоил нам кучу денег. Но я никогда не думал о деньгах. Я всю жизнь делал их, и порой делал из ничего, но никогда им не служил и не позволял, чтобы они как-то влияли на мое отношение к близким и друзьям, да и к себе самому. Короче, это был самый счастливый день моей жизни – когда я узнал, что у нас будет своя Страна… И сразу же тут началась бойня – арабы не могли допустить подобного оскорбления, мы были как чирей у них на заднице – и не сядешь, и не вырежешь. А мы были голы и босы в своем торжестве, и чресла препоясаны ветошью… Ну, не совсем, конечно, ветошью – Хагана перед этим уже подсобрала оружия, но все оно было таким пестрым – и по калибрам, и по моделям, и по возрасту: финские «суоми», американские «томпсоны», британские «стэны» – их покупали у арабских контрабандистов или просто воровали с британских складов… Но этого было недостаточно! Арабская саранча прет со всех сторон, а у нас кривая берданка и фанерный грузовичок, суч-потрох! Плюс эмбарго на поставку оружия в наши края, которое поспешили наложить американцы, – лучше бы они в штаны себе наложили! А, скажу тебе, к тому времени я месяца три уже как был стерлинговым миллионером – благодаря той исключительной афере с закупкой хлопка в Египте. Я тебе о ней рассказывал? Так послушай еще раз, это просто менуэт, сарабанда, мазурка! В Палестине были текстильные предприятия, но не было пряжи. Зато в Египте было столько хлопка, что там не знали, куда его девать, хоть подтирайся им. Ну, а в Италии – ты следишь за пируэтом? – в Италии Муссолини перед войной создал мощную текстильную промышленность. Так что я сложил два и два, впендюрил в дело весь мой капитал – на тот день у меня было аж восемь тысяч фунтов стерлингов! – и запустил этот маховик: сырье из Египта в Италию, из Италии пряжу – в Палестину, контрабандой. Разворот, поклон, пары сходятся… Риск был колоссальный! Почтенные деловики смотрели на меня, как на олуха царя небесного, пальцами крутили у виска. Но уже в апреле сорок шестого я был тем, чем был, – коротышкой с миллионом в кармане. Правда, только с единственным миллионом, но это казалось огромными деньгами, и я сам себе выглядел королем и даже чуток подрос, а? А тут – своя Страна, и своя война, и своя кровь льется такой широкой рекой, что эта самая страна вот-вот захлебнется. Я был как одержимый: ехать, сражаться, суч-потрох!.. Но мне нашли другое применение. Мне позвонили ночью. Причем, не застав меня в отеле, обзвонили по цепочке всех моих знакомых и – это я узнал позже – прочесали все злачные места, где я любил тогда бывать: в «Ля Куполь», и «Ле Дом» и «Ля Тур д’Аржан». Но накрыли меня в «Мерисе»… Это был один из самых шикарных ресторанов: в отеле «Мерис». Там подавали дивную рыбу – тюрбо, например, – ну, и омаров, лангустов и отличных устриц… Почему помню так ясно? Потому что встретил там Дали. Он любил останавливаться в «Мерисе» и частенько там же обедал – деньжата у него водились, папаша его был небедным человеком…
…Кстати, я рассказывал тебе, цуцик, что был на том знаменитом обеде у Поля Элюара и Макса Эрнста, с которого Дали увел Галу? И Эрнст и Элюар в то время жили с ней – оба. Такие связи были не то что приняты, но как-то вполне проглатывались обществом. Дали был приглашен туда среди прочих и, отобедав, преспокойно увел Галу – навсегда.
Так вот, как только я приметил их в «Мерисе», мне стало интересно, что заказывает себе в подобных заведениях такой чокнутый оригинал. Между прочим, никогда не считал его хорошим художником. Он был шоуменом, клоуном, возмутителем нравов, но, в конечном счете, прежде всего расчетливым дельцом… Я поднялся и направился в мужскую комнату мимо их столика – я был страшно любопытен. Гала разделывалась с устрицами, Дали ел йогурт! Ложечкой. Между прочим, к твоему сведению, йогурты во Франции появились с легкой руки некоего Исаака Карассо и поначалу продавались в аптеках – индустрия возникла позже, компания называлась «Данон»… Так вот, когда я вернулся из мужской комнаты, ко мне подошел официант и пригласил к телефону. Звонил Ицхак Бен-Цви, один из тех, кто тогда метался в Палестине от одной бреши к другой, пытаясь закрыть их чуть ли не собственным телом. Он был дико напряжен, усталый, взвинченный. Сказал: Иммануэль, срочно нужны деньги на закупку оружия. Русские дали добро, хотя прямые поставки из Москвы исключены. Оно пойдет из Чехословакии, оружие – частью трофейное, германских образцов.
Я подумал: что за дивная шутка нашего Боженьки – дать нам в руки бесхозное нацистское оружие, чтобы мы сражались им за свою страну.
– У меня на счету только миллион, – сказал я. – Сколько вам нужно?
Он воскликнул:
– И ты спрашиваешь?! Есть миллион – значит, понадобится как раз миллион…
Я сказал ему, что не могу такие вопросы решать один и должен посоветоваться с Шифрой. И сразу же позвонил ей в отель. Она спала – она вообще не была любительницей ночных ресторанов и спать укладывалась рано.
– Шифра, сердце мое, – сказал я. – Мне необходимо снять со счета все наши деньги… Она спросила заспанным голосом:
– И для этого ты разбудил меня среди ночи? Ты что, забыл номер нашего швейцарского счета, Иммануэль?
Вот какая это была женщина – моя Шифра: благородство, широта и… и полное отсутствие ревности! Да! После войны Европа была просто огромной свалкой оружия, в большинстве своем трофейного, нацистского. Ходи и подбирай, только плати, конечно, плати и плати! В те годы я мог любое дело прокрутить. Идеи распирали черепушку, а энергии было столько, что частенько я куролесил трое суток без сна, а на четвертые лишь удивлялся, почему кофе уже не слишком меня бодрит. И машина завертелась, и я был счастлив, суч-потрох! Я был в своей стихии! Знаешь, я втайне всегда считал себя человеком криминального сознания, не смейся! Так вот, моей задачей была режиссура: фальшивые документы, встречи с нужными людьми, покупка списанных посудин – этим мы промышляли в портах Греции… Та еще карусель крутилась: оружие из Чехословакии загружалось в югославском Сплите, экипаж сколачивали из итальянцев. Уже первый пароход вез в Тель-Авив шестьсот тонн оружия. Мы рассовали его по разным грузам в разобранном виде: в компрессоры, бетономешалки, катки… И Бог был на нашей стороне – Ему, видимо, до зарезу понадобился в личное владение этот клочок земли; как говорил мой харьковский дед, «иметь куда поставить ногу»… Это было дело, серьезное дело: первый же контракт – пять тысяч винтовок, двадцать пулеметов, пять миллионов патронов, даже два почти «мессершмитта»… Спроси меня: почему – почти? Просто они собирались в Чехословакии из разрозненных узлов от германских истребителей, и двигатели на них пришлось ставить менее мощные. Кроме того, я умудрился закупить в Великобритании четыре истребителя «бофайтер»! Спроси меня – как? От имени новозеландской кинокомпании: «Уважаемый сэр, для съемок фильма о подвигах новозеландских летчиков в войне на Тихом океане…» – до сих пор горжусь этой легендой.
Но однажды, не помню уже – почему, крупную партию винтовок, пулеметов и гранат я отправлял пароходом из порта Венеции. И был очень неспокоен: время зимнее, море опасное, а посудина – двести раз перелатанная халабуда. Имя ей было «Победительница Адель», ни больше ни меньше, суч-потрох, и выглядела она в точности как пожилая шлюха из нахичеванского борделя после урожайной ночи.
И вот я стоял на причале венецианского порта в пять утра, в длинном теплом пальто с поднятым воротником, и смотрел, как команда отдает швартовы и как, кренясь на волнах, «Победительница Адель» колченогой шлюхой удаляется в зимний туман лагуны. Пошел снег, а я забыл шляпу в отеле. В считаные минуты моя шевелюра (ты веришь, что когда-то у меня была недурная рыжая шевелюра?) осела под копной мокрого снега…
И когда, зарываясь носом в свинцовые воды лагуны, пароход скрылся из виду, я понял, что должен помолиться за его благополучное прибытие! Но до гетто было далеко, а тащиться через весь город к еврейскому Богу даже за таким важным делом… Я оглянулся и увидел, что на углу площади служка в коричневой рясе с капюшоном отворяет двери церквушки. И подумал – если Бог есть, он есть всюду. И вошел, и помолился, и – суч-потрох! трижды суч-потрох!!! – корабль таки дошел!
* * *
На эстраду скользнул пианист – узкий, как змейка, одетый в тон роялю: в белые джинсы, светлую майку. Даже волосы его, цвета густых сливок, выглядели, как подкрашенные. И незаметно, вначале пианиссимо, затем чуть настойчивей зазвучало попурри из мелодий Гудмена, Бернстайна, Копленда – все меланхоличные и расслабляющие. В этом заведении музыка не должна была ни задевать, ни вторгаться в разговоры обедающих. Спокойный уютный фон, не более того.
Леон смотрел на невозмутимого, будто стерильного джазиста, развлекавшего прохладным дневным джазом ресторанную публику, а видел Дикого Ури, ударника в джазовом трио, что въяривал в крошечном клубе на задворках иерусалимского района Бако.
Религиозный еврей в традиционном прикиде, включая шляпу, лохматые пейсы, обширную дикую бороду, не знавшую бритвы, и свисавшие вдоль колен длинные нити нагрудного талеса. В дни, когда он «сидел на ударе», в двадцатиметровую комнату клуба набивалось столько желающих его послушать, что трудно было вздохнуть. Все стояли, потому что так втискивалось больше народу, – стояли впритирку друг к другу и ждали солоимпровизации Дикого Ури.
После длинного любовного изъяснения очень недурного саксофона Ури брал крошечную тревожную паузу… и вступал!
Главным плацдармом его летающих, грозных и хлестких, мягких и нежных рук был огромный барабан, который в наших краях называют «тарабукой». Что эти руки вытворяли! Гром и плеск, шепот и дробот, чечетка, шорох и ласка, и даже невероятное – звук льющейся воды, а также звонкие голоса птиц, сон, дуновение ветра, умирание последнего луча… И вдруг – шквал налетевшей грозы: удары безжалостного грома, треск падающих деревьев, столпотворение, вопли, битва в конце времен – и ослепительный конец света в медном ореоле двух грянувших друг о друга тарелок, которые Дикий Ури как бы отшвыривал от себя в неистовом прощании с миром…
– Ты чему улыбаешься? – спросил Натан.
– Да так… Вспомнил случай, когда Иммануэль молился в венецианской церкви за благополучный рейс «Победительницы Адели»… Если не ошибаюсь, после молитвы он отправился в бордель?
Натан хмыкнул.
– Причем можно поспорить, что сделал раньше. Мне он говорил: «Я так нервничал, доползет ли до наших палестин эта старая калоша… Необходимо было отвлечься».
– Я вот только не в курсе, – все так же, на улыбке продолжал Леон безмятежным тоном, – занимался он оружием в последние годы? Он ведь успешно вкладывал деньги в самые разные проекты, а? Были среди них… э-э… стратегические?
Интересно, подумал Калдман, почему он заговорил именно о стратегических проектах Иммануэля? Я ведь ни словом… Чертовское чувствилище! Неужели сразу понял, что…
Вслух он проговорил:
– Не преувеличивай. Никогда такого не замечал. При мне и Мири и Алекс вели себя вполне благопристойно. И как, по-твоему, его следовало хоронить – с воинскими почестями, на лафете, с оркестром и оружейными залпами? Какая разница, что делают с твоим телом после…
– Нет! – Натан прихлопнул по столу широкой ладонью с тремя обезглавленными пальцами. – Нет! Человеку, благодаря которому государство выиграло свою главную битву – за право быть! – не отдать того, что ему причитается? Не назвать его именем улицу, площадь, школу?!
– Не уверен, что Иммануэлю хотелось бы всего этого, – заметил Леон. – Вовсе не уверен.
Он вспомнил старика уже на колесах, но по-прежнему властного и действительно – громкоголосого («У меня луженая глотка!» – хвастливым тоном), в любом разговоре шутливо-острого. Вот кто не позволял и намека на сентиментальную пошлость, чувствительность или жалость – ни себе, ни окружающим. Да, под конец бывало, что он опять принимался рассказывать какую-нибудь свою давно известную историю, из-за чего Леон все их вызубрил наизусть; вполне возможно, что Мири или Алекс – престарелые его дети, со своими проблемами, болячками и нутьбой – когда-нибудь и могли сказать это самое хватит, перестань, папа, уже все слышали эту майсу[8 - Историю (идиш).]двести раз!.. Но что правда, то правда: мир продолжал крутиться у колес его инвалидного транспорта не только потому, что алкал его миллионов. И два его преданных тайца, Винай и Тассна (мои ужасные нубийцы, называл он их фразой, вычитанной из какой-то дореволюционной книжки для юношества) всегда ненавязчиво и молчаливо присутствовали рядом для любых поручений. Их почему-то считали братьями, хотя они были очень разными: Тассна – высокий, жилистый и гибкий (его всегда хотелось назвать танцором, он и походку имел какую-то ритмичную, и, когда руки бывали свободны, постоянно прищелкивал пальцами, локтями покачивал, поводил плечами). Винай – тот покрепче был, ниже ростом, молчалив и как-то слишком уж цепок: возникал перед тобой внезапно и предупредительно – для любых просьб. Да: для любых поручений и затей.
А как они готовили всю эту морскую разно-прелесть – прекрасно подменяя один другого, как жонглеры с кеглями. Оба великолепные повара, так споро-весело щелкали ножами и тесаками по разделочным доскам, будто чечетку отбивали. И такими ловко-точными, любо-дорого-движениями вбрасывали из ладони куски мяса на сковороду…
В их расчудесном меню было коронное блюдо: салат из холодной говядины. Подавался в широкой и плоской керамической чаше, непременно увенчанный произведением искусства: луковой розой, вырезанной Винаем из головки красного лука.
Считалось, что при них обо всем можно было говорить на иврите – они, мол, понимают только английский (хотя жили в доме Иммануэля последние лет десять). С ними, помнится, все говорили по-английски – прислуга, Мири и Алекс, все внуки Иммануэля и даже его молодая любовница – да-да, была и такая сомнительная фигура в парадоксальные последние годы старика. Недурная, кстати, фигурка, впоследствии изгнанная в пустыню из-за какой-то истории с кредитной карточкой Иммануэля… Кажется, она щедро оплачивала ею расходы своего возлюбленного альфонса, а может, и целого ряда альфонсов, уходящих в зеркальную перспективу. И старик переживал «предательство», как юный брошенный тореро, сидел, нахохлившись, в своем кресле и в один из приездов не постеснялся с горькой ухмылкой сказать двадцатитрехлетнему Леону:
– А что прикажешь делать, если я все еще мужчина? – чем привел того в восторг.
Плевать, конечно, на все похоронные ритуалы и тем более на признание политических заслуг. Вот слушать истории Иммануэля, пусть и повторенные слово в слово, всегда было радостью… Как и просто сидеть у огромных колес его гениального кресла, выписанного по каталогу фирмы одного безумного изобретателя, впоследствии прогоревшего: Иммануэль обожал новшества и наверняка был единственным, кто заочно купил этот дикий, космический по виду агрегат.
Свой дом в Савьоне он почему-то упорно называл «бунгало». В воображении Леона при слове «бунгало» возникала хлипкая приземистая постройка с камышовой крышей. Дом же Иммануэля, выстроенный им когда-то с горделивым размахом в стиле мексиканской гасиенды, хотя и был одноэтажным, но с четырехметровыми потолками, четырьмя великолепными колоннами у входа, с гигантским холлом, чья стеклянная раздвижная стена выходила прямо в просторное, обсаженное старыми пальмами патио с необычно глубоким, как озеро, бассейном.
Сколько же вечеров Леон просидел со стариком у этого бассейна, глядя, как струя электрического света из холла колышется на воде, скользит по стволам, перебирая вееристые листья пальм! Между пальмами расставлены широкие низкие кадки с кустами любимой стариком лаванды («Твоя убогая лаванда, папа! Давно пора посадить тут цветы…» – и цветы были посажены сразу после смерти Иммануэля).
Запах воды, смешанный с запахом лаванды, лунный свет на плитах пола; чувство настоящего дома – то, что со смертью старика утрачено даже в мечтах.
В двенадцать ночи у бассейна возникал один из «ужасных нубийцев» и уносил старика на спине – огромное кресло застревало в дверях спальни. Бывало, являлись вдвоем, ровно в двенадцать – в этом они были неумолимы. Иногда Иммануэль, не оборачиваясь, раздраженно поднимал ладонь, как бы приказывая оставаться на месте, пока он не попрощается с гостем. «Ужасные нубийцы» молча застывали минуты на три – в этом было нечто постановочно-голливудское, – после чего вновь спокойно и настойчиво подступались к старику. Он называл это «передислокацией к ночному горшку».
– Ты останешься ночевать? – каждый раз спрашивал старик уже вполоборота. Маленькая веснушчатая кисть выразительно «крутит штопор». – Цуцик, почему ты никогда не останешься ночевать? Я бы хотел однажды с тобой позавтракать. Что у тебя за вечные привычки полевого агента? Неужели тебе охота мчаться на ночь глядя в Иерусалим? Тебя ждет там женщина? Только ради женщины я мог вскочить и лететь бог знает куда… Но Леон не оставался у него ни разу, это правда.
Впрочем… стоп! Однажды он вломился к Иммануэлю ночью – той ночью, когда не убил Владку, слава богу; не убил мать, а просто выбежал из дому, прыгнул на мотоцикл и, выжигая предельную скорость, чуть не за полчаса примчался к Иммануэлю. Тот уже лежал в кровати, но еще не спал – читал в свете настольной лампы. И даже не вздрогнул, когда Леон возник в дверях. Просто молча смотрел поверх очков, как тот шагнул в комнату, рухнул на низкий пуф напротив и мучительно выхаркнул:
– Я – араб…
Тогда старик улыбнулся (и эту улыбку забыть невозможно, она парит над всей жизнью: конопатая старческая улыбка, отменяющая вздор, пошлость и жестокость этого мира), помолчал, легонько кивая каким-то своим мыслям, и домашним уютным тоном, сминающим мотоциклетный надрыв, задумчиво проговорил:
– Так вот от кого она тебя родила…
Итак, два верных «ужасных нубийца» уносили старика на плечах… Прежде чем пересечь холл и по мраморным ступеням спуститься в ночной сад, изысканно подсвеченный фонариками, Леон несколько мгновений стоял и смотрел вслед этой процессии: в ней было что-то из обихода цезарей…
Когда они оставались вдвоем, Иммануэль переходил на русский. Великая штука – родной язык, говорил он, черт бы его побрал! Родной язык… его хочется держать во рту и посасывать слоги, как дегустатор слагает подробности аромата винного букета, лаская его послевкусие. Хочется ворочать камешки согласных между щек, а гласные глотать по капле, и чтобы смысл иных слов уходил глубоко в землю, как весенние ливни в горах…
Он по-прежнему много читал по-русски, поэтому сохранил язык, хотя говорил с небольшим акцентом, но говорил ярко, запальчиво, иногда неуместно-цветисто, немного книжно, пересыпая вполне культурный текст занозистыми харьковскими словечками и ругательствами: «сявка», «ракло», «раклица»…
Так вот, байки Иммануэля. Особенно та, молитвенно-бордельная, под летящим косым венецианским снегом:
– В ноябре сорок седьмого, суч-потрох, да! В ту осень ООН приняла резолюцию о создании государства: ноябрь сорок седьмого. Как топором по шее! И башка моя слетела к чертям – я был счастлив, суч-потрох! Мы с Шифрой тогда приехали из Лондона в Париж проведать Алекса – ему исполнилось тринадцать, он учился в закрытом пансионе, который стоил нам кучу денег. Но я никогда не думал о деньгах. Я всю жизнь делал их, и порой делал из ничего, но никогда им не служил и не позволял, чтобы они как-то влияли на мое отношение к близким и друзьям, да и к себе самому. Короче, это был самый счастливый день моей жизни – когда я узнал, что у нас будет своя Страна… И сразу же тут началась бойня – арабы не могли допустить подобного оскорбления, мы были как чирей у них на заднице – и не сядешь, и не вырежешь. А мы были голы и босы в своем торжестве, и чресла препоясаны ветошью… Ну, не совсем, конечно, ветошью – Хагана перед этим уже подсобрала оружия, но все оно было таким пестрым – и по калибрам, и по моделям, и по возрасту: финские «суоми», американские «томпсоны», британские «стэны» – их покупали у арабских контрабандистов или просто воровали с британских складов… Но этого было недостаточно! Арабская саранча прет со всех сторон, а у нас кривая берданка и фанерный грузовичок, суч-потрох! Плюс эмбарго на поставку оружия в наши края, которое поспешили наложить американцы, – лучше бы они в штаны себе наложили! А, скажу тебе, к тому времени я месяца три уже как был стерлинговым миллионером – благодаря той исключительной афере с закупкой хлопка в Египте. Я тебе о ней рассказывал? Так послушай еще раз, это просто менуэт, сарабанда, мазурка! В Палестине были текстильные предприятия, но не было пряжи. Зато в Египте было столько хлопка, что там не знали, куда его девать, хоть подтирайся им. Ну, а в Италии – ты следишь за пируэтом? – в Италии Муссолини перед войной создал мощную текстильную промышленность. Так что я сложил два и два, впендюрил в дело весь мой капитал – на тот день у меня было аж восемь тысяч фунтов стерлингов! – и запустил этот маховик: сырье из Египта в Италию, из Италии пряжу – в Палестину, контрабандой. Разворот, поклон, пары сходятся… Риск был колоссальный! Почтенные деловики смотрели на меня, как на олуха царя небесного, пальцами крутили у виска. Но уже в апреле сорок шестого я был тем, чем был, – коротышкой с миллионом в кармане. Правда, только с единственным миллионом, но это казалось огромными деньгами, и я сам себе выглядел королем и даже чуток подрос, а? А тут – своя Страна, и своя война, и своя кровь льется такой широкой рекой, что эта самая страна вот-вот захлебнется. Я был как одержимый: ехать, сражаться, суч-потрох!.. Но мне нашли другое применение. Мне позвонили ночью. Причем, не застав меня в отеле, обзвонили по цепочке всех моих знакомых и – это я узнал позже – прочесали все злачные места, где я любил тогда бывать: в «Ля Куполь», и «Ле Дом» и «Ля Тур д’Аржан». Но накрыли меня в «Мерисе»… Это был один из самых шикарных ресторанов: в отеле «Мерис». Там подавали дивную рыбу – тюрбо, например, – ну, и омаров, лангустов и отличных устриц… Почему помню так ясно? Потому что встретил там Дали. Он любил останавливаться в «Мерисе» и частенько там же обедал – деньжата у него водились, папаша его был небедным человеком…
…Кстати, я рассказывал тебе, цуцик, что был на том знаменитом обеде у Поля Элюара и Макса Эрнста, с которого Дали увел Галу? И Эрнст и Элюар в то время жили с ней – оба. Такие связи были не то что приняты, но как-то вполне проглатывались обществом. Дали был приглашен туда среди прочих и, отобедав, преспокойно увел Галу – навсегда.
Так вот, как только я приметил их в «Мерисе», мне стало интересно, что заказывает себе в подобных заведениях такой чокнутый оригинал. Между прочим, никогда не считал его хорошим художником. Он был шоуменом, клоуном, возмутителем нравов, но, в конечном счете, прежде всего расчетливым дельцом… Я поднялся и направился в мужскую комнату мимо их столика – я был страшно любопытен. Гала разделывалась с устрицами, Дали ел йогурт! Ложечкой. Между прочим, к твоему сведению, йогурты во Франции появились с легкой руки некоего Исаака Карассо и поначалу продавались в аптеках – индустрия возникла позже, компания называлась «Данон»… Так вот, когда я вернулся из мужской комнаты, ко мне подошел официант и пригласил к телефону. Звонил Ицхак Бен-Цви, один из тех, кто тогда метался в Палестине от одной бреши к другой, пытаясь закрыть их чуть ли не собственным телом. Он был дико напряжен, усталый, взвинченный. Сказал: Иммануэль, срочно нужны деньги на закупку оружия. Русские дали добро, хотя прямые поставки из Москвы исключены. Оно пойдет из Чехословакии, оружие – частью трофейное, германских образцов.
Я подумал: что за дивная шутка нашего Боженьки – дать нам в руки бесхозное нацистское оружие, чтобы мы сражались им за свою страну.
– У меня на счету только миллион, – сказал я. – Сколько вам нужно?
Он воскликнул:
– И ты спрашиваешь?! Есть миллион – значит, понадобится как раз миллион…
Я сказал ему, что не могу такие вопросы решать один и должен посоветоваться с Шифрой. И сразу же позвонил ей в отель. Она спала – она вообще не была любительницей ночных ресторанов и спать укладывалась рано.
– Шифра, сердце мое, – сказал я. – Мне необходимо снять со счета все наши деньги… Она спросила заспанным голосом:
– И для этого ты разбудил меня среди ночи? Ты что, забыл номер нашего швейцарского счета, Иммануэль?
Вот какая это была женщина – моя Шифра: благородство, широта и… и полное отсутствие ревности! Да! После войны Европа была просто огромной свалкой оружия, в большинстве своем трофейного, нацистского. Ходи и подбирай, только плати, конечно, плати и плати! В те годы я мог любое дело прокрутить. Идеи распирали черепушку, а энергии было столько, что частенько я куролесил трое суток без сна, а на четвертые лишь удивлялся, почему кофе уже не слишком меня бодрит. И машина завертелась, и я был счастлив, суч-потрох! Я был в своей стихии! Знаешь, я втайне всегда считал себя человеком криминального сознания, не смейся! Так вот, моей задачей была режиссура: фальшивые документы, встречи с нужными людьми, покупка списанных посудин – этим мы промышляли в портах Греции… Та еще карусель крутилась: оружие из Чехословакии загружалось в югославском Сплите, экипаж сколачивали из итальянцев. Уже первый пароход вез в Тель-Авив шестьсот тонн оружия. Мы рассовали его по разным грузам в разобранном виде: в компрессоры, бетономешалки, катки… И Бог был на нашей стороне – Ему, видимо, до зарезу понадобился в личное владение этот клочок земли; как говорил мой харьковский дед, «иметь куда поставить ногу»… Это было дело, серьезное дело: первый же контракт – пять тысяч винтовок, двадцать пулеметов, пять миллионов патронов, даже два почти «мессершмитта»… Спроси меня: почему – почти? Просто они собирались в Чехословакии из разрозненных узлов от германских истребителей, и двигатели на них пришлось ставить менее мощные. Кроме того, я умудрился закупить в Великобритании четыре истребителя «бофайтер»! Спроси меня – как? От имени новозеландской кинокомпании: «Уважаемый сэр, для съемок фильма о подвигах новозеландских летчиков в войне на Тихом океане…» – до сих пор горжусь этой легендой.
Но однажды, не помню уже – почему, крупную партию винтовок, пулеметов и гранат я отправлял пароходом из порта Венеции. И был очень неспокоен: время зимнее, море опасное, а посудина – двести раз перелатанная халабуда. Имя ей было «Победительница Адель», ни больше ни меньше, суч-потрох, и выглядела она в точности как пожилая шлюха из нахичеванского борделя после урожайной ночи.
И вот я стоял на причале венецианского порта в пять утра, в длинном теплом пальто с поднятым воротником, и смотрел, как команда отдает швартовы и как, кренясь на волнах, «Победительница Адель» колченогой шлюхой удаляется в зимний туман лагуны. Пошел снег, а я забыл шляпу в отеле. В считаные минуты моя шевелюра (ты веришь, что когда-то у меня была недурная рыжая шевелюра?) осела под копной мокрого снега…
И когда, зарываясь носом в свинцовые воды лагуны, пароход скрылся из виду, я понял, что должен помолиться за его благополучное прибытие! Но до гетто было далеко, а тащиться через весь город к еврейскому Богу даже за таким важным делом… Я оглянулся и увидел, что на углу площади служка в коричневой рясе с капюшоном отворяет двери церквушки. И подумал – если Бог есть, он есть всюду. И вошел, и помолился, и – суч-потрох! трижды суч-потрох!!! – корабль таки дошел!
* * *
На эстраду скользнул пианист – узкий, как змейка, одетый в тон роялю: в белые джинсы, светлую майку. Даже волосы его, цвета густых сливок, выглядели, как подкрашенные. И незаметно, вначале пианиссимо, затем чуть настойчивей зазвучало попурри из мелодий Гудмена, Бернстайна, Копленда – все меланхоличные и расслабляющие. В этом заведении музыка не должна была ни задевать, ни вторгаться в разговоры обедающих. Спокойный уютный фон, не более того.
Леон смотрел на невозмутимого, будто стерильного джазиста, развлекавшего прохладным дневным джазом ресторанную публику, а видел Дикого Ури, ударника в джазовом трио, что въяривал в крошечном клубе на задворках иерусалимского района Бако.
Религиозный еврей в традиционном прикиде, включая шляпу, лохматые пейсы, обширную дикую бороду, не знавшую бритвы, и свисавшие вдоль колен длинные нити нагрудного талеса. В дни, когда он «сидел на ударе», в двадцатиметровую комнату клуба набивалось столько желающих его послушать, что трудно было вздохнуть. Все стояли, потому что так втискивалось больше народу, – стояли впритирку друг к другу и ждали солоимпровизации Дикого Ури.
После длинного любовного изъяснения очень недурного саксофона Ури брал крошечную тревожную паузу… и вступал!
Главным плацдармом его летающих, грозных и хлестких, мягких и нежных рук был огромный барабан, который в наших краях называют «тарабукой». Что эти руки вытворяли! Гром и плеск, шепот и дробот, чечетка, шорох и ласка, и даже невероятное – звук льющейся воды, а также звонкие голоса птиц, сон, дуновение ветра, умирание последнего луча… И вдруг – шквал налетевшей грозы: удары безжалостного грома, треск падающих деревьев, столпотворение, вопли, битва в конце времен – и ослепительный конец света в медном ореоле двух грянувших друг о друга тарелок, которые Дикий Ури как бы отшвыривал от себя в неистовом прощании с миром…
– Ты чему улыбаешься? – спросил Натан.
– Да так… Вспомнил случай, когда Иммануэль молился в венецианской церкви за благополучный рейс «Победительницы Адели»… Если не ошибаюсь, после молитвы он отправился в бордель?
Натан хмыкнул.
– Причем можно поспорить, что сделал раньше. Мне он говорил: «Я так нервничал, доползет ли до наших палестин эта старая калоша… Необходимо было отвлечься».
– Я вот только не в курсе, – все так же, на улыбке продолжал Леон безмятежным тоном, – занимался он оружием в последние годы? Он ведь успешно вкладывал деньги в самые разные проекты, а? Были среди них… э-э… стратегические?
Интересно, подумал Калдман, почему он заговорил именно о стратегических проектах Иммануэля? Я ведь ни словом… Чертовское чувствилище! Неужели сразу понял, что…