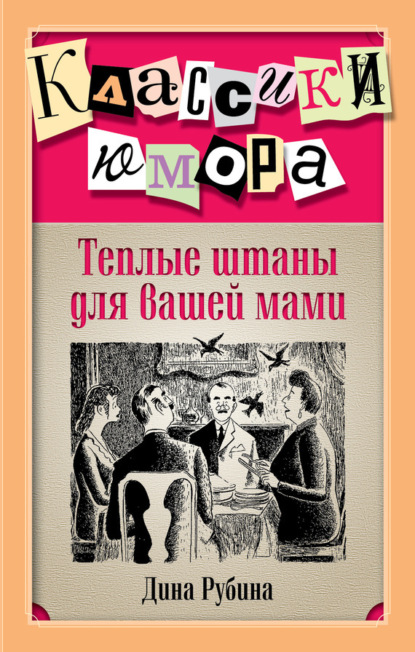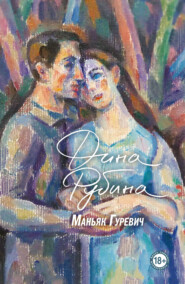По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Теплые штаны для вашей мами (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну не ваша же! – с усталой досадой проговорила старуха.
* * *
С твердой хозяйственной сумкой производства Янгиюльской кожгалантерейной фабрики мы с мамой шли получать гонорар в кассе киностудии.
В сумке лежали: старые газеты «Комсомолец Узбекистана», кухонное полотенце и буханка хлеба.
– Сумму заворачиваем в носовой платок, – говорила мама тихо, с конспиративным напором, оглядываясь поминутно как бы на возможных преследователей. Так старательно и серьезно студенты актерского факультета отрабатывают этюд на тему «погоня». – Сумму в платок, потом в полотенце, кладем на дно, сверху придавливаем буханкой…
То, что деньги мама называла «суммой», тоже являлось деталью торжественного действа, в которое моя артистичная мать любовно наряжала обыденность нашей жизни. Я никогда ей в этом не мешала, понимая, что каждый имеет право наряжать жизнь по своему вкусу.
В одном из тесных коридоров «Узбекфильма» уже стояла маленькая плотная, словно литая, очередь к окошку кассы. Крайней оказалась Анжелла.
– Ну, прочухалась? – громко и дружелюбно проговорила она. – Башли-то получать охота?
Движением кисти она метнула паспорт на широкий облупленный подоконник кассы – так старый картежник сдает колоду. Расписалась в выдвинутой углом из окна ведомости и приняла от кассирши пачку сотенных.
– Вот так-то, лапа, – нежно-покровительственно проговорила она, уступая мне место у окошка. – Когда-нибудь и я тебе что-то хорошее сделаю.
Эта древняя простота грабежа изумила меня, лишила дара речи, свела скулы дикой кислятиной.
Машинально я расписалась в ведомости, машинально, с извиняющимся лицом – не в силах побороть смутного чувства незаслуженности огромных денег, доставшихся, как говаривала моя бабушка, «на дурнычку», – оставила кассирше на подоконнике двадцать рублей, хвостик гонорара.
Всегда оставляй что-то кассиру, учил меня мой папа, человек тоже не дельной профессии, художник (о, бесполезность всей моей породы!), рука дающего не оскудеет…
Я отдала деньги маме, стерегущей меня в двух шагах от кассы. С тем же торжественно-деятельным лицом, прижимая к сердцу хозяйственную сумку, она стала спрашивать каких-то молодых актрис, где тут туалет, всем видом намекая, что туалет ей нужен не за естественной надобностью, а для дела конспиративной важности. В другое время я покорно поплелась бы за ней в туалет, следуя своим правилам – не мешать никому обряжать жизнь в театральные одежды, и топталась бы рядом, пока она заворачивает эти деньги в платок и придавливает их буханкой хлеба… но скулы мои все еще были сведены отвратительной кислятиной от дружелюбного насилия, и я сказала:
– Оставь, ради бога. – И пошла к выходу во двор…
Эти деньги меня уже не интересовали.
Вообще там, наверху – по моему ведомству, – всегда заботились о том, чтобы я понимала смысл копейки. А поскольку от природы я – мотало, то для такого понимания приходилось меня тяжко учить. Полагаю, выдумывание принудительных работ входило в обязанности моего ангела-хранителя. Это он выписывал наряды.
Например, в молодости, получая приличные гонорары за перевод романов узбекских писателей, я одновременно за сто двенадцать рублей в месяц мучительно преподавала в Институте культуры такую дисциплину – аккомпанемент.
Ездила далеко, двумя трамваями, четыре раза в неделю и занималась добросовестно и строго с юными пастухами, которых ежегодно рекрутировала по горным кишлакам приемная комиссия Института культуры.
Узбекский народ очень музыкален. Любой узбек сызмальства играет на рубабе или гиджаке, на карнае, сурнае, дойре.
Так что набрать группу абитуриентов на факультет народных инструментов не составит труда, даже если члены приемной комиссии, командированной в высокогорные кишлаки, все свое рабочее время проведут в застольях. В данном случае это даже неплохо, так как большой «той» всегда сопровождает игра музыкантов. Сиди себе на расстеленных «курпачах», потягивай водку из пиалы и указывай пальцем на какого-нибудь юного рубаиста.
Отобранные приемной комиссией дети горных пастбищ приезжали в двухмиллионный город – беломраморную столицу советского ханства, – который оглушал и за пять лет растлевал их беззащитные души до нравственной трухи. Голубые купола одноименного кафе заслоняли купол мечети; с патриархальными устоями расправлялись обычно к концу второго семестра, отсиживая очередь на уколы в приемной венеролога.
По замыслу чиновников министерства эти обогащенные духовными богатствами мировой культуры пастухи обязаны были вернуться в родные места, чтобы затем в должности худрука в сельском клубе способствовать просвещению масс.
Но – огни большого города… Всеми пальцами повисшего над пропастью пастуха, до судорог эти ребята цеплялись за чудно бренчащую жизнь, и в результате оставались в городе почти все.
Старая история. И лишь немногие из них впоследствии работали по специальности, дирижерами-хоровиками, руководителями народных ансамблей и хоров. Редко кто, помахивая палочкой, дирижировал хором Янгиюльской кожгалантерейной фабрики, исполняющим песню Хамзы Хаким-заде Ниязи «Хой, ишчилар!» – что значит «Эй, рабочие!»… Редко, редко кто.
Чаще они уходили в область коммерции, казалось бы абсолютно противоположную тем тонким материям, к которым их приобщали в Институте культуры. Во всяком случае, несколько раз я встречала то одного, то другого своего бывшего студента за прилавком какого-нибудь обувного магазина, и, просияв, он шептал мне интимно: «Есть хароши артыпедишски басаножькя»…
Я получила распределение в Институт культуры после окончания консерватории. И хотя к тому времени уже было ясно, что не музыка выцедит мою душу до последней капли горького пота, мама все же считала, что запись в трудовой книжке о преподавательской деятельности в институте в дальнейшем благотворно скажется на сумме моей пенсии.
Вообще, при всей артистичности и склонности орнаментировать свою нелегкую жизнь преподавателя обществоведения, мама почему-то всегда была озабочена будущим «куском хлеба» для своих детей.
Музыка – это кусок хлеба, утверждала она, десять частных учеников в неделю уберегут тебя от такой собачьей жизни, как моя.
Отец считал, что я должна бросить все. Он так и говорил – наплюй на всех. Ты – писатель. Ты – крупная личность. (К тому времени были опубликованы три моих рассказика. Папа часто их перечитывал и, когда его отрывали от этого занятия, сатанел.)
Он болезненно гордился мной, его распирало родительское тщеславие, принимавшее порой довольно причудливые формы.
Однажды моя сокурсница, вернувшись из Москвы и с упоением рассказывая об экскурсии на Новодевичье кладбище, добавила со вздохом белой зависти: «Какие люди там лежат! Нас с тобой там не похоронят».
Дома за ужином я пересказала ее впечатления, не забыв и последнюю фразу, на мой взгляд, довольно смешную.
Папа вдруг изменился в лице и, приподнявшись из-за стола, будто собирался произнести тост, воскликнул:
– В таких случаях говорят только за себя! Ее, конечно уж, на Новодевичьем не похоронят. А тебя – похоронят! – закончил он торжественно, с громадной убежденностью.
Мама, помнится, застыла с ложкой у рта.
Но я все время отвлекаюсь.
Так вот, Институт культуры.
Мне было двадцать два года. Первым делом я на всякий случай сломала замок на двери в аудитории, где проводила уроки.
Тут надо кое-что пояснить.
Строгая пастушеская мораль предков и священное отношение узбеков к девичьей чести абсолютно не касаются их отношения к женщине европейского происхождения – независимо от ее возраста, профессии, положения в обществе и группы инвалидности. По внутреннему убеждению восточного мужчины – и мои мальчики не являлись тут исключением – все женщины-неузбечки тайно или открыто подпадали под определение «джаляб» – проститутка, блудница, продажная тварь. Возможно, тут играло роль подсознательное отвращение Востока к прилюдно открытому женскому лицу.
И хотя к тому времени, о котором идет речь, уже три десятилетия красавицы узбечки разгуливали без паранджи, в народе прекрасно помнили – кто принес на Восток эту заразу.
Ну а я к тому же носила джинсы и пользовалась косметикой яростных тонов – то есть ни по внешнему виду, ни по возрасту не могла претендовать даже на слабое подобие уважения со стороны учеников. Но я знала, что мне делать: строгость, холодный официальный тон и неизменное обращение к студенту на «вы». Я им покажу кузькину мать. Они меня станут бояться. А студенческий страх полностью заглушит скабрезные мыслишки в дремучих мозгах этих юных пастухов. С тем я и начала свою педагогическую деятельность.
Особенно боялся меня один студент – высокий красивый мальчик лет восемнадцати, в розовой атласной рубахе. Его буквально трясло от страха на моих уроках. Я слышала, как шуршит язык в его пересохшем рту. К тому же он, как и большинство его товарищей, почти не говорил по-русски.
Сидя сбоку от пианино, я строго смотрела мимо студента в окно, постукивая карандашиком по откинутой крышке инструмента.
– Что я вам задавала на дом?
Стоя на почтительном расстоянии от меня и полукланяясь, он отвечал робко:
– Шуман. Сифилисска песен…
Карандашик зависал в моих пальцах.
– Что-что?! – грозно вскрикивала я. – Как-как?!