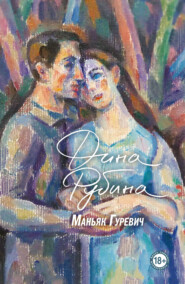По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты погоди, не нужна тут куча-мала! – Надежда пыталась ввести энтузиазм Изюма в какое-то повествовательное русло. – Ты сначала мамку с литовцем изобрази, где та фотка, что они сидят на фоне Версальского замка с выпученными глазами, а у мамки банты на плечах, из бархатных занавесок пошиты, и понизу такая изумительная вязь с ошибкой: вместо «Фотоателье Самуил Жуппер» – красиво так: «…Жоппер». Или про интернат. Ну? Где тот выпуск интернатский, группа дебилов?
А только хрен Изюма собьёшь с курса, заданного самому себе.
– Не, Петровна, я понял, про что тебе ещё не рассказывал! Я про Алика Бангладеша ни разу не вспомнил! Это ж мы с ним майонезный цех забурили.
Бангладеш, еврейский хохол. Он и не скрывал. Но странный был еврей: блондин, худой и после первой рюмки – гуляй, рванина! Фамилия у него, конечно, не Бангладеш была, а Зильбер, и отчество какое-то дикое: Фердинандыч, но он, понимаешь, чуть не единственный в Москве знал бенгальский язык, потому как родом был из КГБ и говорил, что наладит торговлю с кем хошь, а с ихней Народной Республикой Бангладеш – как два пальца. То была птица высокого полёта. Какие дела проворачивал! У него пять фур выехало – и пять фур не приехало.
Во, смотри, фотка: мы с ним на Ленинских горах с пивом. Там пивнуха была классная на углу. Главное, он знал Махмуда Эсамбаева – помнишь, я тебе рассказывал: танцующий горец? А старик Эсамбаев познакомил его со смотрящими от Иосифа Давыдовича, откуда к нам и пришла крыша: Савва Джумаев… А потом, когда рухнуло всё, потому как в котельной лопнули батареи, и огромная партия майонеза, три фуры, оказалась прокисшей, тогда всё и пошло пухом и прахом по окрестным городам и сёлам. Тогда Алик-то мой, Бангладеш, съездил в Грозный к Савве, и тот ему конкретно сказал: «У меня денег нет», – и посоветовал пойти к Иосифу Давыдовичу. Ну, сам-то Бангладеш пойти не рискнул, но через посредничка рухнул в ноги. Ни Алик, ни я лица Иосифа Давыдовича не видели, но посреднич?к ходил-сновал, и тот вроде передал: «Ты коммерсант, ты и думай, где деньги взять». Типа знать не знаю, ведать не ведаю. Сумма-то была охеренная. Мы даже хотели квартиру продавать. Но выкрутились: потом я фанеркой, лесом подторговывал. Я даже ценные бумаги продавал. В общем, выполз из майонезного дурмана пришибленный, но живой… Удалось ещё спасти партию шпротного паштета, целую машину. Ну, я затащил эту партию в квартиру к другу с женой – где-то же надо было всё это сгрузить. Жрите, говорю, сколько хотите, продавайте, дарите на Пасху, на Рождество, на Женский день… Хотя – ну сколько можно сожрать шпротного паштета? Тем боле там иногда попадались глаза… Эх, какую книгу можно было бы написать! Бравый солдат Швейк отдыхает. Но когда я ручку беру, мысли останавливаются. Вот спроси у Нины, есть ли у них сейчас в продаже «Доктор Коккер»? – специи молотые из Израиля. Я о чём, сейчас объясню: вот, подогнал мне Бангладеш два вагона риса, чтобы я продал дешевле всех на десять процентов. Это револьверная поставка. Дают фуру в день, надо перефасовать, развести по базам и магазинам. Тут у меня почему-то и всплывает бравый солдат Швейк, хотя я книжку не читал. А что у него было там с револьверными поставками? Ничего не было?.. О! Понял, почему Швейк всё время всплывает: у его командира был большой револьвер – вот в чём суть!
– Что-то у меня башка разболелась, – сказал Аристарх Надежде. – Пойду наверх, пожалуй…
– Стой, стой! – крикнула она, блестя глазами. – Изюм, ну что за херню ты понёс про Кобзона, про Швейка, кому это интересно! В жопу твой майонезный цех. Ты лучше про армию, как золото намывал целыми днями и как тебя прапор, сука, грабанул. Ну-к, покажи ту доблестную статейку в газете, где вы сняты с ним в момент, когда он тебе только-только морду начистил, и вдруг к вам привезли корреспондента местной газеты, и вы оба застыли-вытянулись, а фотограф вас щёлкнул с этими обалдевшими харями… Ну, где эта газета, что за бестолковщина! Давай армейский архив. Ты вообразить не в состоянии эту парочку на фотке! – заверила она Аристарха. – Сейчас сдохнешь от хохота.
– Он не только меня ограбил, – заметил Изюм беззлобно, – он спиздил бункерный ксерокс. Ты знаешь, что такое бункерный ксерокс, Петровна? Он размером с твою веранду, и печатает тыщу плакатов в минуту. Кому нужно печатать «Родина-мать зовёт» с такой скоростью?
Газета «Пограничник Азербайджана», сложенная вчетверо, пожелтелая и уже махристая на сгибах, довольно быстро нашлась в серой папке, на которой рукой Изюма чёрным фломастером печатными буквами было начертано: «МолАдАсть».
– Вот, – с застарелой горечью произнёс Изюм, разворачивая статью во всю ширину листа. – Я тут, конечно, поименован не полностью, только инициалами – газетчик сказал, что такого мужского имени – Изюм Алмазович – не встречается в природе и что его военная цензура не пропустит. А прапор – ему что, таких имен, как у него, – мильён в каждой подворотне. Вот, пожалуйста, с полным уважением: Павел Викторович Матвеев. Мордоворот – стрёмно глядеть!
Изюм, усмехаясь, поднял глаза на Сашка и осёкся: тот стоял побелевший; такой белый, что на фоне стены его лицо казалось махом закрашенным кистью того же маляра. Он слегка попятился, будто хотел вырваться из чего-то душно зловонного, – даже Надежда отступила на шаг, пропуская его, – развернулся и молча взбежал по лестнице наверх.
– Эт что с ним такое? – спросил Изюм. Она быстро проговорила:
– Живот прихватило. Бывает. Ничего.
Внезапная помертвелая бледность Аристарха напугала её страшно. И напугала, и озадачила. Изюма надо было немедленно выпроваживать, а ему пока не укажешь на дверь прямым указательным пальцем, он никакого намёка не поймёт, деликатности не оценит, всегда лаптем за порог зацепится, договаривая свои неосуществлённые ноу-халяу.
– Видала, – сказал, мотнув головой в сторону лестницы, – какое впечатление на людей производит моя судьбина?
– Изю-ум… – тихо и значительно проговорила Надежда.
– Понял! – отозвался он заговорщицки. – Пора линять! – и на сей раз довольно быстро прибрал своё архивное хозяйство. Удалился без обычных комментариев, если не считать некоего странного замечания на пороге:
– Сегодня день, я заметил, не располагает к работать. Располагает к выпить. Ну, если не к выпить, то просто – к не работать. Так что ты его, – и голосом присел и глаза так значительно поднял к потолку, – не слишком к Альбертику гони…
Дверь в спальню была прикрыта, и Надежда подумала, что найдёт Аристарха лежащим на кровати, раскисшим, чем-то расстроенным. Станет выяснять – что стряслось, где болит… Вот уж она возьмётся за него по-серьёзному, прогонит сквозь строй самых дорогих врачей. Первым делом – анализы по полной шкале. Тоже мне, медик – а у самого-то, сам-то…
Нет, он стоял, отвернувшись к окну, будто продолжал любоваться крышами, серебристой полоской пруда за деревьями, альпийской горкой на ухоженном участке Надежды и безмятежными облаками, какие плывут над русской деревней исключительно в прозрачном июле. Будто, услыхав её шаги, сейчас обернётся, облапит её…
Она подошла, обняла его за шею, прижалась виском к плечу.
– Видал, – сказала, – какие у меня рябины? Были прутики-дохляки, а сейчас красавицы. Через месяц развесят грозди, совсем как у нас…
Он молчал, и спина была каменной.
– Так что же, – тихо спросила она, – теперь вроде твоя очередь рассказывать?
– Не начинай… – попросил он сдавленным голосом. – Не разбивай наш первый день.
Внизу живота у неё стало пусто и холодно, как в последние минуты перед разбегом, перед тем как взлететь над обрывом.
– А что, такое страшное, что и не вымолвить? – спросила. – И думаешь, я буду ждать-гадать, что там – вилами по воде? Давай, парень, растолкуй мне: чего тебя сюда занесло, что за прихоть врача – в бригаде ханыг полы настилать? И что это тебя так пробило, когда Изюм ту фотку армейскую, с прапором… Тебе что там привиделось?
– …Как грохнул я его – привиделось, – отозвался Аристарх. – Того бывшего прапора, Пашку-брательника. Как он лежал на земле, а брюхо ещё трепыхалось.
Обернулся к ней – мальчишка в рябиновом клине, – и всё закружилось и вспыхнуло в багряных брызгах тяжёлых гроздей. Она протянула руку, раскрыла кулак с вертлявой змейкой внутри, крикнула, хохотнув:
– Зырь! – и уже не могла отвести взгляда от этих синих-синих-синих глаз, что смотрели на неё со взрослой беззащитной верой, с какой отдавал он ей наперёд всю свою жизнь, чтобы она приняла эту жизнь и спасла её.
Он шевельнул губами:
– Я убийца, Надя! – проговорил глухо. – Я в розыске. И недолго нам осталось.
Глава 2
Ремесло окаянное
Первое оглушительное впечатление от новой страны: удар в грудь горячего, как из открытой печи, воздуха; жёсткий, как сварочная дуга, солнечный свет в глаза; тёмно-фиолетовые лезвия теней под белыми, до боли, стенами зданий и слепящая гармоника приоткрытых жалюзи на окнах. А ещё – вездесущий запах апельсинов.
Лёвка с Эдочкой осели в неприглядном Лоде, в двух шагах от аэропорта, окружённого плантациями цитрусовых. Снимали однокомнатный флигель с верандой во дворе у Нахума, водителя автобусной компании «Эгед». Бритоголовый бугай с бычьей шеей, Нахум был похож на чечена или какого-нибудь кабардинца, хотя фамилию носил Коэн. Когда его жена готовила марак-кубэ, странную похлёбку с плавающим внутри жареным пирожком, Нахум заносил кастрюльку жильцам; входил не стучась, руки были заняты, просто распахивал дверь ногой. Суп был острейшим и вкуснейшим. Нахум громко и отрывисто говорил пару фраз на невозможном языке; Лёвка почему-то его понимал, смеялся в ответ и хлопал Нахума по могучему плечу, для чего поднимался на цыпочки.
– Говорит: «Мужчина может голодать, а женщина должна кормить ребёнка во чреве своём».
Тут явно имелась в виду Эдочка, в то время уже беременная первой девчонкой.
– Так и сказал: «во чреве своём»?
– Ну да. Это ихний басурманский язык такой.
Над халупой, как и над всей округой, со свистом распиливали небо неугомонные самолёты. Этот грохот и запах апельсинов составляли густой фон здешнего бытия, такой вот пряный марак-кубэ. Местные жители ни того, ни другого не замечали.
В первые недели, непроизвольно втягивая голову в плечи всякий раз, когда над его макушкой взлетал или шёл на посадку самолёт, Аристарх думал: как вообще здесь можно жить? Он и на уроках иврита спрашивал себя: как в обыденной жизни можно объясняться на языке, в котором «кит» – это «левиафан», а простенькое: «мне нравится» выражается фразой: «это находит милость в глазах моих»?
С годами оказалось: можно. Можно и жить, можно и говорить, и довольно быстро, запальчиво, с грубоватым юмором говорить, употребляя слова, которым на курсах тебя не учили. Можно орать, цедить через губу, в крайнем случае материться – если имеешь дело с упёртым бараном и у тебя просто не осталось аргументов.
Первые два месяца, самое трудное время, жил он у Лёвки с Эдочкой. Спал на веранде, больше негде было, да и не хотел стеснять молодых. Осень в том году выдалась непривычно жаркая, и бездонные ночи, сбрызнутые сиянием ярких созвездий, присыпанные красными огоньками идущих на посадку и взлетающих самолётов (которых через месяц он почти не замечал), приносили грустное утешение.
Лёвка готовился к экзамену и вкалывал как безумный, помимо санитарства в больнице прихватывая дежурства в доме престарелых. Спал часа по три и, столкнувшись со Стахом ночью в коридоре, по пути в туалет, пугал его красными, как у вурдалака, глазами. Со смехом рассказывал: полез вчера под кровать вытаскивать обронённые старичком очки и обратно не вылез, там и сомлел.
– А старичок? – ахала Эдочка.
– Старичок забыл и про меня, и про очки. Их Альцгеймер – моё отдохновение. А что: урвал полчасика, спал в мягкой пыли, как младенец в утробе. Когда хватились меня, старичку задницу мыть, – я и вылез на зов из-под кровати, с очками. «Ревизор», немая сцена. Стыдновато, но старичок так обрадовался, что подарил мне пятьдесят шекелей. За такие чаевые я брюхом вытру пыль на всех этажах нашего заведения.
Для начала Лёвка, друг сердечный, пристроил его к тем же старичкам, в ту же обитель благостного забытья. Опыт хороший: Аристарх научился там ворочать неподвижных пациентов, переносить их с кровати на кресло, грамотно распределять вес человечьего тела на руки, на спину, на ноги. Научился делать массаж, быстро и опрятно мыть мятые стариковские ягодицы. При этом часто вспоминал дядю Петю. Эх, думал, вот бы тому такое кресло. Не говоря уж о лекарствах, не говоря уж о памперсах – благороднейшем изобретении человечества!
Когда, протаранив, пробурив пещеристый известняковый язык, незаметно для себя выскочил на простор складных шуточек и не задумчивых ответов, когда в шершавом ветвистом клёкоте, к себе обращённом, стал различать сочувствие, презрение, добродушие и даже ласку – он стал открывать для себя и лица вокруг. Каждое утро, сбегав к почтовым ящикам, приносил почту заодно и соседу, безногому инвалиду ЦАХАЛа, неистощимому балагуру: «Да знал я, знал, что там заминировано, просто хотел успеть до пятницы в увольнительную». Всегда застревал на кассе в соседней лавке, покалякать с курчавой, как негритянка, продавщицей-марокканкой: «Я тебе про своё детство в палаточном лагере расскажу, ты заплачешь горькими слезами!» На чём свет она костерила «русских»: «Явились к нам на всё готовое!» – но в трудную минуту могла отпустить в долг под честное слово пачку сигарет.
Люди вокруг стали обрастать своей трудной жизнью, потерями, анекдотами и грубовато-непрошенной задушевностью, а улицы обрастали знакомыми адресами, дешёвыми лавками, прачечной, пока ненужной ему «Оптикой» и очень нужной фалафельной на углу, где за два шекеля можно перехватить питу между дежурствами.
А только хрен Изюма собьёшь с курса, заданного самому себе.
– Не, Петровна, я понял, про что тебе ещё не рассказывал! Я про Алика Бангладеша ни разу не вспомнил! Это ж мы с ним майонезный цех забурили.
Бангладеш, еврейский хохол. Он и не скрывал. Но странный был еврей: блондин, худой и после первой рюмки – гуляй, рванина! Фамилия у него, конечно, не Бангладеш была, а Зильбер, и отчество какое-то дикое: Фердинандыч, но он, понимаешь, чуть не единственный в Москве знал бенгальский язык, потому как родом был из КГБ и говорил, что наладит торговлю с кем хошь, а с ихней Народной Республикой Бангладеш – как два пальца. То была птица высокого полёта. Какие дела проворачивал! У него пять фур выехало – и пять фур не приехало.
Во, смотри, фотка: мы с ним на Ленинских горах с пивом. Там пивнуха была классная на углу. Главное, он знал Махмуда Эсамбаева – помнишь, я тебе рассказывал: танцующий горец? А старик Эсамбаев познакомил его со смотрящими от Иосифа Давыдовича, откуда к нам и пришла крыша: Савва Джумаев… А потом, когда рухнуло всё, потому как в котельной лопнули батареи, и огромная партия майонеза, три фуры, оказалась прокисшей, тогда всё и пошло пухом и прахом по окрестным городам и сёлам. Тогда Алик-то мой, Бангладеш, съездил в Грозный к Савве, и тот ему конкретно сказал: «У меня денег нет», – и посоветовал пойти к Иосифу Давыдовичу. Ну, сам-то Бангладеш пойти не рискнул, но через посредничка рухнул в ноги. Ни Алик, ни я лица Иосифа Давыдовича не видели, но посреднич?к ходил-сновал, и тот вроде передал: «Ты коммерсант, ты и думай, где деньги взять». Типа знать не знаю, ведать не ведаю. Сумма-то была охеренная. Мы даже хотели квартиру продавать. Но выкрутились: потом я фанеркой, лесом подторговывал. Я даже ценные бумаги продавал. В общем, выполз из майонезного дурмана пришибленный, но живой… Удалось ещё спасти партию шпротного паштета, целую машину. Ну, я затащил эту партию в квартиру к другу с женой – где-то же надо было всё это сгрузить. Жрите, говорю, сколько хотите, продавайте, дарите на Пасху, на Рождество, на Женский день… Хотя – ну сколько можно сожрать шпротного паштета? Тем боле там иногда попадались глаза… Эх, какую книгу можно было бы написать! Бравый солдат Швейк отдыхает. Но когда я ручку беру, мысли останавливаются. Вот спроси у Нины, есть ли у них сейчас в продаже «Доктор Коккер»? – специи молотые из Израиля. Я о чём, сейчас объясню: вот, подогнал мне Бангладеш два вагона риса, чтобы я продал дешевле всех на десять процентов. Это револьверная поставка. Дают фуру в день, надо перефасовать, развести по базам и магазинам. Тут у меня почему-то и всплывает бравый солдат Швейк, хотя я книжку не читал. А что у него было там с револьверными поставками? Ничего не было?.. О! Понял, почему Швейк всё время всплывает: у его командира был большой револьвер – вот в чём суть!
– Что-то у меня башка разболелась, – сказал Аристарх Надежде. – Пойду наверх, пожалуй…
– Стой, стой! – крикнула она, блестя глазами. – Изюм, ну что за херню ты понёс про Кобзона, про Швейка, кому это интересно! В жопу твой майонезный цех. Ты лучше про армию, как золото намывал целыми днями и как тебя прапор, сука, грабанул. Ну-к, покажи ту доблестную статейку в газете, где вы сняты с ним в момент, когда он тебе только-только морду начистил, и вдруг к вам привезли корреспондента местной газеты, и вы оба застыли-вытянулись, а фотограф вас щёлкнул с этими обалдевшими харями… Ну, где эта газета, что за бестолковщина! Давай армейский архив. Ты вообразить не в состоянии эту парочку на фотке! – заверила она Аристарха. – Сейчас сдохнешь от хохота.
– Он не только меня ограбил, – заметил Изюм беззлобно, – он спиздил бункерный ксерокс. Ты знаешь, что такое бункерный ксерокс, Петровна? Он размером с твою веранду, и печатает тыщу плакатов в минуту. Кому нужно печатать «Родина-мать зовёт» с такой скоростью?
Газета «Пограничник Азербайджана», сложенная вчетверо, пожелтелая и уже махристая на сгибах, довольно быстро нашлась в серой папке, на которой рукой Изюма чёрным фломастером печатными буквами было начертано: «МолАдАсть».
– Вот, – с застарелой горечью произнёс Изюм, разворачивая статью во всю ширину листа. – Я тут, конечно, поименован не полностью, только инициалами – газетчик сказал, что такого мужского имени – Изюм Алмазович – не встречается в природе и что его военная цензура не пропустит. А прапор – ему что, таких имен, как у него, – мильён в каждой подворотне. Вот, пожалуйста, с полным уважением: Павел Викторович Матвеев. Мордоворот – стрёмно глядеть!
Изюм, усмехаясь, поднял глаза на Сашка и осёкся: тот стоял побелевший; такой белый, что на фоне стены его лицо казалось махом закрашенным кистью того же маляра. Он слегка попятился, будто хотел вырваться из чего-то душно зловонного, – даже Надежда отступила на шаг, пропуская его, – развернулся и молча взбежал по лестнице наверх.
– Эт что с ним такое? – спросил Изюм. Она быстро проговорила:
– Живот прихватило. Бывает. Ничего.
Внезапная помертвелая бледность Аристарха напугала её страшно. И напугала, и озадачила. Изюма надо было немедленно выпроваживать, а ему пока не укажешь на дверь прямым указательным пальцем, он никакого намёка не поймёт, деликатности не оценит, всегда лаптем за порог зацепится, договаривая свои неосуществлённые ноу-халяу.
– Видала, – сказал, мотнув головой в сторону лестницы, – какое впечатление на людей производит моя судьбина?
– Изю-ум… – тихо и значительно проговорила Надежда.
– Понял! – отозвался он заговорщицки. – Пора линять! – и на сей раз довольно быстро прибрал своё архивное хозяйство. Удалился без обычных комментариев, если не считать некоего странного замечания на пороге:
– Сегодня день, я заметил, не располагает к работать. Располагает к выпить. Ну, если не к выпить, то просто – к не работать. Так что ты его, – и голосом присел и глаза так значительно поднял к потолку, – не слишком к Альбертику гони…
Дверь в спальню была прикрыта, и Надежда подумала, что найдёт Аристарха лежащим на кровати, раскисшим, чем-то расстроенным. Станет выяснять – что стряслось, где болит… Вот уж она возьмётся за него по-серьёзному, прогонит сквозь строй самых дорогих врачей. Первым делом – анализы по полной шкале. Тоже мне, медик – а у самого-то, сам-то…
Нет, он стоял, отвернувшись к окну, будто продолжал любоваться крышами, серебристой полоской пруда за деревьями, альпийской горкой на ухоженном участке Надежды и безмятежными облаками, какие плывут над русской деревней исключительно в прозрачном июле. Будто, услыхав её шаги, сейчас обернётся, облапит её…
Она подошла, обняла его за шею, прижалась виском к плечу.
– Видал, – сказала, – какие у меня рябины? Были прутики-дохляки, а сейчас красавицы. Через месяц развесят грозди, совсем как у нас…
Он молчал, и спина была каменной.
– Так что же, – тихо спросила она, – теперь вроде твоя очередь рассказывать?
– Не начинай… – попросил он сдавленным голосом. – Не разбивай наш первый день.
Внизу живота у неё стало пусто и холодно, как в последние минуты перед разбегом, перед тем как взлететь над обрывом.
– А что, такое страшное, что и не вымолвить? – спросила. – И думаешь, я буду ждать-гадать, что там – вилами по воде? Давай, парень, растолкуй мне: чего тебя сюда занесло, что за прихоть врача – в бригаде ханыг полы настилать? И что это тебя так пробило, когда Изюм ту фотку армейскую, с прапором… Тебе что там привиделось?
– …Как грохнул я его – привиделось, – отозвался Аристарх. – Того бывшего прапора, Пашку-брательника. Как он лежал на земле, а брюхо ещё трепыхалось.
Обернулся к ней – мальчишка в рябиновом клине, – и всё закружилось и вспыхнуло в багряных брызгах тяжёлых гроздей. Она протянула руку, раскрыла кулак с вертлявой змейкой внутри, крикнула, хохотнув:
– Зырь! – и уже не могла отвести взгляда от этих синих-синих-синих глаз, что смотрели на неё со взрослой беззащитной верой, с какой отдавал он ей наперёд всю свою жизнь, чтобы она приняла эту жизнь и спасла её.
Он шевельнул губами:
– Я убийца, Надя! – проговорил глухо. – Я в розыске. И недолго нам осталось.
Глава 2
Ремесло окаянное
Первое оглушительное впечатление от новой страны: удар в грудь горячего, как из открытой печи, воздуха; жёсткий, как сварочная дуга, солнечный свет в глаза; тёмно-фиолетовые лезвия теней под белыми, до боли, стенами зданий и слепящая гармоника приоткрытых жалюзи на окнах. А ещё – вездесущий запах апельсинов.
Лёвка с Эдочкой осели в неприглядном Лоде, в двух шагах от аэропорта, окружённого плантациями цитрусовых. Снимали однокомнатный флигель с верандой во дворе у Нахума, водителя автобусной компании «Эгед». Бритоголовый бугай с бычьей шеей, Нахум был похож на чечена или какого-нибудь кабардинца, хотя фамилию носил Коэн. Когда его жена готовила марак-кубэ, странную похлёбку с плавающим внутри жареным пирожком, Нахум заносил кастрюльку жильцам; входил не стучась, руки были заняты, просто распахивал дверь ногой. Суп был острейшим и вкуснейшим. Нахум громко и отрывисто говорил пару фраз на невозможном языке; Лёвка почему-то его понимал, смеялся в ответ и хлопал Нахума по могучему плечу, для чего поднимался на цыпочки.
– Говорит: «Мужчина может голодать, а женщина должна кормить ребёнка во чреве своём».
Тут явно имелась в виду Эдочка, в то время уже беременная первой девчонкой.
– Так и сказал: «во чреве своём»?
– Ну да. Это ихний басурманский язык такой.
Над халупой, как и над всей округой, со свистом распиливали небо неугомонные самолёты. Этот грохот и запах апельсинов составляли густой фон здешнего бытия, такой вот пряный марак-кубэ. Местные жители ни того, ни другого не замечали.
В первые недели, непроизвольно втягивая голову в плечи всякий раз, когда над его макушкой взлетал или шёл на посадку самолёт, Аристарх думал: как вообще здесь можно жить? Он и на уроках иврита спрашивал себя: как в обыденной жизни можно объясняться на языке, в котором «кит» – это «левиафан», а простенькое: «мне нравится» выражается фразой: «это находит милость в глазах моих»?
С годами оказалось: можно. Можно и жить, можно и говорить, и довольно быстро, запальчиво, с грубоватым юмором говорить, употребляя слова, которым на курсах тебя не учили. Можно орать, цедить через губу, в крайнем случае материться – если имеешь дело с упёртым бараном и у тебя просто не осталось аргументов.
Первые два месяца, самое трудное время, жил он у Лёвки с Эдочкой. Спал на веранде, больше негде было, да и не хотел стеснять молодых. Осень в том году выдалась непривычно жаркая, и бездонные ночи, сбрызнутые сиянием ярких созвездий, присыпанные красными огоньками идущих на посадку и взлетающих самолётов (которых через месяц он почти не замечал), приносили грустное утешение.
Лёвка готовился к экзамену и вкалывал как безумный, помимо санитарства в больнице прихватывая дежурства в доме престарелых. Спал часа по три и, столкнувшись со Стахом ночью в коридоре, по пути в туалет, пугал его красными, как у вурдалака, глазами. Со смехом рассказывал: полез вчера под кровать вытаскивать обронённые старичком очки и обратно не вылез, там и сомлел.
– А старичок? – ахала Эдочка.
– Старичок забыл и про меня, и про очки. Их Альцгеймер – моё отдохновение. А что: урвал полчасика, спал в мягкой пыли, как младенец в утробе. Когда хватились меня, старичку задницу мыть, – я и вылез на зов из-под кровати, с очками. «Ревизор», немая сцена. Стыдновато, но старичок так обрадовался, что подарил мне пятьдесят шекелей. За такие чаевые я брюхом вытру пыль на всех этажах нашего заведения.
Для начала Лёвка, друг сердечный, пристроил его к тем же старичкам, в ту же обитель благостного забытья. Опыт хороший: Аристарх научился там ворочать неподвижных пациентов, переносить их с кровати на кресло, грамотно распределять вес человечьего тела на руки, на спину, на ноги. Научился делать массаж, быстро и опрятно мыть мятые стариковские ягодицы. При этом часто вспоминал дядю Петю. Эх, думал, вот бы тому такое кресло. Не говоря уж о лекарствах, не говоря уж о памперсах – благороднейшем изобретении человечества!
Когда, протаранив, пробурив пещеристый известняковый язык, незаметно для себя выскочил на простор складных шуточек и не задумчивых ответов, когда в шершавом ветвистом клёкоте, к себе обращённом, стал различать сочувствие, презрение, добродушие и даже ласку – он стал открывать для себя и лица вокруг. Каждое утро, сбегав к почтовым ящикам, приносил почту заодно и соседу, безногому инвалиду ЦАХАЛа, неистощимому балагуру: «Да знал я, знал, что там заминировано, просто хотел успеть до пятницы в увольнительную». Всегда застревал на кассе в соседней лавке, покалякать с курчавой, как негритянка, продавщицей-марокканкой: «Я тебе про своё детство в палаточном лагере расскажу, ты заплачешь горькими слезами!» На чём свет она костерила «русских»: «Явились к нам на всё готовое!» – но в трудную минуту могла отпустить в долг под честное слово пачку сигарет.
Люди вокруг стали обрастать своей трудной жизнью, потерями, анекдотами и грубовато-непрошенной задушевностью, а улицы обрастали знакомыми адресами, дешёвыми лавками, прачечной, пока ненужной ему «Оптикой» и очень нужной фалафельной на углу, где за два шекеля можно перехватить питу между дежурствами.