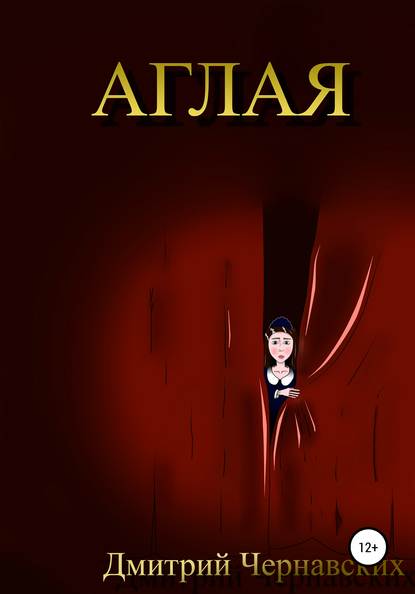По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аглая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Аглая
Дмитрий Анатольевич Чернавских
Весь мир – театр, но актеры не выйдут на бис. Порой акт длится несколько лет, и антракты не предусмотрены суровой администрацией. В этом театре человек одновременно играет единственную роль и наблюдает первый и последний спектакль из зрительского зала. И как известно: если двое говорят, а третий слушает, то это уже театр. Будем же этим таинственным "третьим" и устроим маленький спектакль в рамках непретензионного рассказа о милой девушке с редким именем.
Если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, – это уже театр.
Густав Холоубек
Аглая поправила синий фартук и всмотрелась в отражение стеклянной дверцы серванта. Аккуратненькое лицо смотрело на нее, немного улыбаясь. Аглае нравилось вглядываться в свое отражение. Особенно же ее умиляли круглые губы и розовые щеки, которые, если честно, были слишком ярки. Роскошные часы с позолоченным маятником пробили восемь вечера. «Сейчас придут»– подумала Аглая, улыбнувшись. И, действительно, по широким коридорам пронесся голос, сообщавший о начале антракта, нарастал гул, и люди стали спускаться по огромной лестнице к буфету. Все преобразилось и наполнилось живым звуком.
Женщины шуршали платьями и чуть приподнимали полы, боясь споткнуться на гладких ступенях; дети мелькали в отражениях зеркал, шумно сбегая по лестнице; а мужчины неспеша следовали за дамами, разминая затекшие от часового сидения ноги.
Аглая приняла радушное выражение и кокетливо сложила руки на отполированной стойке. Нарядно одетые люди заказывали горячие напитки и закуски, а Аглая мило улыбалась каждому и разговаривала с забавной девчачьей веселостью в голосе. Небольшой буфет – который администрация нарекла рестораном —наполнялся людьми и радостными голосами, в шуме которых терялись звоны миниатюрных чашек. Уютные лампы загадочно освещали зеленоватым светом буфетную стойку и круглые столики. Ароматы всевозможных духов и одеколонов парили в разгоряченном воздухе, смешиваясь с запахом свежей выпечки и чая. Дети, убежавшие от родителей, играли вокруг мраморных колон, обхватывая их своими маленькими ручками.
Женщины бальзаковского возраста с жаром обсуждал премьеру, жеманно складывая руки, обхваченные золотыми браслетами. Особенно же их интересовало платье Екатерины Трубецкой и мужественное лицо Императора Николая, с которым «я бы потанцевала, если вы понимаете, о чем я». Женщины хихикали, пряча улыбки в кулачки. О декабристах же они знали лишь то, что им говорил скучный учитель истории \много лет назад.
От горячего дыхания людей качалась гигантская люстра, сверкая хрусталем. Жарким золотом и ледяным серебром в ней отражались искры света и лица людей. Весь зал кружился в музыке голосов, платья мелькали меж колоннами, и праздник жизни мог бы продолжаться еще долго, но все тот же басистый голос объявил о завершении антракта.
На секунду все замерло, в апогее разнузданности и веселья: стакан с шипящим шампанским застыл в руке полного господина; кокетки, обсуждающие Трубецкого, в последний раз осклабились, обнажив белоснежные зубы; и ребенок с раскрасневшимися лицом застыл, потеряв на мгновение мать из виду. Но уже в следующую секунду всеобщая напряженность спала, уступая место мирному и культурному отдыху. Будто пришедшие в себя люди поспешно допивали чай. Все поднялись со своих мест и быстро скрылись за поворотом огромной лестницы, унося с собой шумный праздник.
И снова Аглая осталась одна. В эту бесконечно долгую секунду она была похожа на девушку с картины Мане «Бар в Фоли-Бержер». Тот же румянец, те же руки, опирающиеся на стойку, и тот же отрешенный взгляд, обращенный пустоте. Молодой буфетчице, Аглае тяжело было расставаться с публикой, так мило обходившейся с ней. Молодые люди шутили с ней, потягивая чай; дети называли ее «тетя» и забавно коверкали ее имя; а старушки премило улыбались ей ссохшимися губами. Но ежедневно равнодушный голос из динамиков отнимал минутную любовь у Аглаи, оставляя ее одну. В воздухе еще парили еле уловимые запахи духов, и хрустальная люстра тяжело качалась над головой.
Аглаи еще не было тридцати, а увидев ее, вы бы не дали ей больше двадцати пяти. Она неизменно носила сережки в форме золотых цветов, а на тонких пальцах не было ни одного кольца, даже обручального. Ей ужасно не везло в личной жизни. Иногда ей казалось, что ею интересуются лишь одни подлецы. По крайней мере, достойных мужчин она не встречала. В ее мыслях уже формировался мнительный образ забытой старухи, ведущей затворническую жизнь, но Аглая со свойственной мудростью и простотой отгоняла столь навязчивые фантазии. Часто она с завистью смотрела на молодую пару, спускающуюся по лестнице. Они держались за руки и будто дразнили одинокую буфетчицу своим счастливым видом. Аглая не уставала повторять себе: «Просто не мое. Повезет в другом. Да и не так уж вы счастливы, дураки.». И это действительно помогало, она научилась равнодушно и даже свысока смотреть на чужое счастье. Но это днем. А по ночам на красивых глазах Аглаи появлялись обжигающие слезы, и она обнимала холодную подушку, представляя любимого мужчину, который мог бы утешить маленькую и беззащитную Глашеньку. Никто во всем мире даже не подозревал о тяжёлой драме, прокручивающейся в голове Аглаи. Но ночи всегда проходили, и Аглая Степановна замазывала синяки под глазами и шла на работу, приняв серьезное и равнодушное выражение.
Работала Серафионова Аглая Степановна в ресторанчике «R?verie» уже два года. Нельзя сказать, что ей нравился процесс закупки, продажи, уборки. Даже совсем не нравился. Но мечтательная Аглая не могла покинуть это место. Таинственная атмосфера театра, роскошный интерьер и внимание людей держали ее. Возвращаясь в свою однушку, Аглая не могла всерьез воспринимать низкий потолок, потертую мебель и нависающую тишину – величие и простор театра слишком сильно полюбились ей.
Но история театра и Аглаи началась задолго до того, как она стала буфетчицей.
***
Бабушка Аглаи была настоящей светской львицей в хорошем смысле этого выражения (если такое имеется). Звали ее Верой Павловной. Несмотря на свой возраст она одевалась с шиком, присущим немногим в наше время. Вера Павловна не стеснялась косых взглядов и даже напротив будто наслаждалась неодобрением окружающих. Бабушка Аглаи считалась юмористкой, и некоторые злорадно называли ее «проказницей», пользуясь двусмысленностью русского языка и намекая на темное родимое пятно на шее. Она любила вкусно поесть, поговорить о литературе, похвастаться новым платьем. Но главной же ее страстью был театр. Она была постоянной посетительницей вечерних премьер, персонал дружелюбно здоровался со старушкой и порой пропускал ее без билета, о чем с гордостью заявляла Вера Павловна на каждом семейном ужине. Всем было известно, что Вера Павловна вполне комфортно чувствует себя в гримерке актеров и имеет короткое, порой даже неприлично короткое знакомство со многими артистами.
Именно бабушка настояла на имени «Аглая». Аргументы были настолько убедительными, что мать ребенка просто не могла противиться напору бабушки. Вера Павловна ужасно любила Достоевского, особенно «Идиота», откуда и узнала это редкое имя. Возможно, бабушка тайно мечтала, чтобы у внучки был такой же живой и страстный характер, как у Аглаи Достоевского. С ранних лет бодрая старушка окружила Глашу заботой и бесконечными историями о театре. Вера Павловна увлеченно рассказывала внучке о сплетнях и интригах, обитающих в закулисье. Благодаря бабушке маленькая Аглая могла увидеть многие представления с первых рядов, откуда открывался захватывающий вид на сцену. Видна была каждая деталь, каждая черточка на лице актера, каждый блик света. Рядом была не менее интересная оркестровая яма, и юная Аглая увлеченно следила за быстрыми движениями скрипача и удивлялась бордовым щекам мужчины, играющем на огромной тубе. Бабушка наклонялась к внучке и шептала ей имена и прозвища актеров, пуская забавные колкости в адрес каждого. Аглая с нетерпением ждала заветного вечера, когда она и бабушка шли в театр и садились на красные, мягкие кресла, предвкушая радость следующих часов, проведенных в этом таинственном и чудесном месте. Вообще же все детские воспоминания Аглаи, связанные с театром, окружены неким призрачным ореолом, словно покрыты легкой дымкой детских фантазий и волнующих тайн.
Несложно догадаться, что юная Аглая полюбила театр всем сердцем. И не менее сложно догадаться, какая мечта оформилась в ее детском сознании.
После вечеров, проведенных с неугомонной бабушкой, Аглая долга не могла уснуть и все представляла, как сотни прожекторов сойдутся на ней, тысячерукий зал зааплодирует ее актерскому гению, ее голос нетеатрально дрогнет и растает в оглушительных овациях и цветах, в которых потонет сцена.
Аглае и бабушке недолго пришлось уговаривать мать, чтобы та позволила дочери участвовать в театральном кружке. Аглая прилежно посещала занятия несмотря на то, что кружок имел явный хореографический, а не театральный уклон. Аглая удивительно легко мирилась со многим, и это качество не раз пригодилось ей во взрослой жизни. Руководительница кружка —немолодая, худая женщина в очках— хвалила спокойную и послушную ученицу и даже ставила ее в пример. Но будучи по природе своей стеснительной и неуверенной, Аглая редко проявляла инициативу и оказывалась всегда на вторых местах. Другие девочки не взлюбили Глашу, считая ее молчаливость проявлением высокомерия. Но Аглая по-философски равнодушно относилась к колкостям ровесниц. В этом равнодушие было что-то взрослое и рассудительное.
Аглая наблюдала за выступлениями учениц кружка и понимала, что они дурны. Девочки не играли, а кривлялись, их голоса неприятно ломались, и тела неестественно гнулись. Аглая знала, что можно сыграть лучше, но не верила, что в ее силах достигнуть этого «лучше». Так и выходило, что на районные конкурсы ездили не самые талантливые, а самые яркие, крикливо яркие. Но Аглая продолжала упорно заниматься, понимая, что должна развиваться и трудиться не для конкурсов и похвалы судей, а для себя и бабушки. Особенно для бабушки. Вообще же довольно странно слышать от ребенка слова: должна, обязана, надо —но Аглая будто знала, что добьётся успеха лишь в том случае, если будет настраивать себя как можно серьезнее.
Годы шли, но интерес к театру не гас, и все оформленней стала выглядеть мечта об актерской карьере.
Аглая стала реже посещать занятия, но больше занималась одна. Она могла часами стоять у зеркала, представляя различные ситуации и выражая одними глазами множество эмоций. Подобные сцены очень забавляли и умиляли Веру Павловну. Аглая была бабушкиной радостью. Но ничто невечно, все имеет свой логичный и правомерной конец. И семейно-актерская идиллия пришла к своему завершению самым прозаичным способом.
Бабушка стала болеть и реже появлялась в театре, но это сблизило ее с внучкой. Вечером вместо того, чтобы ехать на очередной праздничный ужин, Вера Павловна оставалась дома и премило беседовала с единственной и любимой внучкой. Сотни часов провели они вместе на кухне, попивая чай и обсуждая будущее Аглаи, конечно же, с театральным уклоном. Без светских встреч характер бабушки еще более смягчился, и теперь она стала совсем обычной старушкой в мягких тапочках и теплом халате. Новый, спокойный нрав бабушки полюбился всем родным, особенно Аглае. Как говорила сама Вера Павловна: «уж лучше посиделки с вами, чем с дрянными актерами и старыми кошелками, которым лишь бы перемыть кости и поплакаться о своей судьбе…»
Но посиделки закончились —Когда Аглае было пятнадцать, бабушка умерла. Все случилось быстро и тихо. Столь яркий человек при жизни ушел еле слышно, будто боясь побеспокоить близких. В последние дни она была необычайно тиха и мила, она только улыбалась спокойной улыбкой. Все понимали, что она покидает этот мир с чистой совестью и без страхов, а это достойно уважения. Только после смерти обнаружилось, что у нее совсем не было близких друзей. Были толпы знакомых, но друзей не было. Одна Аглая знала и понимала бабушку, остальные же прощались и говорили скорбные слова из жалкой условности.
Это был ветренный март, на похоронах люди кутались в одежду и дрожали. В этот день все молчали, и лишь опущенные взгляды говорил о многом. Но Вера Павловна была светлым человеком, и свет, который она излучала на протяжение всей своей насыщенной жизни, сумел остаться в этом мире. Так вышло, что родные бабушку вспоминали чаще доброй улыбкой нежели горькими слезами, а это о многом говорит…
Наступил тяжелый период для Аглаи, ведь она потеряла самого близкого друга и учителя. Без бабушки занятия казались бессмысленными – никто не интересовался увлечением Аглаи так, как бабушка. Занятия были заброшены, и Аглая надолго ушла в себя. Без надежной опоры, идти вперед стало тяжело и порой невыносимо. Аглая привыкла жить прошлым, игнорировать настоящее и ненавидеть будущее. Но у внучки были черты характера бабушки, и, быть может, поэтому Аглая сумела взять себя вовремя в руки и начала жить почти нормальной жизнью. Было тяжело, но девочка крепилась, приобретая драгоценные качества души. Но к театральной деятельности она так и не вернулась —слишком сильны были воспоминания о бабушке, для которой театр был неотъемлемой частью жизни.
Аглая успешно сдала экзамены и даже хотела поступить в театральный, но мать не поддержала дочь и настояла на юридической специальности. Аглая поддалась. Хватило легкого толчка со стороны матери, чтобы разбить и без того хрупкую мечту…
Мать Аглаи не была жестокосердечной дамой, напротив она желала дочери всего наилучшего. Мать искренне верила, что Аглая будет счастливее, если позабудет театр. Она считала, что эта несбыточная и пустая мечта слишком сильно терзает ее девочку, поэтому мечту лучше разбить.
Как и во всем, Аглая добилась большого успеха в университете. Терпением и прилежанием одерживались победы над скучнейшими предметами, преподавателями и над собой. До сих пор в фойе университета на стене почета, увитой разросшимся вьюнком, висит ее фотография с деканом факультета. Она улыбается, только совсем не веселой улыбкой, есть в ее взгляде что-то безысходное и бесконечно грустное. Но никто не понимал ее, и все поздравляли ее с получением красного диплома. Аглаю успокаивало одно – мать была счастлива.
После университета Аглаю приняли в частную компанию. Кем же там работала Аглая —не могла понять даже она сама. Не то кладовщиком, не то логистом, не то диспетчером, не то бухгалтером. Казалось, что все держится на ее тонких плечах – не будь ее все рухнет от бездействия. И хоть Аглая была натурой деятельной, но даже она не могла справиться с огромным ворохом обязанностей.
Однажды она пришла в офис директора – полного и краснолицего мужчины – и попросила уменьшить круг ее обязанностей, сетуя на усталость и забитость графика. Директор, поправляя синий галстук, согласился и даже пообещал «лучшей сотруднице» прибавку к зарплате. И тут Аглая уже была готова рассыпаться в горячих благодарностях, но губы директора растянулись в улыбке, и он предложил Аглае «одно ма-аленькое условие». «Присядь мне на колени, и я все расскажу…»—полушепотом произнес директор, сладострастно смакуя каждую букву. И улыбка вновь растеклась по его широкому лицу. Больше Аглая не появлялась на работе и избегала работадателей-мужчин.
С работой не везло, приходилось приспосабливаться и искать альтернативы. Много компаний сменила Аглая за три года. Она была бухгалтером сети продуктовых магазинов, которая закрылась после ужасного скандала с ПотребНадзором; была менеджером отдела кадров фирмы, не проработавшей и двух недель, официанткой в кафе «Фантазия», занималась каторжным копирайтингом и составлением статей. Но везде ей ужасно не везло, но дело было не только в везении. Пускай мечта давно разбита, но осколки еще царапают сердце. Аглая всей душой ненавидела подсчеты, котировки, бланки и условные чаевые, ей страстно хотелось в театр. Кем угодно, самой последней уборщицей, но в театр. Только бы смотреть на великолепные залы и вслушиваться в тишину мрамора и гранита.
И, наверное, в первый раз в жизни ей повезло. Ее подруга была гримером, правильнее сказать помощником помощника гримера. В-общем, имела к театру весьма мутное отношение, но имела(!). И вот эта подруга узнала, что старая буфетчица уходит на заслуженный отдых, а директору театра очень хотелось бы, чтобы в его ресторанчике работала смекалистая и юная девушка. Возможно, удача, возможно, бойкий характер подруги помогли Аглае попасть к директору прямо в день ухода старой буфетчицы.
– Вот, Павел Сергеич, как и говорила. Ваша новая сотрудница —Глаша, – сияя, сказала подруга.
(Аглае было немного стыдно за подругу, и она отвела взгляд в сторону)
–Что ж хорошо. Бумаги принесли?
Аглая кивнула, почему-то покраснев.
– А что насчет опыта?
– Ну… Я работал в нескольких кафе…
– Ой, знаете, она такая скромная. —вмешалась вдруг подруга, – Вы даже представить не можете, какая она умница. Вот однажды, например, решили мы с ней встретиться у сквера…
– Хорошо, хорошо, —оборвал ее директор, – верю!
И директор искренне рассмеялся.
Как-то так вышло, что простота девушек ужасно понравились Павлу Сергеевичу, и, быть может, только единственно из-за смеха он принял на работу Аглаю.
Аглая купила за свои деньги аккуратный фартук, новенькие туфли на маленьком каблуке и чудесную заколку-крабик, так сильно понравившеюся ей в магазине «Все по пятьдесят!». Краситься Аглая не любила, да и опыта была мало. В ее сумочке из косметика была только гигиеническая помада с ежевичным вкусом.
Работа была несложной, но довольно скучной. По утрам привозили в коробках продукты с долгим сроком хранения, и Аглая расплачивалась, сверяясь с бумагами. Также в ее обязанности входило: соблюдать чистоту на рабочем месте, что означало —мыть полы вокруг столиков и бесконечно полировать стойку. Днем, когда лучи солнца заглядывали в огромные окна, Аглае было совсем нечем заняться, и от скуки она читала дешевый бульварный роман или же раскладывала бутылки сока в симметричные пирамиды. Лишь иногда к ней заглядывал немногочисленный дневной персонал. Уборщица, вахтер (называвший себя консьержем), тучный охранник – вот и все гости Аглаи днем.
Конечно, были дневные и даже утренние представления, в основном детские. Это совсем другое дело. В огромных залах эхом разносились детские голоса, исчезая в складках полированного камня. Воспитатель безрезультатно пытался поймать и созвать всех детей и злился от собственной беспомощности. А дети кружили вокруг колонн, скользили по плитке и прятались от взбесившегося воспитателя за стойкой Аглаи. Было весело —Аглая любила детей.
Актеры не заглядывали в ресторанчик «R?verie», возможно, гнушаясь этого места, возможно, не успевая перекусить между репетициями. Аглая была тайно рада, что не пересекается с актерами, потому что была уверенна, что не сможет держать себя в руках, увидев объект своих мечтаний. Да, Аглая все еще мечтала об актерской деятельности, и атмосфера театра убеждала ее в истинности желания. Но это была уже не та кристально-чистая мечта детства, которую посадила и взрастила бабушка. Это была невзрачная и мутная тайна, склеенная из осколков былой мечты. И скорее всего, если бы Аглая ушла из театра, то интерес ко всему актерскому скоро бы погас. Возможно, Аглая понимало это, и поэтому так крепко держалась за это место.
Часто она смеялась над собой, над неумением устроить свою жизнь, но смех был невеселый. В ее жизни было много серого и темного, лишь воспоминания, вынесенные из детства, скрашивали ей настоящую будничность. Все чаще ей вспоминалась бабушка, особенно в последние дни перед смертью. Бабушка —это самый близкий человек в ее жизни, Аглая никого не подпускала так близко к своему сердцу, как ее.
Бабушка все чаще сидела в плетенном кресле-качалке, смотря на улицу —она ждала возвращение внучки из школы. И вот в комнату забегала любимая Глаша, как говорила бабушка: «…уже совсем взрослая». Аглая горячо целовала бабушку в морщинистую щеку и усаживалась подле нее. Кипятился чайник, приносился поднос с пряниками. Дома становилось тепло и уютно. Аглая делала уроки, а бабушка расспрашивала ее про школу, порой подшучивая над директрисой, которая была одноклассницей Веры Павловны.
Дмитрий Анатольевич Чернавских
Весь мир – театр, но актеры не выйдут на бис. Порой акт длится несколько лет, и антракты не предусмотрены суровой администрацией. В этом театре человек одновременно играет единственную роль и наблюдает первый и последний спектакль из зрительского зала. И как известно: если двое говорят, а третий слушает, то это уже театр. Будем же этим таинственным "третьим" и устроим маленький спектакль в рамках непретензионного рассказа о милой девушке с редким именем.
Если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, – это уже театр.
Густав Холоубек
Аглая поправила синий фартук и всмотрелась в отражение стеклянной дверцы серванта. Аккуратненькое лицо смотрело на нее, немного улыбаясь. Аглае нравилось вглядываться в свое отражение. Особенно же ее умиляли круглые губы и розовые щеки, которые, если честно, были слишком ярки. Роскошные часы с позолоченным маятником пробили восемь вечера. «Сейчас придут»– подумала Аглая, улыбнувшись. И, действительно, по широким коридорам пронесся голос, сообщавший о начале антракта, нарастал гул, и люди стали спускаться по огромной лестнице к буфету. Все преобразилось и наполнилось живым звуком.
Женщины шуршали платьями и чуть приподнимали полы, боясь споткнуться на гладких ступенях; дети мелькали в отражениях зеркал, шумно сбегая по лестнице; а мужчины неспеша следовали за дамами, разминая затекшие от часового сидения ноги.
Аглая приняла радушное выражение и кокетливо сложила руки на отполированной стойке. Нарядно одетые люди заказывали горячие напитки и закуски, а Аглая мило улыбалась каждому и разговаривала с забавной девчачьей веселостью в голосе. Небольшой буфет – который администрация нарекла рестораном —наполнялся людьми и радостными голосами, в шуме которых терялись звоны миниатюрных чашек. Уютные лампы загадочно освещали зеленоватым светом буфетную стойку и круглые столики. Ароматы всевозможных духов и одеколонов парили в разгоряченном воздухе, смешиваясь с запахом свежей выпечки и чая. Дети, убежавшие от родителей, играли вокруг мраморных колон, обхватывая их своими маленькими ручками.
Женщины бальзаковского возраста с жаром обсуждал премьеру, жеманно складывая руки, обхваченные золотыми браслетами. Особенно же их интересовало платье Екатерины Трубецкой и мужественное лицо Императора Николая, с которым «я бы потанцевала, если вы понимаете, о чем я». Женщины хихикали, пряча улыбки в кулачки. О декабристах же они знали лишь то, что им говорил скучный учитель истории \много лет назад.
От горячего дыхания людей качалась гигантская люстра, сверкая хрусталем. Жарким золотом и ледяным серебром в ней отражались искры света и лица людей. Весь зал кружился в музыке голосов, платья мелькали меж колоннами, и праздник жизни мог бы продолжаться еще долго, но все тот же басистый голос объявил о завершении антракта.
На секунду все замерло, в апогее разнузданности и веселья: стакан с шипящим шампанским застыл в руке полного господина; кокетки, обсуждающие Трубецкого, в последний раз осклабились, обнажив белоснежные зубы; и ребенок с раскрасневшимися лицом застыл, потеряв на мгновение мать из виду. Но уже в следующую секунду всеобщая напряженность спала, уступая место мирному и культурному отдыху. Будто пришедшие в себя люди поспешно допивали чай. Все поднялись со своих мест и быстро скрылись за поворотом огромной лестницы, унося с собой шумный праздник.
И снова Аглая осталась одна. В эту бесконечно долгую секунду она была похожа на девушку с картины Мане «Бар в Фоли-Бержер». Тот же румянец, те же руки, опирающиеся на стойку, и тот же отрешенный взгляд, обращенный пустоте. Молодой буфетчице, Аглае тяжело было расставаться с публикой, так мило обходившейся с ней. Молодые люди шутили с ней, потягивая чай; дети называли ее «тетя» и забавно коверкали ее имя; а старушки премило улыбались ей ссохшимися губами. Но ежедневно равнодушный голос из динамиков отнимал минутную любовь у Аглаи, оставляя ее одну. В воздухе еще парили еле уловимые запахи духов, и хрустальная люстра тяжело качалась над головой.
Аглаи еще не было тридцати, а увидев ее, вы бы не дали ей больше двадцати пяти. Она неизменно носила сережки в форме золотых цветов, а на тонких пальцах не было ни одного кольца, даже обручального. Ей ужасно не везло в личной жизни. Иногда ей казалось, что ею интересуются лишь одни подлецы. По крайней мере, достойных мужчин она не встречала. В ее мыслях уже формировался мнительный образ забытой старухи, ведущей затворническую жизнь, но Аглая со свойственной мудростью и простотой отгоняла столь навязчивые фантазии. Часто она с завистью смотрела на молодую пару, спускающуюся по лестнице. Они держались за руки и будто дразнили одинокую буфетчицу своим счастливым видом. Аглая не уставала повторять себе: «Просто не мое. Повезет в другом. Да и не так уж вы счастливы, дураки.». И это действительно помогало, она научилась равнодушно и даже свысока смотреть на чужое счастье. Но это днем. А по ночам на красивых глазах Аглаи появлялись обжигающие слезы, и она обнимала холодную подушку, представляя любимого мужчину, который мог бы утешить маленькую и беззащитную Глашеньку. Никто во всем мире даже не подозревал о тяжёлой драме, прокручивающейся в голове Аглаи. Но ночи всегда проходили, и Аглая Степановна замазывала синяки под глазами и шла на работу, приняв серьезное и равнодушное выражение.
Работала Серафионова Аглая Степановна в ресторанчике «R?verie» уже два года. Нельзя сказать, что ей нравился процесс закупки, продажи, уборки. Даже совсем не нравился. Но мечтательная Аглая не могла покинуть это место. Таинственная атмосфера театра, роскошный интерьер и внимание людей держали ее. Возвращаясь в свою однушку, Аглая не могла всерьез воспринимать низкий потолок, потертую мебель и нависающую тишину – величие и простор театра слишком сильно полюбились ей.
Но история театра и Аглаи началась задолго до того, как она стала буфетчицей.
***
Бабушка Аглаи была настоящей светской львицей в хорошем смысле этого выражения (если такое имеется). Звали ее Верой Павловной. Несмотря на свой возраст она одевалась с шиком, присущим немногим в наше время. Вера Павловна не стеснялась косых взглядов и даже напротив будто наслаждалась неодобрением окружающих. Бабушка Аглаи считалась юмористкой, и некоторые злорадно называли ее «проказницей», пользуясь двусмысленностью русского языка и намекая на темное родимое пятно на шее. Она любила вкусно поесть, поговорить о литературе, похвастаться новым платьем. Но главной же ее страстью был театр. Она была постоянной посетительницей вечерних премьер, персонал дружелюбно здоровался со старушкой и порой пропускал ее без билета, о чем с гордостью заявляла Вера Павловна на каждом семейном ужине. Всем было известно, что Вера Павловна вполне комфортно чувствует себя в гримерке актеров и имеет короткое, порой даже неприлично короткое знакомство со многими артистами.
Именно бабушка настояла на имени «Аглая». Аргументы были настолько убедительными, что мать ребенка просто не могла противиться напору бабушки. Вера Павловна ужасно любила Достоевского, особенно «Идиота», откуда и узнала это редкое имя. Возможно, бабушка тайно мечтала, чтобы у внучки был такой же живой и страстный характер, как у Аглаи Достоевского. С ранних лет бодрая старушка окружила Глашу заботой и бесконечными историями о театре. Вера Павловна увлеченно рассказывала внучке о сплетнях и интригах, обитающих в закулисье. Благодаря бабушке маленькая Аглая могла увидеть многие представления с первых рядов, откуда открывался захватывающий вид на сцену. Видна была каждая деталь, каждая черточка на лице актера, каждый блик света. Рядом была не менее интересная оркестровая яма, и юная Аглая увлеченно следила за быстрыми движениями скрипача и удивлялась бордовым щекам мужчины, играющем на огромной тубе. Бабушка наклонялась к внучке и шептала ей имена и прозвища актеров, пуская забавные колкости в адрес каждого. Аглая с нетерпением ждала заветного вечера, когда она и бабушка шли в театр и садились на красные, мягкие кресла, предвкушая радость следующих часов, проведенных в этом таинственном и чудесном месте. Вообще же все детские воспоминания Аглаи, связанные с театром, окружены неким призрачным ореолом, словно покрыты легкой дымкой детских фантазий и волнующих тайн.
Несложно догадаться, что юная Аглая полюбила театр всем сердцем. И не менее сложно догадаться, какая мечта оформилась в ее детском сознании.
После вечеров, проведенных с неугомонной бабушкой, Аглая долга не могла уснуть и все представляла, как сотни прожекторов сойдутся на ней, тысячерукий зал зааплодирует ее актерскому гению, ее голос нетеатрально дрогнет и растает в оглушительных овациях и цветах, в которых потонет сцена.
Аглае и бабушке недолго пришлось уговаривать мать, чтобы та позволила дочери участвовать в театральном кружке. Аглая прилежно посещала занятия несмотря на то, что кружок имел явный хореографический, а не театральный уклон. Аглая удивительно легко мирилась со многим, и это качество не раз пригодилось ей во взрослой жизни. Руководительница кружка —немолодая, худая женщина в очках— хвалила спокойную и послушную ученицу и даже ставила ее в пример. Но будучи по природе своей стеснительной и неуверенной, Аглая редко проявляла инициативу и оказывалась всегда на вторых местах. Другие девочки не взлюбили Глашу, считая ее молчаливость проявлением высокомерия. Но Аглая по-философски равнодушно относилась к колкостям ровесниц. В этом равнодушие было что-то взрослое и рассудительное.
Аглая наблюдала за выступлениями учениц кружка и понимала, что они дурны. Девочки не играли, а кривлялись, их голоса неприятно ломались, и тела неестественно гнулись. Аглая знала, что можно сыграть лучше, но не верила, что в ее силах достигнуть этого «лучше». Так и выходило, что на районные конкурсы ездили не самые талантливые, а самые яркие, крикливо яркие. Но Аглая продолжала упорно заниматься, понимая, что должна развиваться и трудиться не для конкурсов и похвалы судей, а для себя и бабушки. Особенно для бабушки. Вообще же довольно странно слышать от ребенка слова: должна, обязана, надо —но Аглая будто знала, что добьётся успеха лишь в том случае, если будет настраивать себя как можно серьезнее.
Годы шли, но интерес к театру не гас, и все оформленней стала выглядеть мечта об актерской карьере.
Аглая стала реже посещать занятия, но больше занималась одна. Она могла часами стоять у зеркала, представляя различные ситуации и выражая одними глазами множество эмоций. Подобные сцены очень забавляли и умиляли Веру Павловну. Аглая была бабушкиной радостью. Но ничто невечно, все имеет свой логичный и правомерной конец. И семейно-актерская идиллия пришла к своему завершению самым прозаичным способом.
Бабушка стала болеть и реже появлялась в театре, но это сблизило ее с внучкой. Вечером вместо того, чтобы ехать на очередной праздничный ужин, Вера Павловна оставалась дома и премило беседовала с единственной и любимой внучкой. Сотни часов провели они вместе на кухне, попивая чай и обсуждая будущее Аглаи, конечно же, с театральным уклоном. Без светских встреч характер бабушки еще более смягчился, и теперь она стала совсем обычной старушкой в мягких тапочках и теплом халате. Новый, спокойный нрав бабушки полюбился всем родным, особенно Аглае. Как говорила сама Вера Павловна: «уж лучше посиделки с вами, чем с дрянными актерами и старыми кошелками, которым лишь бы перемыть кости и поплакаться о своей судьбе…»
Но посиделки закончились —Когда Аглае было пятнадцать, бабушка умерла. Все случилось быстро и тихо. Столь яркий человек при жизни ушел еле слышно, будто боясь побеспокоить близких. В последние дни она была необычайно тиха и мила, она только улыбалась спокойной улыбкой. Все понимали, что она покидает этот мир с чистой совестью и без страхов, а это достойно уважения. Только после смерти обнаружилось, что у нее совсем не было близких друзей. Были толпы знакомых, но друзей не было. Одна Аглая знала и понимала бабушку, остальные же прощались и говорили скорбные слова из жалкой условности.
Это был ветренный март, на похоронах люди кутались в одежду и дрожали. В этот день все молчали, и лишь опущенные взгляды говорил о многом. Но Вера Павловна была светлым человеком, и свет, который она излучала на протяжение всей своей насыщенной жизни, сумел остаться в этом мире. Так вышло, что родные бабушку вспоминали чаще доброй улыбкой нежели горькими слезами, а это о многом говорит…
Наступил тяжелый период для Аглаи, ведь она потеряла самого близкого друга и учителя. Без бабушки занятия казались бессмысленными – никто не интересовался увлечением Аглаи так, как бабушка. Занятия были заброшены, и Аглая надолго ушла в себя. Без надежной опоры, идти вперед стало тяжело и порой невыносимо. Аглая привыкла жить прошлым, игнорировать настоящее и ненавидеть будущее. Но у внучки были черты характера бабушки, и, быть может, поэтому Аглая сумела взять себя вовремя в руки и начала жить почти нормальной жизнью. Было тяжело, но девочка крепилась, приобретая драгоценные качества души. Но к театральной деятельности она так и не вернулась —слишком сильны были воспоминания о бабушке, для которой театр был неотъемлемой частью жизни.
Аглая успешно сдала экзамены и даже хотела поступить в театральный, но мать не поддержала дочь и настояла на юридической специальности. Аглая поддалась. Хватило легкого толчка со стороны матери, чтобы разбить и без того хрупкую мечту…
Мать Аглаи не была жестокосердечной дамой, напротив она желала дочери всего наилучшего. Мать искренне верила, что Аглая будет счастливее, если позабудет театр. Она считала, что эта несбыточная и пустая мечта слишком сильно терзает ее девочку, поэтому мечту лучше разбить.
Как и во всем, Аглая добилась большого успеха в университете. Терпением и прилежанием одерживались победы над скучнейшими предметами, преподавателями и над собой. До сих пор в фойе университета на стене почета, увитой разросшимся вьюнком, висит ее фотография с деканом факультета. Она улыбается, только совсем не веселой улыбкой, есть в ее взгляде что-то безысходное и бесконечно грустное. Но никто не понимал ее, и все поздравляли ее с получением красного диплома. Аглаю успокаивало одно – мать была счастлива.
После университета Аглаю приняли в частную компанию. Кем же там работала Аглая —не могла понять даже она сама. Не то кладовщиком, не то логистом, не то диспетчером, не то бухгалтером. Казалось, что все держится на ее тонких плечах – не будь ее все рухнет от бездействия. И хоть Аглая была натурой деятельной, но даже она не могла справиться с огромным ворохом обязанностей.
Однажды она пришла в офис директора – полного и краснолицего мужчины – и попросила уменьшить круг ее обязанностей, сетуя на усталость и забитость графика. Директор, поправляя синий галстук, согласился и даже пообещал «лучшей сотруднице» прибавку к зарплате. И тут Аглая уже была готова рассыпаться в горячих благодарностях, но губы директора растянулись в улыбке, и он предложил Аглае «одно ма-аленькое условие». «Присядь мне на колени, и я все расскажу…»—полушепотом произнес директор, сладострастно смакуя каждую букву. И улыбка вновь растеклась по его широкому лицу. Больше Аглая не появлялась на работе и избегала работадателей-мужчин.
С работой не везло, приходилось приспосабливаться и искать альтернативы. Много компаний сменила Аглая за три года. Она была бухгалтером сети продуктовых магазинов, которая закрылась после ужасного скандала с ПотребНадзором; была менеджером отдела кадров фирмы, не проработавшей и двух недель, официанткой в кафе «Фантазия», занималась каторжным копирайтингом и составлением статей. Но везде ей ужасно не везло, но дело было не только в везении. Пускай мечта давно разбита, но осколки еще царапают сердце. Аглая всей душой ненавидела подсчеты, котировки, бланки и условные чаевые, ей страстно хотелось в театр. Кем угодно, самой последней уборщицей, но в театр. Только бы смотреть на великолепные залы и вслушиваться в тишину мрамора и гранита.
И, наверное, в первый раз в жизни ей повезло. Ее подруга была гримером, правильнее сказать помощником помощника гримера. В-общем, имела к театру весьма мутное отношение, но имела(!). И вот эта подруга узнала, что старая буфетчица уходит на заслуженный отдых, а директору театра очень хотелось бы, чтобы в его ресторанчике работала смекалистая и юная девушка. Возможно, удача, возможно, бойкий характер подруги помогли Аглае попасть к директору прямо в день ухода старой буфетчицы.
– Вот, Павел Сергеич, как и говорила. Ваша новая сотрудница —Глаша, – сияя, сказала подруга.
(Аглае было немного стыдно за подругу, и она отвела взгляд в сторону)
–Что ж хорошо. Бумаги принесли?
Аглая кивнула, почему-то покраснев.
– А что насчет опыта?
– Ну… Я работал в нескольких кафе…
– Ой, знаете, она такая скромная. —вмешалась вдруг подруга, – Вы даже представить не можете, какая она умница. Вот однажды, например, решили мы с ней встретиться у сквера…
– Хорошо, хорошо, —оборвал ее директор, – верю!
И директор искренне рассмеялся.
Как-то так вышло, что простота девушек ужасно понравились Павлу Сергеевичу, и, быть может, только единственно из-за смеха он принял на работу Аглаю.
Аглая купила за свои деньги аккуратный фартук, новенькие туфли на маленьком каблуке и чудесную заколку-крабик, так сильно понравившеюся ей в магазине «Все по пятьдесят!». Краситься Аглая не любила, да и опыта была мало. В ее сумочке из косметика была только гигиеническая помада с ежевичным вкусом.
Работа была несложной, но довольно скучной. По утрам привозили в коробках продукты с долгим сроком хранения, и Аглая расплачивалась, сверяясь с бумагами. Также в ее обязанности входило: соблюдать чистоту на рабочем месте, что означало —мыть полы вокруг столиков и бесконечно полировать стойку. Днем, когда лучи солнца заглядывали в огромные окна, Аглае было совсем нечем заняться, и от скуки она читала дешевый бульварный роман или же раскладывала бутылки сока в симметричные пирамиды. Лишь иногда к ней заглядывал немногочисленный дневной персонал. Уборщица, вахтер (называвший себя консьержем), тучный охранник – вот и все гости Аглаи днем.
Конечно, были дневные и даже утренние представления, в основном детские. Это совсем другое дело. В огромных залах эхом разносились детские голоса, исчезая в складках полированного камня. Воспитатель безрезультатно пытался поймать и созвать всех детей и злился от собственной беспомощности. А дети кружили вокруг колонн, скользили по плитке и прятались от взбесившегося воспитателя за стойкой Аглаи. Было весело —Аглая любила детей.
Актеры не заглядывали в ресторанчик «R?verie», возможно, гнушаясь этого места, возможно, не успевая перекусить между репетициями. Аглая была тайно рада, что не пересекается с актерами, потому что была уверенна, что не сможет держать себя в руках, увидев объект своих мечтаний. Да, Аглая все еще мечтала об актерской деятельности, и атмосфера театра убеждала ее в истинности желания. Но это была уже не та кристально-чистая мечта детства, которую посадила и взрастила бабушка. Это была невзрачная и мутная тайна, склеенная из осколков былой мечты. И скорее всего, если бы Аглая ушла из театра, то интерес ко всему актерскому скоро бы погас. Возможно, Аглая понимало это, и поэтому так крепко держалась за это место.
Часто она смеялась над собой, над неумением устроить свою жизнь, но смех был невеселый. В ее жизни было много серого и темного, лишь воспоминания, вынесенные из детства, скрашивали ей настоящую будничность. Все чаще ей вспоминалась бабушка, особенно в последние дни перед смертью. Бабушка —это самый близкий человек в ее жизни, Аглая никого не подпускала так близко к своему сердцу, как ее.
Бабушка все чаще сидела в плетенном кресле-качалке, смотря на улицу —она ждала возвращение внучки из школы. И вот в комнату забегала любимая Глаша, как говорила бабушка: «…уже совсем взрослая». Аглая горячо целовала бабушку в морщинистую щеку и усаживалась подле нее. Кипятился чайник, приносился поднос с пряниками. Дома становилось тепло и уютно. Аглая делала уроки, а бабушка расспрашивала ее про школу, порой подшучивая над директрисой, которая была одноклассницей Веры Павловны.
Другие электронные книги автора Дмитрий Анатольевич Чернавских
Юхан




 0
0