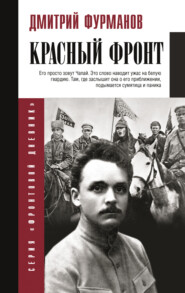По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В восемнадцатом году
Год написания книги
1923
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как не дадут? Потребовать!
– Пожалуй, требуй, – не дадут все равно…
– Попробуем!..
И говоривший, подойдя к двери, тихо постучал. Ему никто не ответил. Он громче – молчание. Тогда изо всей силы начал он молотить по двери кулаком. Послышался хриплый окрик:
– Што стучишь, сволочь?
– Воды надо дать, тут больная…
– Иди к…
– Дай воды, говорю! – приставал заключенный.
– Дай воды, дай воды!! – закричали еще три-четыре человека, и, приблизившись к двери, все забарабанили кулаками.
– Перестань… твою мать!! – закричал охранник за дверью.
– Дай воды!!!
И вдруг грянул выстрел…
Пуля пробила дверь чуть выше над головами.
– Сволочь!! – рычал рассвирепевший охранник. – Я дам бунтовать!! Успокою!.. Пад… длецы!!
Но заключенные не думали успокоиться. Поднялся невообразимый крик, протесты, брань, проклятья. За дверью на выстрел, видимо, прибежал кто-то из начальства.
– В чем дело? – спросили там.
– Воды сюда!.. И воспретить стрелять!!
Воды скоро принесли, и тот самый, что первый начал барабанить в дверь, подносил Наде доверху наполненную кружку.
Она уже сидела на полу: крики, а главное – выстрел, привели ее в себя.
– Что это было?
Ей объяснили:
– Воды не дают… Вам воды надо было дать… плохо себя чувствовали… а они не дают…
– А стрелял кто же?
– Это оттуда… из-за двери… чтобы не просили…
– И все это… из-за меня? – спрашивала и недоумевала Надя. Смотрела на этого вот смуглого рябого соседа, что поднес ей воду, и думала:
«Кто же он? Ну, и что ему я, совсем чужая? А жизнью ведь рисковал… могли убить… И что это они какие все тут дружные… А меня, как родную… даже место освободили… Положили… И воды принесли…»
С одного лица на другое переводила Надя восторженный, изумленный взгляд, и казалось ей, что лица эти какие-то особенные, что и смотрят они по-особенному и говорят… Это совсем-совсем другие, новые люди… Таких она не знала. Вот разве Климов один… Да, он, пожалуй, очень будет похож на них.
И, прижавшись к стене, глотнула два-три раза из кружки, потом ее отставила, задумалась… Мысли скакали неопределенные, она ни на чем не могла остановиться. Не было ни тяжести, ни страха, – только удручало воспоминание о стариках… Она в этой новой среде и совершенно новой обстановке чувствовала себя удивительно легко и понимала, что даром в жизни ей это испытанье не пройдет, что отныне начинается для нее какая-то новая жизненная полоса, – надолго она или не надолго, не знает, но этот день рассекает гранью на две половины всю Надину жизнь… И замирало сердце в ожидании желанных поступков и дел, совсем, совсем не похожих на те, что окружали ее до сих пор… Это будут новые дела, продолжение тех новых слов, которые впервые она услышала от Виктора. Где он теперь? И что с ним будет, когда придет и от стариков узнает, что Надю увезли… «Он, может быть, пойдет разыскивать? И его, может быть, допустят сюда… Мы увидимся… Нет, нет, как же это, разве сюда можно кого допустить?»
– Кудрявцева! – вызвал кто-то через дверь.
Надя замерла, не могла понять, кто бы это мог окликать и знать ее здесь, в подвале…
– Здесь Кудрявцева? – спросили снова.
– Я здесь, – отозвалась Надя.
– Выходи. Пойдешь на допрос.
Надю привели наверх, и какой-то незнакомый человек, развалившись за столом в полутемной закуренной комнате, задавал ей массу всяких вопросов:
– Фамилия?
Она говорила.
– Имя, отчество?
Говорила.
– Где живете, чем занимаетесь, чем родители занимались, что делала до 1917 и после, была ли судима и за что, к какой принадлежите партии, кому сочувствуете, как очутились в комнате записки о большевиках, кто такие «К» и «Ч» и т. д. и т. д.
Надя говорила ему так же, как офицеру, что записала в книжку лишь то, что слышала на улице, а про Виктора и Чудрова не обмолвилась ни единым словом.
Только на прямой и так изумивший вопрос: знает ли она Климова? – Надя ответила, что знает, и рассказала, как познакомилась и как потом несколько раз случайно они встречались на улице за это последнее время. Пока говорила, допрашивавший записывал ее показания, а когда закончил допрос, дал Наде прочитать, заставил ее подо всем этим подписаться. И когда уже Надю увели обратно в подвал, из-за ширмы вышел офицер, что делал обыск: он во время допроса был спрятан там и хотел проверить, то ли будет показывать Надя, что она говорила ему у себя в комнате. Потом он еще опасался, что сгоряча она в его присутствии может рассказать про пощечину, а этого срама опасался он паче всего и потому предпочел высидеть за ширмой добрых полтора часа.
– То же врет, сволочь, что и врала, – вяло уронил он следователю.
– Пощупаем, авось раскроется, – ухмыльнулся тот грязной усмешкой. «
– Девочка, скажу вам, н-ну! – И офицер причмокнул, приложив палец к губам.
– Разделяю… сострадательно р…р…разделяю: то-варец хоть куда! – подмигнул, подымаясь, следователь.
Побрякивая шпорами, они вышли в коридор.
Уже поздно вечером в камеру втолкнули еще троих незнакомцев. Надя узнала из разговоров, что кто-то и где-то «провалился», что состоял в городе совсем готовый штаб Красной гвардии и весь город разбит был на участки. Что-то неладное случилось в какой-то подпольной типографии, и тот, которого арестовали в типографии, будто оказался слаб на выдержку, не перенес испытаний и выдал некоторых из своих товарищей… В этом новом мире, среди новых людей, она чувствовала себя, как малый ребенок.
«Они все, – думала Надя, – что-то там делали, к чему-то готовились… У каждого была своя большая забота и каждый ее утолял, работал, рисковал, а я – я что сделала?»
И ей становилось совестно за то, что ничего она до сих пор не сделала, что только слушала хорошие слова, но к делу – к делу все еще не приступала…
Наутро вызвали из камеры шесть человек, куда-то увели. Больше они не возвращались. Потом еще… А вечером отобрали партию человек в двенадцать: сделали перекличку и одного за другим пропустили сквозь строй солдат, стоявших в коридоре… Надя сначала не поняла, отчего они уходят так глубоко тревожные и опечаленные, отчего им так крепко на прощание пожимают руки, даже обнимают, иные целуют крепко-крепко, – так целуют только в дальнюю разлуку…
– Пожалуй, требуй, – не дадут все равно…
– Попробуем!..
И говоривший, подойдя к двери, тихо постучал. Ему никто не ответил. Он громче – молчание. Тогда изо всей силы начал он молотить по двери кулаком. Послышался хриплый окрик:
– Што стучишь, сволочь?
– Воды надо дать, тут больная…
– Иди к…
– Дай воды, говорю! – приставал заключенный.
– Дай воды, дай воды!! – закричали еще три-четыре человека, и, приблизившись к двери, все забарабанили кулаками.
– Перестань… твою мать!! – закричал охранник за дверью.
– Дай воды!!!
И вдруг грянул выстрел…
Пуля пробила дверь чуть выше над головами.
– Сволочь!! – рычал рассвирепевший охранник. – Я дам бунтовать!! Успокою!.. Пад… длецы!!
Но заключенные не думали успокоиться. Поднялся невообразимый крик, протесты, брань, проклятья. За дверью на выстрел, видимо, прибежал кто-то из начальства.
– В чем дело? – спросили там.
– Воды сюда!.. И воспретить стрелять!!
Воды скоро принесли, и тот самый, что первый начал барабанить в дверь, подносил Наде доверху наполненную кружку.
Она уже сидела на полу: крики, а главное – выстрел, привели ее в себя.
– Что это было?
Ей объяснили:
– Воды не дают… Вам воды надо было дать… плохо себя чувствовали… а они не дают…
– А стрелял кто же?
– Это оттуда… из-за двери… чтобы не просили…
– И все это… из-за меня? – спрашивала и недоумевала Надя. Смотрела на этого вот смуглого рябого соседа, что поднес ей воду, и думала:
«Кто же он? Ну, и что ему я, совсем чужая? А жизнью ведь рисковал… могли убить… И что это они какие все тут дружные… А меня, как родную… даже место освободили… Положили… И воды принесли…»
С одного лица на другое переводила Надя восторженный, изумленный взгляд, и казалось ей, что лица эти какие-то особенные, что и смотрят они по-особенному и говорят… Это совсем-совсем другие, новые люди… Таких она не знала. Вот разве Климов один… Да, он, пожалуй, очень будет похож на них.
И, прижавшись к стене, глотнула два-три раза из кружки, потом ее отставила, задумалась… Мысли скакали неопределенные, она ни на чем не могла остановиться. Не было ни тяжести, ни страха, – только удручало воспоминание о стариках… Она в этой новой среде и совершенно новой обстановке чувствовала себя удивительно легко и понимала, что даром в жизни ей это испытанье не пройдет, что отныне начинается для нее какая-то новая жизненная полоса, – надолго она или не надолго, не знает, но этот день рассекает гранью на две половины всю Надину жизнь… И замирало сердце в ожидании желанных поступков и дел, совсем, совсем не похожих на те, что окружали ее до сих пор… Это будут новые дела, продолжение тех новых слов, которые впервые она услышала от Виктора. Где он теперь? И что с ним будет, когда придет и от стариков узнает, что Надю увезли… «Он, может быть, пойдет разыскивать? И его, может быть, допустят сюда… Мы увидимся… Нет, нет, как же это, разве сюда можно кого допустить?»
– Кудрявцева! – вызвал кто-то через дверь.
Надя замерла, не могла понять, кто бы это мог окликать и знать ее здесь, в подвале…
– Здесь Кудрявцева? – спросили снова.
– Я здесь, – отозвалась Надя.
– Выходи. Пойдешь на допрос.
Надю привели наверх, и какой-то незнакомый человек, развалившись за столом в полутемной закуренной комнате, задавал ей массу всяких вопросов:
– Фамилия?
Она говорила.
– Имя, отчество?
Говорила.
– Где живете, чем занимаетесь, чем родители занимались, что делала до 1917 и после, была ли судима и за что, к какой принадлежите партии, кому сочувствуете, как очутились в комнате записки о большевиках, кто такие «К» и «Ч» и т. д. и т. д.
Надя говорила ему так же, как офицеру, что записала в книжку лишь то, что слышала на улице, а про Виктора и Чудрова не обмолвилась ни единым словом.
Только на прямой и так изумивший вопрос: знает ли она Климова? – Надя ответила, что знает, и рассказала, как познакомилась и как потом несколько раз случайно они встречались на улице за это последнее время. Пока говорила, допрашивавший записывал ее показания, а когда закончил допрос, дал Наде прочитать, заставил ее подо всем этим подписаться. И когда уже Надю увели обратно в подвал, из-за ширмы вышел офицер, что делал обыск: он во время допроса был спрятан там и хотел проверить, то ли будет показывать Надя, что она говорила ему у себя в комнате. Потом он еще опасался, что сгоряча она в его присутствии может рассказать про пощечину, а этого срама опасался он паче всего и потому предпочел высидеть за ширмой добрых полтора часа.
– То же врет, сволочь, что и врала, – вяло уронил он следователю.
– Пощупаем, авось раскроется, – ухмыльнулся тот грязной усмешкой. «
– Девочка, скажу вам, н-ну! – И офицер причмокнул, приложив палец к губам.
– Разделяю… сострадательно р…р…разделяю: то-варец хоть куда! – подмигнул, подымаясь, следователь.
Побрякивая шпорами, они вышли в коридор.
Уже поздно вечером в камеру втолкнули еще троих незнакомцев. Надя узнала из разговоров, что кто-то и где-то «провалился», что состоял в городе совсем готовый штаб Красной гвардии и весь город разбит был на участки. Что-то неладное случилось в какой-то подпольной типографии, и тот, которого арестовали в типографии, будто оказался слаб на выдержку, не перенес испытаний и выдал некоторых из своих товарищей… В этом новом мире, среди новых людей, она чувствовала себя, как малый ребенок.
«Они все, – думала Надя, – что-то там делали, к чему-то готовились… У каждого была своя большая забота и каждый ее утолял, работал, рисковал, а я – я что сделала?»
И ей становилось совестно за то, что ничего она до сих пор не сделала, что только слушала хорошие слова, но к делу – к делу все еще не приступала…
Наутро вызвали из камеры шесть человек, куда-то увели. Больше они не возвращались. Потом еще… А вечером отобрали партию человек в двенадцать: сделали перекличку и одного за другим пропустили сквозь строй солдат, стоявших в коридоре… Надя сначала не поняла, отчего они уходят так глубоко тревожные и опечаленные, отчего им так крепко на прощание пожимают руки, даже обнимают, иные целуют крепко-крепко, – так целуют только в дальнюю разлуку…