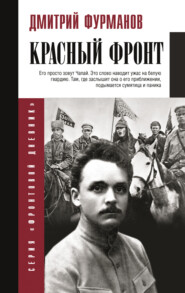По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мятеж
Год написания книги
1924
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так подготовились мы к делу. Джиназаков, узнав, что Кушин в Пишпеке, вдруг выехал оттуда в Верный. Мы недоумевали, как расценивать его приезд. Возобновили слежку. Были наготове. Несколько дней, два-три, прошли в тревожном ожидании. Мы знали, что Кушин облавой ездил в горы, нашел там какое-то оружие.
Близилось. Накалялось. Вот-вот ударит!
Потом телеграмма:
«Перехвачен гонец к Джиназакову. У него отобрана бумага, в ней значится:
«Согласно вашему предписанию, винтовки и патроны приготовлены».
Эту бумагу кто-то послал Джиназакову. Кушин своему заместителю в Верном отдал приказание Джиназакова немедленно арестовать. Заместитель даже забыл поставить нас об этом в известность – арестовал, и мы только через четыре часа узнали, что Джиназаков сидит.
Верно ли, нет ли – объясняли потом, что бумага, попавшая Кушину в руки, была подложная; что «гонец» был подослан каким-то личным врагом Джиназакова, и этот враг джиназаковский сам дал знать Кушину, что у «гонца» есть для Джиназакова секретная бумага. Одни этому верили, другие нет, – весь оборот дела признавали просто ловким ходом самого Джиназакова, который придумал дать делу такой оборот. Во всяком случае, все дальнейшее подтвердило опасения наши насчет джиназаковщины.
Мы понимали, какое сделали дело, арестовав теперь Джиназакова. Спокойно это обстоятельство миновать не могло. И действительно, в Ташкенте поднялась целая буря. Скоро прислали оттуда распоряжение: Джиназакова освободить. Но решительные действия особотдела расстроили все планы джиназаковской компании, – она почувствовала себя под ударом и, главное, под неустанным, зорким наблюдением. Сам Джиназаков по выходе из тюрьмы стал тише воды и ниже травы. Из Верного никуда не уезжал. С Кушиным раскланивался самым почтительным образом, льстил ему в глаза невероятно, а тем временем посылал доклады Турцику и настаивал, чтобы Кушина немедленно убрали из области. Да не только Кушина, – ультимативно он требовал изгнания из области целой нашей группы. Один из таких докладов попал нам в руки и показал воочию всю пакостность и двойственность его поведения. Но это было бы ладно. Нас беспокоило главным образом то обстоятельство, что комиссия джиназаковская решительно ничего не сделала и не делала для беженцев-киргизов. Областной же ревком формально не мог пока взяться за это дело. Мы устроили несколько заседаний совместно с джиназаковцами в земельном отделе и в ревкоме, старались разбередить их, отдавали по области за общей подписью распоряжения на места, – хоть как-нибудь пытались столкнуть дело с мертвой точки. А центру поставили, в свою очередь, решительный вопрос: или должна быть прислана новая комиссия взамен джиназаковской, или обязанности ее надо передать ревкому, ибо комиссия ровно ничего не делает.
Ответа не было. А Джиназаков ушел с головой в интриги и происки: толкался то и дело в особый отдел, старался там все разнюхать и разузнать, ко всем приставал, всех расспрашивал, собирал какие-то «материалы». Он, как оказалось потом, созвал секретное совещание всех мусульманских работников-коммунистов и такую жаркую, подлую развел там агитацию, так извратил факты, подтасовал и разукрасил, что – гонение, да и только!
Он распалил собрание своими речами, накалил донельзя атмосферу, и уже готово было собрание принять безумное решение:
– Отозвать со всех постов партийных мусульман-работников!
На счастье, тут подоспел Шегабутдинов. Авторитет его стоял среди членов этого собрания высоко – выше джиназаковского. И Шегабутдинову удалось отклонить, предостеречь вовремя взволновавшихся товарищей, указать на опасное их заблуждение. Предложение было снято, забраковано.
В один из ближайших дней в ревкоме состоялось заседание. Присутствовал и Джиназаков. Когда договорились обо всем, что стояло на повестке дня, он вдруг объявил, что хочет сделать доклад:
– Что? О чем? Какой доклад?
Голосовали: решили дать высказаться, хотя знали отлично, что нового ему сказать решительно нечего и станет он часа два-три переливать из пустого в порожнее и в конце концов начнет доказывать ошибочность собственного ареста, нашу вину, свою правоту и т. д., и т. д. Мы было, протестовали, но председательствовавший Пацынко – этот теленок в образе человека – вдруг начал поддерживать Джиназакова, склонились еще два-три члена, и доклад качали заслушивать.
Полилась пустая, ненужная болтовня. Джиназаков обостренно ставил все вопросы и, видимо, умышленно подливал масло в огонь – вызывал на резкие реплики и надеялся таким путем хоть что-нибудь выведать, узнать, вызвать кого-нибудь вгорячах на откровенность и услышать то, чего до сих пор о себе и аресте своем не знал. Но почти все присутствовавшие поняли смысл его выступления и сначала молча слушали, а потом резко начали перебивать.
– Я знаю, что тут над моим делом работает целая белогвардейская шайка, – гремел Джиназаков.
– Как шайка? – выкрикнул Кушин.
– Не вы, не вы, – заторопился Джиназаков. – Вы тут даже совсем ни при чем.
Он заискивающе, неприятно заулыбался. Но глаза горели, как уголья, – в них и ненависть, и обида, и жажда мести…
– Но кто же?
– Тут работает одно лицо… Оно стоит у всех за спиной… Оно имеет силу, ему помогают из Ташкента…
– Да кто же, кто? – дергались мы нетерпеливо на местах.
Вдруг – впечатление разорвавшейся бомбы: он назвал мою фамилию… Поднялась суматоха. Заговорили разом несколько голосов. Закричали. Запротестовали.
Собрание скоро пришлось оборвать – до того ли? Все были чрезвычайно взволнованы.
И бесспорно было, что эту мысль он старается всюду распространить, особенно же укрепляет ее в сердце доверчивых мусульманских работников. Вместе с моей фамилией он прихватил и три другие – Альтшуллера, Полееса, Зиновьева, председателя Пишпекского ревкома, которого мы не позволили Джиназакову сместить с должности.
Не могли мы пройти мимо этого неслыханного оскорбления, составили бумагу, послали Ташкенту:
В понедельник 24 мая 1920 г. на заседании Семиреченского обвоепревкома гражданин Джиназаков заявил, что в Семиречье ведется противомусульманская политика, что вся история ревизии особой комиссий Турцика по делам киргиз-беженцев 1916 года создана и раздута определенной группой белогвардейцев и контрреволюционеров, во главе которой стоят (перечислили наши фпмплки). Секретарствовал на этом собрании ближайший сотоварищ Джиназакова К. и протокола заседания умышленно не вел, а составил его позже, почему этот протокол и не мог точно передать всего, что на заседании было сказано. Подлинник этого документа хранится в делах уполномоченного реввоенсовета фронта.
Следуют подписи: моя, Кондурушкина, Кушина, Шегабутдинова, Альтшуллера, Полееса.
Чудаку Пацынко тоже предложили было подписаться, но он уже давно струсил, почувствовал, как сложна эта путаница со слежкой, арестами и т. д. и т. д.
– Не помню… Я ничего не помню, – промямлил он. – Говорили что-то про белогвардейцев, это верно… Но я не помню, ничего не помню…
Плюнули, отошли. С того момента он кувыркнулся в наших глазах. Но окончательно показать свое ничтожество ему предстояло еще впереди: во время мятежа он так перетрусил, что не вызывал даже злости, а только кроткое отвращение, – стонал, охал, нагонял на всех панику, опустил беспомощно руки и отдал себя «на волю божию».
Здесь на Джиназакове кончим. Скоро и эти события отошли в тень, – их сменили другие, более яркие и более трагические. Приближалось восстание семиреченской армии, и перед этим фактом джиназаковщина побледнела, пропала, на время о ней даже вовсе забыли. Уже теперь, через годы, стало нам известно, что Джиназаков действительно изменил Советской власти. Он перешел на сторону ферганских басмачей, был одним из виднейших организаторов и вдохновителей этого движения. Не то в бою, не то захваченный в плен – он был расстрелян.
III. Мятеж
В грозной обстановке грянул мятеж.
В Семиречье в те дни – что на вулкане: глухо выли подземные гулы, раскатывались зловещим, жутким рокотом – все ближе, явственней, тревожней. И каждый миг можно было ждать: распахнется вот наотмашь широкий каменный зев, раздастся еще шире накаленная глотка, и вымахнет из нее с воющей бешеной силой расплавленное море, – помчится с присвистом, с гиком огненный ревущий ужас, все сжигая, унося, затопляя на мертвом пути.
Что остановит бешеную лаву? Где сила, что осмелится перегородить ей путь?
Нет этих сил, все пожрет разъяренная стихия, слепым ураганом промчится она по благодатным, цветущим полям, по каменным городам, по богатым, плодами набухшим селам, где звонки игры и сыты табуны, все зальет смертоносными огненными волнами, и вмиг повсюду, где билась жизнь, станет тихо. Жизнь похоронена на дне, а над нею – дальше несутся с ревом все новые, новые бешеные валы и пожирают огненными накатами настигнутую добычу. Никто не угомонит ее чужой, – только сама угомонится буря: когда все пожрано, смыто, убито и выжжено, когда устала грудь великана-вулкана, истощила всю свою богатырскую силу и, ослабленная, сжалась в изможденный комок.
В грозной обстановке грянул мятеж.
Сытое крестьянство проклинало советскую диктатуру, не хотелось голодному центру хлеб отдавать по продразверстке, с проклятием изгоняло, а вгорячах и убивало, продовольственных агентов, издевалось над приказами Советской власти и, до зубов вооруженное, чувствовало себя надежно, в безопасности. А тем более теперь, когда с фронта освободилась эта свойская – семиреченская армия: она штыком и пулей подтвердит любое требование, что выставят мужички!
Туземцы-киргизы притихли. Замерли в тревожном ожидании: ужели близок час новой национальной резни? Теперь – это понимали и сердцем чуяли – как раз ей время, грозный срок. Теперь крестьянство и победоносная его армия не упустят момента и отомстят – ох, отомстят бедою за памятный шестнадцатый год… Недаром то здесь, то там сверкают зловеще эти первые вспышки-сигналы:
«Крестьяне разоружили туземную милицию…»
«Крестьяне угнали киргизский скот…»
Когтистый зверь пробует свою силу, оскаливает хищные зубы, выпускает остро-тонкие перламутровые когти. Когда он почувствует бессилие противника, – кинется диким прыжком и справит веселым задыхающимся ревом победную тризну на костях растерзанной добычи!
У крестьянства – армия, оружие…
У туземцев – нет ничего, только прибавились эти вот десятки тысяч голодных и нищих братьев, что воротились теперь на родину из китайских пустынь. А тут еще джиназаковская комиссия накалила воздух, растравила аппетиты, поставила киргиза на каждого крестьянина, на любого казака, как на злейшего врага.
Молчали тревожно и казацкие станицы, – им памятна, незабываема была суровая полоса восемнадцатого года. Армия казацкая побита – крестьянство главный теперь силач по всему Семиречью. Что он станет делать, силач? Куда ударит своей силой? Не захватит ли станицы казацкие?
Крестьяне, туземцы, казаки – каждый по-своему чего-то ждал и к чему-то готовился. Станицы, села, кишлаки ощетинились зловеще, готовые на битву.
Висели тучей над Семиречьем и остатки казачьих войск, что ускакали с генералами за китайские пределы.
Цепями и угрозой, несмотря ни на что, – ни на признанья, ни на восторги, – висела у нас, как петля на шее, плененная шеститысячная белая армия со множеством офицерства, наспех рассованного по советским учреждениям.
Близилось. Накалялось. Вот-вот ударит!
Потом телеграмма:
«Перехвачен гонец к Джиназакову. У него отобрана бумага, в ней значится:
«Согласно вашему предписанию, винтовки и патроны приготовлены».
Эту бумагу кто-то послал Джиназакову. Кушин своему заместителю в Верном отдал приказание Джиназакова немедленно арестовать. Заместитель даже забыл поставить нас об этом в известность – арестовал, и мы только через четыре часа узнали, что Джиназаков сидит.
Верно ли, нет ли – объясняли потом, что бумага, попавшая Кушину в руки, была подложная; что «гонец» был подослан каким-то личным врагом Джиназакова, и этот враг джиназаковский сам дал знать Кушину, что у «гонца» есть для Джиназакова секретная бумага. Одни этому верили, другие нет, – весь оборот дела признавали просто ловким ходом самого Джиназакова, который придумал дать делу такой оборот. Во всяком случае, все дальнейшее подтвердило опасения наши насчет джиназаковщины.
Мы понимали, какое сделали дело, арестовав теперь Джиназакова. Спокойно это обстоятельство миновать не могло. И действительно, в Ташкенте поднялась целая буря. Скоро прислали оттуда распоряжение: Джиназакова освободить. Но решительные действия особотдела расстроили все планы джиназаковской компании, – она почувствовала себя под ударом и, главное, под неустанным, зорким наблюдением. Сам Джиназаков по выходе из тюрьмы стал тише воды и ниже травы. Из Верного никуда не уезжал. С Кушиным раскланивался самым почтительным образом, льстил ему в глаза невероятно, а тем временем посылал доклады Турцику и настаивал, чтобы Кушина немедленно убрали из области. Да не только Кушина, – ультимативно он требовал изгнания из области целой нашей группы. Один из таких докладов попал нам в руки и показал воочию всю пакостность и двойственность его поведения. Но это было бы ладно. Нас беспокоило главным образом то обстоятельство, что комиссия джиназаковская решительно ничего не сделала и не делала для беженцев-киргизов. Областной же ревком формально не мог пока взяться за это дело. Мы устроили несколько заседаний совместно с джиназаковцами в земельном отделе и в ревкоме, старались разбередить их, отдавали по области за общей подписью распоряжения на места, – хоть как-нибудь пытались столкнуть дело с мертвой точки. А центру поставили, в свою очередь, решительный вопрос: или должна быть прислана новая комиссия взамен джиназаковской, или обязанности ее надо передать ревкому, ибо комиссия ровно ничего не делает.
Ответа не было. А Джиназаков ушел с головой в интриги и происки: толкался то и дело в особый отдел, старался там все разнюхать и разузнать, ко всем приставал, всех расспрашивал, собирал какие-то «материалы». Он, как оказалось потом, созвал секретное совещание всех мусульманских работников-коммунистов и такую жаркую, подлую развел там агитацию, так извратил факты, подтасовал и разукрасил, что – гонение, да и только!
Он распалил собрание своими речами, накалил донельзя атмосферу, и уже готово было собрание принять безумное решение:
– Отозвать со всех постов партийных мусульман-работников!
На счастье, тут подоспел Шегабутдинов. Авторитет его стоял среди членов этого собрания высоко – выше джиназаковского. И Шегабутдинову удалось отклонить, предостеречь вовремя взволновавшихся товарищей, указать на опасное их заблуждение. Предложение было снято, забраковано.
В один из ближайших дней в ревкоме состоялось заседание. Присутствовал и Джиназаков. Когда договорились обо всем, что стояло на повестке дня, он вдруг объявил, что хочет сделать доклад:
– Что? О чем? Какой доклад?
Голосовали: решили дать высказаться, хотя знали отлично, что нового ему сказать решительно нечего и станет он часа два-три переливать из пустого в порожнее и в конце концов начнет доказывать ошибочность собственного ареста, нашу вину, свою правоту и т. д., и т. д. Мы было, протестовали, но председательствовавший Пацынко – этот теленок в образе человека – вдруг начал поддерживать Джиназакова, склонились еще два-три члена, и доклад качали заслушивать.
Полилась пустая, ненужная болтовня. Джиназаков обостренно ставил все вопросы и, видимо, умышленно подливал масло в огонь – вызывал на резкие реплики и надеялся таким путем хоть что-нибудь выведать, узнать, вызвать кого-нибудь вгорячах на откровенность и услышать то, чего до сих пор о себе и аресте своем не знал. Но почти все присутствовавшие поняли смысл его выступления и сначала молча слушали, а потом резко начали перебивать.
– Я знаю, что тут над моим делом работает целая белогвардейская шайка, – гремел Джиназаков.
– Как шайка? – выкрикнул Кушин.
– Не вы, не вы, – заторопился Джиназаков. – Вы тут даже совсем ни при чем.
Он заискивающе, неприятно заулыбался. Но глаза горели, как уголья, – в них и ненависть, и обида, и жажда мести…
– Но кто же?
– Тут работает одно лицо… Оно стоит у всех за спиной… Оно имеет силу, ему помогают из Ташкента…
– Да кто же, кто? – дергались мы нетерпеливо на местах.
Вдруг – впечатление разорвавшейся бомбы: он назвал мою фамилию… Поднялась суматоха. Заговорили разом несколько голосов. Закричали. Запротестовали.
Собрание скоро пришлось оборвать – до того ли? Все были чрезвычайно взволнованы.
И бесспорно было, что эту мысль он старается всюду распространить, особенно же укрепляет ее в сердце доверчивых мусульманских работников. Вместе с моей фамилией он прихватил и три другие – Альтшуллера, Полееса, Зиновьева, председателя Пишпекского ревкома, которого мы не позволили Джиназакову сместить с должности.
Не могли мы пройти мимо этого неслыханного оскорбления, составили бумагу, послали Ташкенту:
В понедельник 24 мая 1920 г. на заседании Семиреченского обвоепревкома гражданин Джиназаков заявил, что в Семиречье ведется противомусульманская политика, что вся история ревизии особой комиссий Турцика по делам киргиз-беженцев 1916 года создана и раздута определенной группой белогвардейцев и контрреволюционеров, во главе которой стоят (перечислили наши фпмплки). Секретарствовал на этом собрании ближайший сотоварищ Джиназакова К. и протокола заседания умышленно не вел, а составил его позже, почему этот протокол и не мог точно передать всего, что на заседании было сказано. Подлинник этого документа хранится в делах уполномоченного реввоенсовета фронта.
Следуют подписи: моя, Кондурушкина, Кушина, Шегабутдинова, Альтшуллера, Полееса.
Чудаку Пацынко тоже предложили было подписаться, но он уже давно струсил, почувствовал, как сложна эта путаница со слежкой, арестами и т. д. и т. д.
– Не помню… Я ничего не помню, – промямлил он. – Говорили что-то про белогвардейцев, это верно… Но я не помню, ничего не помню…
Плюнули, отошли. С того момента он кувыркнулся в наших глазах. Но окончательно показать свое ничтожество ему предстояло еще впереди: во время мятежа он так перетрусил, что не вызывал даже злости, а только кроткое отвращение, – стонал, охал, нагонял на всех панику, опустил беспомощно руки и отдал себя «на волю божию».
Здесь на Джиназакове кончим. Скоро и эти события отошли в тень, – их сменили другие, более яркие и более трагические. Приближалось восстание семиреченской армии, и перед этим фактом джиназаковщина побледнела, пропала, на время о ней даже вовсе забыли. Уже теперь, через годы, стало нам известно, что Джиназаков действительно изменил Советской власти. Он перешел на сторону ферганских басмачей, был одним из виднейших организаторов и вдохновителей этого движения. Не то в бою, не то захваченный в плен – он был расстрелян.
III. Мятеж
В грозной обстановке грянул мятеж.
В Семиречье в те дни – что на вулкане: глухо выли подземные гулы, раскатывались зловещим, жутким рокотом – все ближе, явственней, тревожней. И каждый миг можно было ждать: распахнется вот наотмашь широкий каменный зев, раздастся еще шире накаленная глотка, и вымахнет из нее с воющей бешеной силой расплавленное море, – помчится с присвистом, с гиком огненный ревущий ужас, все сжигая, унося, затопляя на мертвом пути.
Что остановит бешеную лаву? Где сила, что осмелится перегородить ей путь?
Нет этих сил, все пожрет разъяренная стихия, слепым ураганом промчится она по благодатным, цветущим полям, по каменным городам, по богатым, плодами набухшим селам, где звонки игры и сыты табуны, все зальет смертоносными огненными волнами, и вмиг повсюду, где билась жизнь, станет тихо. Жизнь похоронена на дне, а над нею – дальше несутся с ревом все новые, новые бешеные валы и пожирают огненными накатами настигнутую добычу. Никто не угомонит ее чужой, – только сама угомонится буря: когда все пожрано, смыто, убито и выжжено, когда устала грудь великана-вулкана, истощила всю свою богатырскую силу и, ослабленная, сжалась в изможденный комок.
В грозной обстановке грянул мятеж.
Сытое крестьянство проклинало советскую диктатуру, не хотелось голодному центру хлеб отдавать по продразверстке, с проклятием изгоняло, а вгорячах и убивало, продовольственных агентов, издевалось над приказами Советской власти и, до зубов вооруженное, чувствовало себя надежно, в безопасности. А тем более теперь, когда с фронта освободилась эта свойская – семиреченская армия: она штыком и пулей подтвердит любое требование, что выставят мужички!
Туземцы-киргизы притихли. Замерли в тревожном ожидании: ужели близок час новой национальной резни? Теперь – это понимали и сердцем чуяли – как раз ей время, грозный срок. Теперь крестьянство и победоносная его армия не упустят момента и отомстят – ох, отомстят бедою за памятный шестнадцатый год… Недаром то здесь, то там сверкают зловеще эти первые вспышки-сигналы:
«Крестьяне разоружили туземную милицию…»
«Крестьяне угнали киргизский скот…»
Когтистый зверь пробует свою силу, оскаливает хищные зубы, выпускает остро-тонкие перламутровые когти. Когда он почувствует бессилие противника, – кинется диким прыжком и справит веселым задыхающимся ревом победную тризну на костях растерзанной добычи!
У крестьянства – армия, оружие…
У туземцев – нет ничего, только прибавились эти вот десятки тысяч голодных и нищих братьев, что воротились теперь на родину из китайских пустынь. А тут еще джиназаковская комиссия накалила воздух, растравила аппетиты, поставила киргиза на каждого крестьянина, на любого казака, как на злейшего врага.
Молчали тревожно и казацкие станицы, – им памятна, незабываема была суровая полоса восемнадцатого года. Армия казацкая побита – крестьянство главный теперь силач по всему Семиречью. Что он станет делать, силач? Куда ударит своей силой? Не захватит ли станицы казацкие?
Крестьяне, туземцы, казаки – каждый по-своему чего-то ждал и к чему-то готовился. Станицы, села, кишлаки ощетинились зловеще, готовые на битву.
Висели тучей над Семиречьем и остатки казачьих войск, что ускакали с генералами за китайские пределы.
Цепями и угрозой, несмотря ни на что, – ни на признанья, ни на восторги, – висела у нас, как петля на шее, плененная шеститысячная белая армия со множеством офицерства, наспех рассованного по советским учреждениям.