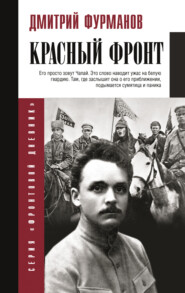По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мятеж
Год написания книги
1924
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Болтали что кому приходило на ум. Один другого вперегонку обвирали и перевирали, наслаивали на слухи свои «факты» и соображения. Слухи тучами носились над городом, рассыпались брызгами в живом человеческом потоке, в нем пропадали и из него вырывались вновь, мчались дальше неузнаваемо-странные, совсем иные, на себя непохожие: уж такова доля летучего слуха.
По учреждениям, разумеется, тоже работа на ум не шла – никто ничего не делал, слонялись без толку в коридорах, шушукались за столами, за углами, в нишах окон, иные настораживались робко, иные мужественно сплетничали, подхихикивали или поматывали головами и молча отходили, покусывая ус, почесывая затылок, – все в зависимости от того, рады или не рады были услышанному.
Не объявляя своей диктатуры официально, мы все же пытались в каждом своем выступлении сохранять крепкий, уверенный тон, чтобы хоть он прикрывал до известной степени наше вопиющее бессилие. Отпечатали и по городу пустили мы листовку:
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ…
По городу распускаются провокационные слухи о том, что местная крепость занята белогвардейцами.
Военный совет, Областной военно-революционный комитет, Областной комитет партии коммунистов-большевиков самым решительным образом заявляют, что подобные слухи носят характер самой черной, неприкрытой провокации, и вместе с тем предупреждают, что с распространителями подобных слухов они будут бороться самым решительным способом.
То печальное недоразумение, которое случайно имеет ныне место среди части Верненского гарнизона, несомненно будет улажено в самом непродолжительном времени.
Военный совет, Военно-революционный комитет и Областной комитет партии предлагают всем учреждениям и должностным лицам спокойно продолжать свою повседневную работу.
Никакой паники, никаким колебаниям не может быть места в эти дни среди партийных и советских работников и всех граждан Семиреченской области.
За председателя Военного совета Дм. Фурманов.
За председателя Областного военного революционного комитета Пацынко.
Член Областного комитета партии Верничев.
12 июня 1920 г. 11 часов утра.
Писали, но уж, конечно, знали, что «спокойно продолжать повседневную работу» никто не будет, да и не сможет до тех пор, пока не будет ликвидирован самый мятеж. Листовку выпустили мы больше для того, чтобы напомнить о себе, заявить, что живы, что нас еще не укокошили и что мы еще сохранили немало бодрости и даже дерзости: пугаем «самым решительным способом», который… и осуществить-то нечем.
Но этого требовали обстоятельства: листовка чуть-чуть придала нам бодрости, осадила заносчивость наших противников, – большего мы от нее и не ждали.
Кое-какая техническая сила, разумеется, с нами оставалась: были работники в штадиве, телеграфисты, машинистка, остался даже кой-кто из команд, но все эти силишки были так ничтожны и ненадежны, что и их мы опасались утерять ежеминутно, – что тогда делать, если и телеграфисты нас оставят вдруг?
Но они оставались: может быть, потому, что сознательно были с нами, а может, и потому, что мы глаз с них не спускали. Неизвестно. Но оставались и работали.
Вот, не странное ли дело: телеграф мятежники повредили только на Пишпек, да и то несущественно, а рвать его не рвали – для себя, видимо, хранили.
Связь телефонную оставили по всему городу, а с нами, со штадивом, то и дело даже переговаривали любезно о разных делах.
Они ждали. Они, безусловно, выжидали и были уверены, что с часу на час подойдет в Верный 26-й стрелковый. В этом они твердо были уверены. А одни, без его подмоги, начинать окончательное дело не хотели. И, кроме того, у них было совершенно неверное представление о наших реальных силах, – в особом и в трибунале они считали не меньше… 800 отборных бойцов и до десятка пулеметов! Откуда были у них эти сведения – неизвестно, но такое заблуждение крепости было нам очень на руку, и, ухватившись за него, мы сами раздували и рьяно распространяли слухи об имеющихся в резерве наших значительных силах. Слухи эти имели свое безусловное действие: они породили в крепости неуверенность, медлительность, робость, встали поперек активному выступлению. Тут случилось вскоре одно небольшое происшествие: это происшествие могло ускорить ход дела и обернуть его против нас драматическим образом.
В инженерную часть дивизии везли из Талгара четыре бочки спирту. Крепостники это добро перехватили и угнали подводы за собой, а там, в крепости, на манер вольницы запорожской окружили виночерпиев и требовали по чарке «зелена вина», приспособив на роль этой чарки… грязную, ржавую консервную банку.
И часть уже успела недурно налакаться.
Но тут вмешались вожаки и остановили пьянство: опасаясь, что наши «10 пулеметов и 800 штыков» их, перепившихся, положат на месте. Понапугали толпу, пригрозили опасностями – переломили охоту: страх смерти был выше жажды полакать из консервной банки.
А нам и это было на руку, иначе можно представить себе, что делалось бы вечером, ночью…
Надо сказать, что попавшие в крепость – Сараев, Шегабутдинов и Стрельцов – одни из лучших наших товарищей, тоже, но по-своему и в других целях, боролись в крепости с пьяным разгулом. Они знали, что в пьяном, буйном море прежде всего утопят военный совет и штаб дивизии. Так каждый по-своему и в своих интересах оберегал крепость от повального пьянства.
Шумно бушевала крепость. Она собой напоминала встревоженный табор, когда он под близкой опасностью наспех готовится к бою, в звонком зуде второпях оттачивает тонкие кинжалы, жирокоперые шашки, недосягаемой, высочайшей напрягся нотой и дрожмя дрожит в предчувствии неминуемой близкой сечи. Эта лихорадочная беготня, этот ревущий, неумолчный гомон, воспламеняющие крики, чьи-то кому-то обрывочные, безнадежные, бессвязные приказы охрипшей глоткой, раздраженные вопросы, дикие, но бессильные угрозы – звериным ревом дрожит над крепостью мятежный гул. Никакого начальства. Никакого управления. Долой все к черту! – крепостная масса сама разрешит все свои вопросы. О том говорили дикие крики и сумасшедшая суета.
Но уже просвечивали первые признаки организации. Чутьем чуяли мятежники, что без организации ничего не поделать. Долго еще не уходиться разгульному самовольству, еще долго крепость станет сама, гулом и воем своих собраний, обсуждать вопросы, но к тому идет, и придет время (пришло бы оно!), когда зажмет железная рука разбушевавшиеся толпы, заклешит их недвижимо дисциплиной плети, шашки, свинцовой пули и поведет, прикажет идти.
И пойдут – покорные, безвольные, не видя, не понимая своего нежданного пути.
Ночью у казарм, когда только выступали, раскололись мнения: одни говорили, что надо тотчас идти на штаб дивизии, захватить его и арестовать или тут же прикончить все начальство.
Другие урезонивали и до подхода 26-го полка не решались на этот шаг, зато крепость захватить считали весьма полезным:
во-первых – прибрать в ней к рукам оружие;
во-вторых – укрепиться, приготовиться к встрече;
в-третьих – подогреть на выступление остальные части;
наконец – разбудить деревни, привлечь и вовлечь сразу в дело массу крестьянства.
Со своей точки, правы были, конечно, первые. В интересах восставших надо было действовать решительно уже с первого момента. Что-нибудь одно: или у штадива есть силы – и тогда от сил этих не укроешься в крепости, ожидая 26-й полк; или у штадива нет достаточных сил – и тогда зачем ждать подхода новых сил, когда управишься легко и теми, что есть налицо? Правы были первые: быстрым ударом надо было грохнуть на штадив, нас всех арестовать, а может быть, и расстрелять. Власть захватить немедля и полностью, произвести массовые аресты, заявить о единой собственной власти, – словом, всем и во всем показать, что за тобой победа! А мятежники – так они сделали? Ничего подобного: они только наполовину заявили о своей победе, а дальше – открыли с нами целую серию переговоров и совещаний, как в тину, затянули себя в споры и обсужденья, в этой тине сами и увязли. Мы их в эту тину усиленно тащили, ибо при данных обстоятельствах только здесь было наше спасение, спасение нашего дела. Мятежники выступили с грозными словами, но грозных дел совершить не сумели. Их сбивало с толку предположение, что в особом, у нас и в трибунале – много сил: недаром после того как вооружились они награбленным из транспорта оружием и готовы были идти из казарм в крепость, выслали сначала сильные дозоры к особому и трибуналу – ждали оттуда удара.
Но удара не было. Тихо, без криков, без песен походных, чуть позванивая оружием – проходили они в густом мраке ночи, рота за ротой, в крепость. Там разбили склады, растащили из них оружие. Стража крепостная и не подумала сопротивляться – посторонилась, дала дорогу, а потом и сама присоединилась к восставшим.
Как только вошли – эх, забегали, шныряя по всем углам, загалдели, вверх дном кувырнули тихую жизнь крепости, врезали в глухое безмолвие ночи лязг, и свист, и ржанье коней, и крикливую обжигающую брань. Взвыла, заржала, застонала, зазвенела июльская ночь. Во взбаламученной крепости один за другим все быстрей нарастали, все грозней завывали пенные, мятежные валы.
В крепости, в центре людского потока, – Петров и Караваев.
Петров – коренаст, крутобок, детина атлетический. Небольшая голова, стриженная накругло, посажена глубоко и плотно в мускулистые, тяжелые плечи. Ладонь – как лопата: широченная. Ноги коротки, но крепки и жилисты, легко бросают корпус на ходу. Вся фигура, как слитая, словно осаженная в землю, ядреная, выносливая. В сощуренных хитрых зеленых глазках – мысль, а за мыслью дрожит и бьется беспощадная звериная жестокость. Фронтовик. В бою – боец, неустрашимый рубака. В кругу товарищей – скандалист, забияка, выпить не дурак, охотник пображничать.
Во всем под стать ему Караваев – забулдыжная, лихая голова: этому ничто нипочем. Недаром из песни самое у него любимое:
«Все отдам – не пожалею».
И это верно. В бою – и храбр, и находчив, и выручит в беде, и жизнь отдаст вгорячах – не пожалеет.
А вот тихую, без грома боевого жизнь и любит и не отдаст без слез, станет просить, как просил потом на суде:
– Пощадите. Простите. Исправлюсь. Смою пятно. Клянусь…
Ростом низок, крепко скроен Караваев, как барсук. Широкоплеч. Жилист и гибок, в движенье ловок, словно джигит. И на коне, как джигит, – ему конь с седлом, что мяснику табуретка: верное место. Черные волосы сухи, густы и жестки. Низкий лоб не сулит добра. Хищные зубы из-под багровых обветренных губ – так сверкнут за лукавой улыбкой, аж жуть берет: глотку прогрызет и кровь всю высосет. Вампир. Над губами – словно зола понасыпана, приютились короткие темные усики; под ними, как бык в стену лбом, уперся в грудь непокорный, крутой подбородок. В черных хитрецких глазах – и забубенная радость жизни, ухарский пляс под рыдающую гармошку, и безумная, грани не знающая удаль, всепожирающая, страстная отвага. Говор караваевский – чистый, трескучий, торопливый говорок. Лукавая, насмешливая улыбка все сбивает с толку, и не знаешь: правду говорит или глумится, свое держит на уме Караваев. Он с Петровым подымал казармы, это они строили ночью в строй красноармейцев, подбрасывали винтовки, отсчитывали патроны, слали дозоры в разные стороны и вели на крепость, подвели, ввели и там всю суматоху кружили вокруг себя.
К ним в батальон приходил Чеусов, из «коммунистов», работал в милиции, был начальством. Не боялись его восставшие, знали, что за «коммунист»: с такими коммунистами можно…
Чеусов говорил про свои нужды, про несчастия милиции, про пакостное начальство, что наехало из центра, поддакивал насчет «страдающих без вины красноармейцев», которых-де притесняют и насилуют, и загоняют, охал и ахал вместе с казармами, проклинал и крыл на чем свет стоит разные «верхи». Словом, был у них «свой человек». И нужный человек.
Годов ему тридцать пять – тридцать восемь. На желтом сухом лице свинцом отливают карие остывшие глаза. Темно-русые негустые волосы над высоким, просторным лбом. Темно-русые, пышно-пуховые усы – он их ладонью то и дело вздыбливает из-под губ. В движениях медлителен и раздумчив, не быстр и в решениях, но может вскипеть негодованием – тогда ударит сплеча. Грамотность небольшая, о ней не беспокоится, живет не ученьем, а больше своими мыслями и тем, что видит-слышит кругом: это запоминает и понимает быстро. Чеусов приходил в казармы, знал, куда идут красноармейцы, но с ними не пошел – пришел прямо в крепость. И как пришел – за дело: речи, речи, речи, разговоры разные, советы, указанья, – вошел в дело плотно, учуял, обсмаковал, взялся за вожжи.
В батальоне 27-го, в Джаркентском, когда он выступал, было много чужого народу – вооружали всех набежавших: тут были одиночки комендантской команды штадива, были из батальона 25-го полка, что здесь стоял, было много ребят из караульного батальона. Из караульного же были Вуйчич и Букин. Оба играли потом немалую роль.
В Туркестане по местам, иссохшим от зноя, растет корявое, сучковатое, изгорбленное дерево: саксаул.
Вуйчич напоминал саксаул: так был неуклюж, тощ и высок и согнут-перегнут в разные стороны, словно кто-то ломал его и не сломал вовсе, а только перекрутил как железный прут.