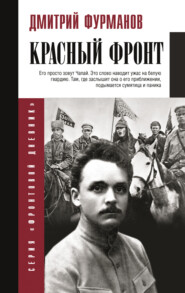По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мятеж
Год написания книги
1924
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы умышленно ставили ему так круто и откровенно вопрос: пусть, думали, перейдет к крепостникам. Зато будет знать, что подмога нам из Ташкента уже идет, а это будет действовать устрашающе, это, может быть, удержит кой от каких шагов. Потом мы сказали ему, что дело хотим ликвидировать бескровно. Это сказали искренно, это и есть основная линия наших действий, – пусть в соответствии с ней и свои строит планы. Затем – и это для него главное – дано понять, что в случае оказания нам помощи мы возьмем его под свою опеку и поможем, добьемся, чтобы за эту заслугу простили ему старые грехи.
Так приручили мы Павла Береснева.
Держали на глазах, полной веры к нему, разумеется, не имели, но в дело пустили.
Тем временем в 26-й полк с секретным пакетом послали верного хлопца Лысова.
– Запомни, Лысов, – наказывали ему, – если мятежники прочитают письмо – всему конец. Дальше ждать не станут… Не давайся в руки… и письмо не давай…
Вскакивая на коня, пихая за пазуху пакет, ухмыльнулся Лысов:
– Будет справлено. Будьте в надежде. Если станут отымать пакет – я его в клочья, а сам… эх!
И крепко ударил ладонью по рукоятке нагана.
– Ну, айда-айда, Лысов, скачи!
Конь заиграл, взметнул тучу пыли, – пропал по улице Лысов.
Потом узнали, что доскакал он благополучно: переулками пустых окраин выбрался в горы, а там пробирался глухими, неезжими тропинками. Эти места ему близко были знакомы: горное бездорожье служило ему самым близким и верным путем.
В пакете командиру полка описывалось происшедшее и указывалось, как надо поступать со своим полком и как нам помочь в нужную минуту. Сам комполка опасений не внушал, но братва в полку была столь разнузданной, что смахнуть его могла в единый миг: это же были почти одни семиреки…
Тем временем и крепость в 26-й полк послала своих представителей.
Но Лысов прискакал первым, насторожил, ко всему приготовил командира полка. Крепостную делегацию, как только она показалась, похватали и посадили в каталажку.
Напрасно крепостники шумели, протестовали, ссылаясь на свои полномочия, потрясали мандатами, требовали разговоров со всем полком. Их к полку, разумеется, не пустили, а страсти утишили тем, что показали дула винтовок и не шуткой пригрозили. Полк ничего не знал про мятежную делегацию.
А делегация именно к полку и рвалась, требовала, чтобы пустили ее поговорить на открытом собрании зараз «со всеми братьями-красноармейцами». Это было для нас самое опасное. Тут бы непременно «своя своих познаша». Весь полк согласился бы не с нами, – с мятежниками: это ведь были все те же семиреки!
В нашем пакете указывалось на необходимость полк удержать на месте во что бы то ни стало; крепостников ни под каким видом к бойцам не пропускать; осветить должным образом верненские события, как начало белогвардейского восстания, стремящегося свергнуть в области Советскую власть. И затем – вынести постановление, закрепить в резолюции готовность полка защищать Советскую власть с оружием в руках, осуждая восставших, угрожая им расправой.
Такие же сведения дали мы и 4-му кавалерийскому. Эти сведения попали и в Кара-Булак. Вскоре из всех этих мест действительно примчались в Верный резолюции:
«Советскую власть в обиду не дадим!»
Это была нам серьезная поддержка. Этими резолюциями потом мы немало козыряли, хотя и знали, что грош им цена, что приди назавтра в город 26-й полк – и через десять минут он будет в крепости, а через двадцать – снимет нам головы.
Да и крепость не без оснований заявляла:
– Какие это резолюции, какая им цена, кто их принимал? Полки-то, наверное, о них и не знают; одни командиры да коммунисты принимали… А ты нам самый полк подавай – мы с ним сами начистоту поговорим.
И уж совершенно очевидно, что, поговорив с полками «начистоту», крепость имела, бы их в своих рядах. Мы это знали и потому в своей среде резолюциям цены большой не придавали, хоть и использовали их широко, раздули и нашумели, разгласили, опубликовали, где можно, грозили ими налево и направо.
А силы наши, жалкие наши силы, все таяли и таяли.
Уж давно к крепостникам перебежала комендантская команда, перебежали и остатки караульного батальона, приведенные Масанчи: не то что сочувствовали они мятежникам, а просто боялись оставаться маленькою кучкой против такого сонмища врагов. По этим же соображениям и партшкола начала поговаривать об уходе в крепость; из особовской и трибунальской команд то и дело исчезали отдельные перебежчики, а один даже утащил с собою пулеметный замок.
Рассыпались, пропадали наши силы, скоро они и вовсе нас оставили. Ушли партийная школа и рота интернационалистов.
Всего-навсего осталось нас человек пятнадцать – двадцать партийцев. Теперь о вооруженном сопротивлении и думать было бы смешно: исход дела – мы это понимали – будет зависеть исключительно от нашего умения лавировать, от спокойствия и выдержки, от крепких нервов и неутомимой, несдающейся энергии.
Двадцать человек против пятитысячной разъяренной толпы! Теперь в крепость набежало даже больше пяти тысяч. Вооруженных только – было полторы! Население пригнало лошадей, – там создаются свои конные части.
Словом, растет и крепнет крепость по часам и минутам, а мы, мы силами высохли до дна, остались крошечной кучкой, – мы предоставлены только себе самим.
Из особого отдела сюда же, в штадив, перевезли все ценности, все важнейшие бумаги и дела. Заботливый Мамелюк настоял на том, чтобы и из банка ценности перебросить сюда же. И их перевезли.
Все сгрудились в штадиве, словно на крошечном островке, осажденном ревущей, бушующей, гневной стихией.
Наши делегаты из крепости воротились ни с чем, крепостников мы тоже отпустили «голодных», только разожгли им аппетиты намеками на вооруженную подмогу из Ташкента, на наши скрытые силы здесь, в Верном, нашу технику и т. д. и т. д.
Крепость просила новую делегацию. И на этот раз определенно указывала, кого хочет видеть: начдива, военкомдива, двух комбригов, завподивом и т. д.
Нет, довольно, пока не надо показывать, что мы исполняем немедленно их любое желание! Надо повременить, иначе сразу поймут, что мы бессильны и на все немедленно согласны. И, кроме того, почему же это нужны им такие «именитые» делегаты – начдив, два комбрига… Нет, нет, дело ясное: это они хотят снять у нас самый цвет, нашу военную головку. Такую жертву принести мы не можем.
Мы отказали. Заявили, что в крепости совещаться не хотим, а предлагаем у себя в штадиве. От штадива они отказались. Тогда предложили мы им нейтральное место, не крепость и не штадив – штаб киргизской бригады. Крепость помялась, покочевряжилась, но согласилась. Было условлено, что сойдемся там в четыре часа дня и с каждой стороны будет по десять представителей. Готовились к заседанию, собирали материал, совещались.
Я около этого времени дал Ташкенту телеграмму:
Ташкент, Реввоенсовет Туркфронта тов. Новицкому
Сообщаю новые сведения. К батальону присоединились следующие части: караульный батальон, батальон 25-го полка, нештатный артвзвод, милиция, Интернациональная рота за исключением 70 человек[18 - Этого первого разговора у меня не сохранилось, и в делах я его не нашел.], и, кроме всего этого, к ним непрерывно стекается население. В крепости создан руководящий орган, так называемый Боевой совет. Он намеревается провозгласить свою диктатуру, оцепить город, разогнать Особотдел и Ревтрибунал. Это, безусловно, найдет и уже находит широкое сочувствие у населения, которое к данному моменту снабдило восставших лошадьми. Имеются сведения, что восставшие на днях созывают какой-то съезд. Ночью восставшими послана делегация в Илийское к 26-му полку, но наказ этой делегации узнать не удается. Двенадцатого в десять часов утра получено сообщение от комполка 26-го по проводу о том, что он делегацию арестовал, но это действие мы считаем проявлением дисциплинированности самого командира, но отнюдь не полка, вероятно, солидарного во всем с восставшими, так как эти последние решили не принимать никаких решительных мер до прихода 26-го полка, который ими ошибочно ожидается с часу на час. При создавшейся обстановке и впредь до подкрепления мы считаем преждевременным объявлять свою диктатуру, так как наша слабость реальной силой не позволяет нам диктовать. Одно название диктатуры не придает нам сил, а с другой стороны, оно озлобит крепостников и вынудит их открыто заявить о своем военном превосходстве. Не регламентируя своей диктатуры и не раздражая этим крепостников, мы в то же время продолжаем издавать свои приказы и распоряжения.
Вам необходимо уяснить, что наши силы далеко не равные и всякий резкий шаг может родить нежелательные осложнения. До прихода новых сил мы с неизбежностью держимся выжидательно и завязали с ними переговоры. Была их делегация у нас и сообщила, что крепостники не будут предпринимать против нас никаких мер, но в их словах была отмечена неточность и противоречие. Мы в свою очередь посылали к ним делегацию из четырех товарищей, но переговоры ни к чему не привели, так как крепостники решение крупных вопросов, например вопросов об оружии, очищении крепости, подчинении нашим приказам и прочее, откладывают до прихода 26-го полка. Они предложили прислать в крепость для переговоров начдива, военкомдива, двух комбригов и завполитотделом.
Это нам показалось подозрительным. Выходило так, что они у нас могли снять разом всю военную головку, и поэтому мы предложили им заседание устроить в нейтральном доме, пригласив туда по равному количеству представителей от обеих сторон.
Ответа пока нет.
Сообщите, что и когда выслано вами в подкрепление.
Уполреввоенсовета Дм. Фурманов.
Эту телеграмму шифровал неизменный Рубанчик, помогал ему Никитченко, а что надо было печатать – на посту стояла Лидочка Отмарштейн. Мы Рубанчику изумлялись, – шифры он запоминал с быстротой необыкновенной, выдалбливал их наизусть и чужую шифровку нам читал по памяти, как простую писаную бумажку.
Город давно уж был на ногах. Встревоженное население еще с ночи, в первые же минуты восстания, узнало о переходе войск из казарм в крепость.
Тут-то и поползли и поскакали разные слухи и измышления:
– Сдавшиеся казаки захватили город.
– Щербаков наскочил из Китая, и весь город занят белыми…
– «Власти» перевешаны…
– Красноармейцы сдались «казакам»…