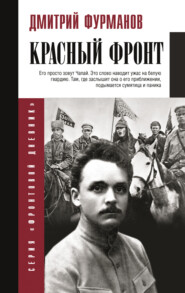По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Морские берега
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда «не сошлись» вы в цене – уж поведут обратно другими дворами, по иным переулкам, чтобы спутать с пути и след замести. И все священное действо плутни ползет тишком, шепотком…
Контрабандное дело – опасно и скользко, как глиняный мокрый скат: можно червонцами вспучить мошну, можно за клеть угодить, можно посеять и голову в горных походах – раз не приходит на раз. Сеть контрабандная тонко, сложно вита – истоки ее в пограничной турецкой полосе. Там гнезда крупных скупщиков. Они готовят партии тончайших дорогих товаров, пакуют их в мешки и гонят караван горами, глухими тропками, которые знакомы только мастерам таинственных походов. Оптовики товаров не везут: их миссия окончена тогда, когда в мешках с рук на руки сбывается товар. Везут груженые мешки горцы – они на этот случай носят при себе не только боевой кинжал – за поясом чернеет дуло пистолета, за плечом дрожит винтовка. В горах советская стража, – она сторожит контрабанду. И часто ночью там совершаются жуткие драмы: контрабандисты народ отчаянный и ловкий, даром в руки не даются. Обмануть недремлющую стражу, хитро и смело провести через трудный путь свой тайный караван – эта опасная игра увлекает контрабандиста, дает ему острое наслажденье, как всякий азартный матч. И вот – караван пришел под Батум – здесь встречают его ловкачи-скупщики, укрыватели, сбытчики, они уж заботиться станут о том, чтобы вся контрабанда попала в липкие лапки тучам мелкой торговой мошкары, что вьется, жужжит по городу. Бывает и так (на первый взгляд совсем потеха!): тот. кто привез товар, сам выдает себя властям, по закону берет полцены советской – мирится на малом доходе. И снова едет, играет жизнью, снова везет и снова сбывает, пока не получит крепкий удар. Когда уж несносно мучит легкая выгода и нет сил отразить соблазн – выдают один другого: продажный народишко, жаден на грош, за деньги друг дружке режут походя глотку. Рассказывал как-то мне Муджа – дедка-рыбак, будто артель турецких дельцов отправила раз горами большой караван дорогих товаров и вручила все дело одному из своих, именем Бен-Оглы. Он был старый контрабандист. Но он был и старый плут – это знала артель и за Бен-Оглы дослала свой верный глаз. Оглы товар провез без лиха, сбыл его дорого и быстро, а сам себе смастерил документ, будто товар у Оглы отобрала казна. Поехал он, сытый обманом, к своим в артель. Но зоркий глаз следопыта все уследил в игре Бен-Оглы и ранее донес в артель плутам про коварство старого плута Оглы. Седобородые, хитрые, гнев в глубину вогнав, встретили горестно и виду не дали, что знают тайну. А потом повязали веревками накрест, увели побелевшего Бена в горы, скрепили туго с кобыльным хвостом, завязали дикой кобылице глаза и гнали горами к пропасти, хлестали бичами, кололи Оглы – пока не спугнули потную кобылицу в бездонный обрыв.
Мне рассказывал про жизнь контрабандную старый Муджа, когда мы вдвоем с ним были в море.
– Как был и я помоложе, – говорил Муджа, – сам я займался тем делом, да слепнуть стал, отстал… А бедовая она, эта жизнь: так и гляди, что пулю словишь… Мы раньше морем больше ходили, здесь работу вели, – и Муджа обвел кругом костлявой тощей рукою. – А теперь по морю строг стал дозор – горами больше наш брат идет… Э-эх, житье!
И не поймешь – отчего так глубоко и грустно он вздохнул, старина: то ль жаль ему стало, что слеп и теперь не с руки вести опасную старую жизнь, то ли обида брала, что в море пропала совсем контрабанда, – горами, в сухую пошла…
Старик сидел, сухой и прямой, за длинными веслами легкого ялика, глядел бесстрастно мутными, подслеповатыми глазами в море и молчал.
А море – тихое, гладкое, словно остывшая зеленая лава. Качались на якоре медленно и скучно две огромные серые фелюги. Где-то далеко-далеко, за многие версты, по ровени волн черной точкой, как в поднебесье птица, обозначился пароход. Чайки ныряли над морем, гладкой грудью касаясь светлой волны. Город с моря казался мал и тих. Мы сидели молча – я и Муджа, каждый думал свое, каждый по-своему понимал и любил, что было кругом.
Афон
Афон теперь по-туземному зовется Псырцха, но жители все еще кличут по старой памяти Псырцху Афоном. Звать – как ни зови – это только полдела, а живое, настоящее дело в том, что нет больше в Афоне притона святошеского, а на месте притона – огромный цветущий совхоз.
Это уж да, это уж бесспорное дело!
Когда-то на эти места, к монастырским «святыням», со всех сторон и плыли, и шли, и съезжались богомольцы, несли с собою и малые и немалые дары, крепили могущество Афона. Жили в Афоне сотни монахов, кормились щедрым подаянием. Правду сказать – нижайшее монашество и работало вдосталь: сливки спивали только «святые верхи».
Так десятки лет цвел-расцветал Афон. Вырос из жертв богомольческих белый красавец храм: с моря далеко маячит он взору, как белый голубь, запутанный в темных тенетах лесов. И так он построен искусно, что виден открыто и явственно разом со всех сторон – играет на солнце, как нежная дорогая игрушка, что взору на отдых вырезал мудрый строитель в дебрях глухой горы. Богомольцев сходились сотни, – они размещались внизу, у моря – там стоит осанистый белый корпус. И каждый пришелец мог жить и кормиться бесплатных четыре дня – на пятый ему говорили добром, на шестой приходил полицейский чин и встряхивал молельщику забывчивую память.
Те, которых кормили бесплатно, грошишки свои растрясывали иным путем: на свечки, лампадки, молебны, акафисты, на целованье икон, на сборы – поборы монашеские.
И потом, когда уходили, им на память вручался адрес афонский – по этой торной тропе надо было и впредь не лениться слать свои гроши, чтобы воистину связь держать духовную со святым местом.
Главная сила Афона была не в грошах богомольческих – эти гроши лишь на ходу, по привычке сдирались, было зазорно монаху с путника мзду не принять: так и докрасна кровью сытый паук навсегда за стыд для себя почтет живою оставить, нетронутой легкую мошку, дрожащую робко в липких его паутинах. Главная сила Афона была в щедрых дарах богачей-толстосумов, им после чадных ночей по «Стрельням» любо было бесследно пропасть, затеряться на краткий срок в бесшумных и кротких и ласковых тихостью жизни покоях Афона. Они приезжали сюда в покаянных слезах, они проводили здесь ночи и дни, как безвинные агнцы, которых во имя чьих-то чужих и черных грехов ведут на закланье: вставали во тьме, пред зарей, и покорные, трудные клали поклоны, потом монастырскую службу стояли с начала до конца – безмолвные, смирные духом. И так отбывали господнюю барщину днями, неделями, а там, зарядившись, уезжали к столичным особнякам и, будто из клетей спущенные звери, яростно кидались утолить голодное терпенье.
Эти каяльщики были щедрой сумой, которая сытно питала ненасытную афонскую мошну.
И вот – вдруг и все перевернулось: на месте святейшего притона буйно расцвел совхоз. Сотни рабочих дружно взялись за работу по маслинным садам, в виноградниках, в мастерских. У рабочих вырос свой местком, у месткома – большая веселая работа. В совхозе абхазские большевики, в совхозе ребята-комсомольцы, – их знают далеко в горах, к ним за нуждой идут, за советом, за помощью горцы. В совхозе клуб, и вечерами – посмотри, сколько сидит там народу, липнет к библиотеке или на открытой террасе, за большим столом, за газетами.
Афонский совхоз – культурный центр на широкую горную округу. В Афоне своя отличная мельница, у Афона своя электростанция; совхоз афонский как маленькое царство в советской абхазской стране. Монашью рать распустили по белу свету. Многие осели тут же, по ближним местам, занялись кто чем, иные, говорят, морем уехали на древний Афон, десятка три живет при совхозе, заняты делом, как и все, а сорок человек укрылись от мира в лесную чащу, на дикую Псху-реку, что где-то горами протекает за восемь десятков верст от Афона.
Слышно, там они построили домишки и молятся, постятся в одиночестве, питаясь скудным огородным добром и тем, что достанут в горных поселках, что разбросаны в побережьях Псхи.
Был вечер, когда мы приехали в Афон. На морском берегу длинный белый корпус – номера приезжающих (здесь-то и жили ходоки, приходившие в монастырь на богомолье). Подобрали вещишки – вошли в номерной коридор. По коридору медленно и косолапо двигался монах – его можно было опознать издалека по соломенной несуразной и широченнейшей шляпе, по кислому, постному выражению оскопленного лица. Подошел, встал боком, словно осердясь, и спросил, глядя в сторону, будто и не нам говорил, стене:
– Номер, што ли?
– Номер, отец…
Он скрипуче перевернулся на подошвах и пошел, не сказав ни слова; мы догадались, что надо идти вслед. Монах достал из глубокого кармана тяжелую связку ключей, приоткрыл дверь пустой комнатки, только что насвеже выбеленной, и молвил:
– Тут!
Мы переулыбнулись, глянули внутрь – там чернела голая железная кровать: ни матраца на ней, ни белья, ни подушек, а в комнатке ни стула, ни табуретки.
– Отец?
– Чего?
– А матрац-то где?
– Какой матрац?
– То есть как же это? Спать то на чем будем?
– На кровати, – пояснил монах и невозмутимо почесал под шляпой грязную голову.
Но у нас, усталых с пути, нервы были не так покойны, как у этого святого привратника.
– Брось шутки, дядя, шутить! Даешь матрац!
– Жалуйтесь! – шикнул монашек смиренно. – Уполномоченному надо, а я что: нет и нет…
– Так номер тогда зачем сдавать?
– Жалуйтесь! – повторил он еще тише и заковылял косолапо назад по коридору.
Гостиницей заведует «отец» Авенир – косолапого монаха зовут Полиевктом. Авенир – высоченный дебелый мужчина, до седых волос сохранивший свежесть свою и красоту. Мы к нему.
– Слушайте, как же матрац?
– Жалуйтесь…
– Да что вы тут все, черт вас заешь: жалуйтесь да жалуйтесь…
– А так и есть, – молвил со змеиной кротостью Авенир, – назвались курортом, напустили народу приезжего, а сготовить всего не сумели. На себя пенять надо – мы што?
Старик злорадствовал, но отпирался недолго: матрац нашли. Больше того. Когда мы друг дружку признали «де-факто» – нашлась и подушка и даже пара стульев: великое дело эта дипломатия!
Афон – молодой курорт, только в этом году оперяться стал. Житье в номерах – удобное, тихое и покойное. Окна распахнуты прямо в море. Море целый день и целую ночь шумит неуемным гулом, гонит в сон.
Все бы ладно, только с монахами в точку разом никак не попасть. Работают они словно бы и много, заняты накругло целый день, а все как-то нехотя, нудно это у них получается, легкости, радости нет в труде, словно и не дело делают – мочало жуют.
– Слушай, – говорю я раз Полиевкту, – как бы мне это звать ладнее тебя: товарищем звать – обидишься поди, отцом назвать – мне не с руки.
– Ни мне, ни тебе! – ответил монах. – Зови Полиевктом!
– А грубовато словно выходит? А?
– Ништо… Только «товарищем» звать не надо – какой я есть товарищ?
Я поглядел ему сочувственно в серое лицо и в самом деле понял, что звать монаха товарищем – что селезня волом.
– Так вот бы что, – говорю ему, – жил я тут четыре дня, мусору, пыли – ба! Номер убрать бы пора.