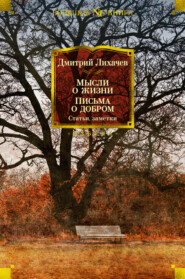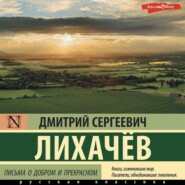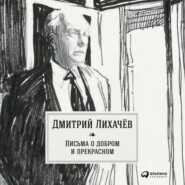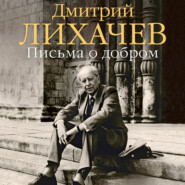По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Четвертое измерение (сборник)
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Реболдовская дорога была изумительно красива, и однажды я ее прошел всю до самой Реболды, откуда переправа была на Анзер. Вблизи Реболды начинался «бегущий лес», впоследствии вырубленный. Это были многолетние сосны с толстыми стволами, которые постоянный ветер пригнул к земле, и они поэтому казались «бегущими» и живыми. На что они могли понадобиться? Древесина их была плотной и плохо поддавалась пиле.
Зато какие бревна были в срубе сторожевой избы, где в тепле можно было дожидаться переправы на вёсельных лодках! Гигантские по длине и толщине прокопченные бревна, создававшие впечатление глубокой старины. Мне казалось, что я нахожусь прямо-таки в XVII веке. Да оно, пожалуй, так и было…
Природа Соловецких островов словно создана между небом и землей. Летом она освещена не столько солнцем, сколько громадным высоким небом, зимой – погружена в низкую кромешную тьму, смягченную белизной снега, изредка прорываемую сполохами северного сияния, то бледно-зелеными, то кроваво-красными. На Соловках все говорит о призрачности здешнего мира и о близости потустороннего…
Острова – разные по ландшафту. Два Заяцких, Большой и Малый, на которых не растет ни единого дерева, красота которых – в изумительных цветовых сочетаниях лишайников, камней и валунов, кустов и полярных березок и в возможности отовсюду видеть море. Здесь нельзя заблудиться. Все кажется диким и пустынным, и только низкие лабиринты напоминают об обычаях, которые создал себе человек. Два острова, Большая и Малая Муксалма, покрыты лесами и болотами, холмами, обрывающимися у моря, и тучными пастбищами, на которых веками паслись коровы. Искусственная дамба соединяет Большую Муксалму и Большой Соловецкий остров. Великолепен Анзер. Природа его пышная и словно даже веселая. Песчаные пляжи и прекрасные лиственные леса напоминают о юге. Но высокую гору острова венчает Голгофский скит, самим своим названием пророчески предсказавший невыносимые страдания умиравших здесь стариков, калек и безнадежно больных, свезенных сюда со всего лагеря, замерзших, заморенных голодом, заживо погребенных. Центральный остров – Большой Соловецкий – собрал в своем ландшафте все, что имеют другие острова. К тому же триста озер, больших и малых, часто несущих на себе еще новые острова, на которых могли содержаться и особо секретные заключенные, которых лишали возможности видеть других людей, а когда-то – затворялись отшельники.
Здесь – большой природный Рай, но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех населявших Россию народов! Здесь, в этом мире святости и греха, небесного и земного, природа и человек соединились в необыкновенной близости.
Огромные валуны служили основным строительным материалом: из них воздвигнуты башни и стены, вместе с плинфой и кирпичом они легли в основание храмов. Крыши крыты тесом, купола – лемехом. Но иконы и книги, алтарная резьба и кованое железо свидетельствуют об огромных усилиях человека преодолеть природу, поставить дух выше материи, создать из природы гигантский храм. Скиты словно сужают расстояние по всему острову. Землянки отшельников и медные кресты, вросшие прямо в стволы деревьев, о которые ломали зубья двуручных пил заключенные на лесозаготовках.
Триста озер Большого Соловецкого острова, самые большие из которых соединены между собою каналами, чтобы непрестанно пополнять чистой водой большое Святое озеро, по берегу которого поднимаются главные постройки Соловецкого монастыря, поставленные на перешейке между Святым озером и морем. Разница в уровне, как говорили, – 8 метров. Эта разница позволила создать в монастыре водопровод, канализацию, использовать различную технику, построить быстро наполняемые и опорожняемые доки для починки судов, прекрасную хлебопекарню, портомойню, кузницу (исключительную для XVI века), снабжать водой трапезную и т. д. и т. п. Монастырь мог бы служить наглядным опровержением ложных представлений об отсталости древнерусской техники. Святое озеро – это, по существу, гигантский пруд, искусственно созданный, чтобы заставить жить и работать все жизнеобеспечивающие механизмы монастыря.
Восемь метров перепада уровней моря и озера, образовавшегося от перемычки, заставляли строить стены храмов с широким фундаментом, создавать стены и храмы, как бы тяжко, незыблемо стоящие на земле, чтобы уберечь обитателей монастыря от врагов и непогоды, создать внутри монастыря условия для процветания маленького живописного садика, где всюду были места, удобные для душевного отклика и молитвенных размышлений престарелых монахов.
Соловецкие острова – место, где ощущение творящего Бога и временности человеческого постоянно поддерживается сменами времен года, ритмом суток, длинными ночами зимой и длинными закатами вечером, длинными восходами солнца по утрам, быстрыми сменами погоды, многообразием ландшафтов, ощущением длительности истории этих мест, отмеченных языческими лабиринтами и обетными крестами, храмами и часовнями, где напряженный крестьянский и ремесленный труд был бы так свят и так угоден Богу.
И вместе с тем уже в монастырское время в мирную молитвенную и трудовую жизнь монахов врывались и чисто мирские заботы: столкновение с еретиками, пребывание в нем сосланных, большое старообрядческое восстание, приведшее к длительной осаде в 1668–1678 годах и сотням погибших, чьи тела валялись непогребенными перед монастырем на льду…
Заканчивались мои прогулки к морю на противоположной стороне от монастыря – недалеко от Переговорного камня. Я знал, что выбирать место для отдыха надо на каком-либо мысу, куда обычно не заезжал «главный хирург» Соловков латыш Дегтярев. Но я не знал, что у него появилась маленькая собачка с необыкновенным чутьем, выдрессированная на человека. Людей она чувствовала на большом расстоянии.
Я выбрал место для отдыха на берегу бухты с противоположной стороны от той, с которой делал свой объезд на белой лошади «начальник войск Соловецкого архипелага» Дегтярев. За камнями меня трудно было увидеть. И вдруг я услышал отвратительный пискливый лай собачонки. Ко мне в объезд бухты скакал Дегтярев – главный расстрельщик Соловков. Я успел натянуть брюки и ринулся в лес, захватив все остальное под мышку. На мое счастье, в лесу была длинная болотистая полоса, видимо, бывшая когда-то руслом реки. Через этот болотный «ров» лежала огромная ель. Я ступил на ствол, и меня прямо перенесло на противоположную сторону. Если бы не страх попасть к Дегтяреву (а от него прямо на Секирку), я никогда не был бы таким «храбрым», чтобы перейти по стволу с одного берега болота на другой. Дегтярев остановился и, нарушив удивительную благостность соловецкого леса отборной бранью, не стал меня преследовать, да и не мог он спешиться и бежать за мной. Почему он не стал стрелять – не знаю.
Кримкаб
Отец Николай Пискановский и владыка Виктор Островидов, пока я находился в 13-й роте («общих работ»), делали попытки устроить меня на какую-либо канцелярскую работу или на работу полегче. Однажды, когда мы возили свиной навоз (вот запах-то!), к нам подошел и со мной познакомился очень почтенный и красивый немолодой господин с седой бородой, в черном полушубке и с самодельной березовой палочкой в руках. Это был А. Н. Колосов. Минута разговора – и мне обещана «постоянная» работа в Криминологическом кабинете. Не сразу, правда. Из 13-й роты я попал в 14-ю роту – в трапезную палату, где я заболел тифом. И вот после «роты выздоравливающих», размещенной в страшном подземелье с низкими сводами в трещинах, я очутился в привилегированной третьей роте. Меня встретил командир роты, бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц, и поместил прямо в комнату к А. Н. Колосову на топчан, стоявший под окном (вдоль окна). Я был слаб, имел освобождение и не работал. Сидел один в камере на топчане. Первым вернулся около 8 вечера с работы Александр Николаевич и посмотрел на меня с удивлением и опаской. Я не сразу понял эту опаску. Потом я сообразил: Александр Николаевич боялся, что я могу заразить тифом жителей камеры. Он просил командира Притвица поселить меня на неделю в коридоре. Притвиц отказался. Ограничились тем, что мою корзинку с вещами вынесли в коридор или куда-то. Я прошел уже несколько дезинфекций, но корзина действительно представляла опасность, тем более что именно от нее, по-видимому, в санчасти, куда меня сперва поместили, когда я заболел, заразился тифом Иван Михайлович Андреевский, работавший врачом и взявший мою корзинку к себе под топчан.
Я был очень смущен опасениями Александра Николаевича и чувствовал себя первые недели в камере чужаком. В камере жили генерал Осовский и два счетовода – барон М. Т. Дистерло и Борис Николаевич Афинский. Не помню когда, но очень рано появился в камере и Федя Розенберг, которого удалось взять из коридора. Александр Николаевич был безусловным главой камеры. Он занимал лучшее место и спал на деревянном монашеском диване. Это было большое преимущество. Единственный стол в камере был приставлен ближе всего к его дивану. Вечерами и по утрам он ставил на этот стол зеркальце и долго расчесывал перед ним бороду, усы, массировал вазелином лицо. У него был ухоженный вид. Носил он высокие сапоги, синие галифе с лампасами и зеленый френч. В прошлом (во время войны 1914 года) он был военным прокурором, судьей и пр. Чувство своего превосходства жило в нем прочно, но вместе с тем воспитание делало его очень приятным в общежитии человеком. Он был всегда ровным, не сердился. Только по дрожанию век можно было определить, что он был чем-то раздражен. Он был хороший рассказчик, хороший слушатель. Читал в свое удовольствие книги в «хорошем вкусе» (преимущественно Тургенева, которого доставал в библиотеке, – она помещалась у театра и состояла из конфискованных у заключенных книг или из книг, пожертвованных заключенными в библиотеку при освобождении). На работе (в гостинице у пристани на третьем этаже помещался наш Кримкаб[6 - Мне исключительно посчастливилось, что благодаря усилиям отца Николая Пискановского и владыки Виктора Островидова я стал работать в Криминологическом кабинете. Николай Павлович Анциферов пишет в своих воспоминаниях «Из дум о былом» (М., 1992): «Я мечтал работать в Криминологическом кабинете, где собирали рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось мне, я лучше пойму психологию людей “Мертвого дома”» (с 346). Н. П. Анциферов не пишет, что не только в понимании преступников было дело. Хотелось ему работать в Криминологическом кабинете потому, что там работали его друзья – А. А. Мейер, К. А. Половцева, А. П. Сухов и др.] – Криминологический кабинет) он умел создавать впечатление у начальства большой и важной деятельности. В нашей рабочей комнате он сидел долго, тем более что это было и удобно, и читал романы, держа карандаш на весу в руке, облокотясь о стол. Внезапно вошедшее лагерное начальство всегда заставало его в этой «рабочей позе», и нельзя было усомниться в том, что он что-то пишет, т. е. «работает». По воскресеньям мы часто не имели выходных, но Александр Николаевич «уходил по делам» с каким-нибудь официальным поручением и гулял с самодельной березовой палочкой по Филимоновской дороге в сторону Глубокой Губы. Когда я получил от А. И. Мельникова пропуск по всему острову, мы гуляли с ним вместе, и прогулки эти были для меня очень полезны. Он обладал и жизненным опытом, и начитанностью в русской классической литературе, и способностями рассказчика. Когда Александра Николаевича отправили в Кемь осенью 1929 года (зимой у него подходил срок), мои прогулки продолжались с не менее интересным человеком – тоже юристом Владимиром Юльяновичем Короленко – племянником писателя.
В чемодане у Александра Николаевича был превосходно сшитый синий шевиотовый костюм и рубашка с отложным воротничком и галстук. Когда надо было идти докладывать начальству или когда в Кримкабе ожидался приход машинистки Ширинской-Шихматовой, Александр Николаевич надевал свой костюм и выглядел великолепно – барином. Он как-то особенно складывал губы при появлении Ширинской-Шихматовой и всячески тонировал. С работавшей у нас в Кримкабе Юлией Николаевной Данзас (она не была ему прямо подчинена, занимаясь вырезанием из газет нужных начальству сообщений – каких? я никогда не интересовался) Александр Николаевич был менее галантен, хотя был не прочь и тут, как мы говорили, «распустить хвост», но не производил на нее впечатления.
Из всего предшествующего можно подумать, что Александр Николаевич был несерьезен. Нет, он сделал великое дело. Он дал идею создания в Соллагере Детской колонии – для несовершеннолетних преступников – и спас, хотя и не перевоспитал, с помощью своих сотрудников сотни бывших беспризорников. Это началось в 1928 году, и наша Детская колония была первой такого рода и такого масштаба в Советском Союзе. Он так сумел убедить начальство в показной (показательной) выгодности этого начинания, что оно приняло огромные по тем временам масштабы. В организации принял участие начальник КВЧ Д. В. Успенский (партийный деятель, по слухам, отправленный на Соловки вольнонаемным сотрудником). Были построены бараки (некоторые стоят на Соловках и до сих пор). Каждому подростку был дан топчан с бельем. Подросткам, жившим по общим ротам часто в одном белье, были выданы бушлаты, обувь, была придумана форма – шапки особого фасона – «линденеровки». Непосредственно хозяйственным организатором колонии был Линденер, обрусевший немец, бывший сотрудник Академии наук в Ленинграде. На смену ему пришел наркомюст Белоруссии Зданевич, смененный из-за полной тупости героем Гражданской войны, командармом Дальневосточной республики Иннокентием Серафимовичем Кожевниковым.
Кримкаб сохранял над этой колонией научное руководство. Положение очень выгодное для всех нас, придуманное Александром Николаевичем.
Почему необходимо было собирать детей на месте? Почему нельзя было в то время просто вызвать их из тех рот, «командировок», пунктов, где они находились, пользуясь их личными делами, находившимися в УСЛОНе в Адмчасти? Потому, что с учетом в лагере существовал удивительный беспорядок. Подростки, которых собирали на вокзалах, по улицам из асфальтовых котлов, из ящиков под пассажирскими вагонами и т. д., каждый раз при опросах называли себя иными фамилиями, проигрывали в карты малые сроки и меняли их на большие, имели одинаковые приметы, если эти приметы заносились в дело. Мне приходилось уговаривать подростков не менять своих фамилий, пока их не заберут в колонию. Но они боялись колоний, подозревали обман, и поэтому только часть их, отобранных для колонии, попадала туда. Но зато когда колония стала действовать и слух о хороших условиях в ней прошел по островам, подростки стали охотно соглашаться поступить туда, и мне уже пришлось меньше ходить за ними и записывать о них сведения.
Такой же беспорядок существовал и со взрослыми. Скажем, был такой случай. Москву решили очистить от нищих. «Черные вороны» объезжали церкви и с папертей брали нищих, а затем без суда и даже опросов (записывалась лишь фамилия, год рождения и еще м.б. что-то) отправляли на Соловки и прямо с пристани на Анзер, а там на Голгофу. То же самое происходило и «в обратном направлении»: людей расстреливали – «неисправимых», не понравившихся, опасных, как казалось начальству, – а затем списывали их как умерших от какой-либо болезни. Такие расстрелы с оформлением их через санчасти были приняты не только в Соловках. Обычно таких расстреливаемых по произволу местного начальства долго не держали в карцере – максимум два-три дня. Так было, по-видимому, с Осоргиным, Покровским, Багратуни, Гацуком и многими другими.
Число расстрелянных обычно было больше числа тех, в отношении которых был вынесен приговор. Проверить это сейчас трудно, но что это было именно так, нет сомнений.
О работе Кримкаба я расскажу особо. Сейчас же скажу только об одном эпизоде моей работы, непосредственно связанной у меня с Александром Николаевичем. Последний поручил мне составить записку об организации колонии, изложив мне примерное ее содержание. Я писал ее несколько дней и, мне казалось, написал живо, убедительно и доступно для нашего полуграмотного начальства. Я ожидал похвал от Александра Николаевича, но когда он ее читал, я заметил: уголки глаз у него дрожали. Он признал записку никуда не годной и принялся ее исправлять. В записке появились «понеже», «поелик», «принимая во внимание», «как явствует из вышеизложенного» и пр., т. е. как раз те выражения, которых я старался избегать, но которые, как оказалось, были нужны, чтобы «произвести впечатление». Я был расстроен. Мне было это непонятно. В общем – не сразу я разглядел, сколько добра, и отнюдь не поступаясь своими интересами, принес в Соллагерь Александр Николаевич Колосов – человек светский, тонирующий, бонтонный и при этом практически необыкновенно умелый и деловой. Может быть, этот стиль был обычен для старого царского чиновничества?
Не удивительно, что осенью 1929 года, когда мы провожали в камере 3-й роты Александра Николаевича (его «вывозили на материк»), то вечер этот был очень грустным и очень памятным. Я, как Лариосик, попробовал первый раз в жизни произнести тост (держа в руке кружку с компотом) и не смог – расплакался. Александр Николаевич был этим очень растроган.
Я не рассказал о нем и еще другого, очень важного: о его работе в Соловецком музее, куда он привел и меня.
В Александре Николаевиче было что-то от XIX века. В его суждениях, вкусах, в манере откликаться на внешние впечатления. Как-то мы гуляли с ним ранней весной по Реболдовской (Филимоновской) дороге. Было совершенно безветренно и очень ярко, морозно и сухо. Чистый белый снег отражал слепящие ясностью солнечные лучи. Я сравнил погоду с летней: крайности – и такие схожие. Александр Николаевич мечтательно и, как откровение, произнес: «Да, великий Гелиос…» Он вводил все в привычные схемы и штампы эстетики прошлого века. И в этом отношении он был прямой противоположностью Александру Александровичу Мейеру, абсолютно самостоятельное мышление которого как бы предугадывало будущие философские искания и концепции.
Очень похож был по своему «культурному типу» на А. Н. Колосова профессор Аркадий Владимирович Бородин. Его специальность была «обычное право». Его эстетические представления были также на уровне XIX века (отнюдь не плохом). Он тоже любил Тургенева, А. К. Толстого, не понимал современную поэзию и живопись. Был немного сентиментален и очень старомоден. В Кримкабе он был недолго, и я даже не очень помню – в какое время. Жизненный опыт его был очень большим. У меня с ним была неприятная история. Как-то в Кримкабе я противопоставил его А. А. Мейеру с невыгодной для Бородина стороны. Я не заметил его присутствия. Он все слышал, но виду не подал и неприязни ко мне в дальнейшем никакой не проявил. Это мне был двойной урок – как себя вести: не говорить о других дурно без нужды и не обращать внимания, когда говорят дурно о тебе самом. Но урок этот я часто забывал: подводил темперамент.
Пожилые люди, которые любят Тургенева, – любят его по-особому. Тургенев – это их отношение к жизни, к «прекрасному» и к русскому слову. А. Н. Колосов, читавший Тургенева и восхищавшийся особенно «Асей», вызывал у нас удивление. Книг было немного, я тоже стал читать «Асю» и понял. То была настоящая жизнь, в которой даже несказанное слово играло роль. Мы же находились в грубом и свирепом мире кошмарного сновидения. Призрачная действительность Соловков была материально грубой. Не верилось в существование торфоразработок, лесозаготовок, болот, нар, сыпного тифа, «комариков», «пеньков», «камешков», «жердочек» – все это было невероятно. Тургенев же с его роковой судьбой одного только несказанного слова в «Асе» казался настоящей жизнью.
Поднятый карандаш Колосова был своего рода оружием, копьем, направленным против каторжного мира Соловков.
Искусство и действительность не были ничем связаны друг с другом. Заключенные, покрытые вшами, смотрели «Детей Ванюшина» в Солтеатре и заливались слезами, забывая о том, что они сами перенесли и что творилось за стенами театра. Пели чувствительный романс и переживали его с особенным чувством. Разлука в романсе была в какой-то момент сильнее, чем реальная разлука с семьей.
Вот почему придуманный «для туфты» Соловецкий театр играл такую большую и «утешающую» роль на Соловках. Он существовал по крайней мере 6 лет (с 1926-го по 1931-й).
Человеком XIX века, но совсем другого рода, представлялся мне и профессор-климатолог Алексей Григорьевич Сатин. С ним разговоры были чаще всего при встречах на соловецких дорогах. Он ходил в окружности Кремля, записывая какие-то метеорологические данные на приборах. Должны ли были Соловецкие острова передавать метеорологические данные на материк, – не знаю. Своими рассуждениями он очень напоминал мне Базарова. Грубый материалист и, как все материалисты, пессимист, иронически ко всему относившийся, презиравший удобства жизни. Ходил он в кавказской бурке и папахе. Когда начался второй тиф осенью 1929 года и все боялись подхватить вшей, он спокойно говорил: «Своя вша не пустит чужую; лучший способ не заразиться тифом – иметь вшей». И имел.
Был он добр. Когда ко мне должны были приехать родители на свидание, он уступил нам свою клетушку на Сортоиспытательной станции. Жил он вдвоем с морским офицером Ажаевым. Тот протестовал, не хотел переселяться в холодный сарай. Но Сатин просто его прогнал и сам перешел мерзнуть в сарай. А тут еще беда случилась: от времянки загорелись высушенные травы. Я успел погасить, что было духу сбегав за огнетушителем в соседний дом. Если бы не потушил, – была бы мне верная Секирка[7 - Секирка – самый страшный карцер, помещавшийся на Секирной горе. Редко кто выходил из него живым.]. Сатин же составил акт, что сгоревшая часть коллекции сухих трав не представляла собой никакой ценности. И еще одна деталь: он превосходно играл в шахматы, и про него шутили: «первый шахматист и последний нигилист».
Так опроверглись мои представления, что человек со взглядами материалиста непременно должен быть пессимистом и эгоистом. Всегда есть исключения.
Диагональ детского одеяла
В 1928 году, как я уже, кажется, писал, люди знали, что такое тюрьма, этап, лагерь, и знали, как снарядить высылаемых – что дать им в дорогу. Надо было, чтобы поклажа была легкой и чтобы там было самое необходимое. Знали, например, и такую деталь: лежать придется на жестком, а при этом больнее всего тазу. Поэтому шили маленькие матрасики, набивая их волосом – как самым легким и не сваливающимся в употреблении. Мне дали такой матрасик – не больше подушки, а укрываться – легчайшее детское пуховое одеяло, почти ничего не весившее, но укрыть которым я мог только либо ноги, либо плечи. Я накрывался им от угла к углу: уголок на ноги и уголок на плечи. Но клал на себя еще что-либо из одежды: зимой – полушубок. Закрывался с головой, чтобы уйти в свой мир воспоминаний о доме, об университете, о Петербурге. Особенно я любил вспоминать Петербург в сумерки – вид с Дворцового моста на Дворцовую площадь, когда на каком-то переломе от вечернего полусвета к ночной полутьме внезапно вспыхивала гирлянда желтых фонарей и появлялась грандиозная полукружность Генерального штаба.
Особенно хорошо помню третью роту. К моему топчану из экономии места плотно придвинут стол, за которым сидят мои сокамерники. Над столом мерцает лампочка. Вот-вот погаснет: срок ее мерцания до 10 часов, затем – предупредительное гашение лампочки на несколько секунд, и надо все успеть сделать, чтобы лечь при свете. Лампочка тускло бьется в тяжелом облаке махорочного дыма. Говорили: махорочный дым не так вреден, как табачный. Приходится этим утешаться, ибо открыть форточку – это впустить холод. Тепло, впрочем, бывает очень редко: либо жара от огромной монашеской печи, которая медленно остывает несколько дней, либо стужа в ожидании очередного разрешения на топку.
Лежать под детским одеялом – это ощущать дом, домашних, заботы родителей и детскую молитву на ночь: «Господи, помилуй маму, папу, дедушку, бабушку, Мишу, няню… И всех помилуй и сохрани». Под подушкой, которую я неизменно крещу на ночь, – маленький серебряный складень. Через месяц его нашел и отобрал у меня командир роты: «Не положено». Слово, до тошноты знакомое в лагерной жизни!
Приезд Максима Горького и массовые расстрелы 1929 года
Весной 1929 года к нам на Соловки приехал Горький. Пробыл он у нас дня три (точнее я не помню – все это легко установить по его собранию сочинений).
От соловецких беглецов (бежали из отделений Соллагеря на материке и пешком в Финляндию, и на кораблях, возивших лес) на Западе распространились слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаготовках.
Миссия Горького заключалась, по-видимому, в том, чтобы переломить общественное мнение Запада. Дело в том, что Конгресс США и парламент Великобритании приняли решения не покупать лес у Советского Союза: там через бежавших (Мальсагов и др.) стали известны все ужасы лагерных лесозаготовок. Экспорт леса в массовых масштабах был организован Френкелем, заявившим: «Мы должны взять от заключенных все в первые три месяца!» Можно представить, что творилось на лесозаготовках!
Горький должен был успокоить общественное мнение. И успокоил… Покупки леса возобновились… Кто потом говорил, что своим враньем он хотел вымолить облегчение участи заключенных, а кто – вымолить приезд к себе Будберг-Закревской, побоявшейся вернуться вместе с ним в Россию. Не знаю – какая из версий правильна. Может быть, обе. Ждали Горького с нетерпением.
Наконец с радиостанции поползли слухи: Горький едет на Соловки. Тут уж стали готовиться не только начальники, но и те заключенные, у которых были какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся разжалобить Горького и получить освобождение.
В один «прекрасный» день подошел к пристани бухты Благополучия пароход «Глеб Бокий» с Горьким на борту. Из окон Кримкаба виден был пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой, которая была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке. Это оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно (по ее мнению), как заправская «чекистка». Наряд был обдуман! На Горьком была кепка, задранная назад по пролетарской моде того времени (в подражание Ленину). За Горьким приехала монастырская коляска с бог знает откуда добытой лошадью. Это меня поразило. Место, где он ждал коляску, я смог бы и сейчас указать точно…
Мы все очень обрадовались – все заключенные. «Горький-то все увидит, все узнает. Он опытный, его не обманешь. И про лесозаготовки, и про пытки на пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъярусные нары, про голых, и про “несудимых сроках”… Про все-все!» Мы стали ждать. Уже за день или два до приезда Горького по обе стороны прохода в Трудколонии воткнули срубленные в лесу елки (для декорации). Из Кремля каждую ночь в соловецкие леса уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Персоналу в лазарете выдали чистые халаты.
Ездил Горький по острову со своей «кожаной спутницей» немного. В первый, кажется, день пришел в лазарет. По обе стороны входа и лестницы, ведшей на второй этаж, был выстроен «персонал» в чистых халатах. Горький не поднялся наверх. Сказал «не люблю парадов» и повернулся к выходу. Был он и в Трудколонии. Зашел в последний барак направо перед зданием школы. Теперь (80-е годы) это крыльцо снесено и дверь забита. Я стоял в толпе перед бараком, поскольку у меня был пропуск и к Трудколонии я имел прямое отношение. После того как Горький зашел, через десять или пятнадцать минут, из барака вышел начальник Трудколонии, бывший командарм Иннокентий Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским. Затем вышла часть колонистов. Горький по его требованию остался один на один с мальчиком лет четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому «всю правду» – про все пытки, которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее сорока минут (у меня уже были тогда карманные серебряные часы, подаренные мне отцом перед самой Первой мировой войной и тайно переданные мне на острове при первом свидании). Наконец Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я видел сам. Толпа заключенных ликовала: «Горький про все узнал. Мальчик ему все рассказал!»
Затем Горький был на Секирке. Там карцер преобразовали: жердочки вынесли, посередине поставили стол и положили газеты. Оставшихся в карцере заключенных (тех, кто имел более или менее здоровый вид) посадили читать. Горький поднялся в карцер и, подойдя к одному из «читавших», перевернул газету (тот демонстративно держал ее «вверх ногами»). После этого Горький быстро вышел. Ездил он еще в Биосад – очевидно, пообедать или попить чаю. Биосад был как бы вне сферы лагеря (как и Лисий питомник). Там очень немногие «специалисты» жили сравнительно удобно.
Больше Горький на Соловках, по моей памяти, нигде не был. Горький со снохой взошел на «Глеба Бокия», и там его уже развлекал специально подпоенный монашек из тех, про которых было известно, что выпить они «могут»…
А мальчика не стало сразу. Возможно – даже до того, как Горький отъехал. О мальчике было много разговоров. Ох, как много. «А был ли мальчик?» Ведь если он был, то почему Горький не догадался взять его с собой? Ведь отдали бы его… Но мальчик был. Я знал всех «колонистов».
Но другие последствия приезда Горького на Соловки были еще ужаснее. И Горький должен был их предвидеть.
Зато какие бревна были в срубе сторожевой избы, где в тепле можно было дожидаться переправы на вёсельных лодках! Гигантские по длине и толщине прокопченные бревна, создававшие впечатление глубокой старины. Мне казалось, что я нахожусь прямо-таки в XVII веке. Да оно, пожалуй, так и было…
Природа Соловецких островов словно создана между небом и землей. Летом она освещена не столько солнцем, сколько громадным высоким небом, зимой – погружена в низкую кромешную тьму, смягченную белизной снега, изредка прорываемую сполохами северного сияния, то бледно-зелеными, то кроваво-красными. На Соловках все говорит о призрачности здешнего мира и о близости потустороннего…
Острова – разные по ландшафту. Два Заяцких, Большой и Малый, на которых не растет ни единого дерева, красота которых – в изумительных цветовых сочетаниях лишайников, камней и валунов, кустов и полярных березок и в возможности отовсюду видеть море. Здесь нельзя заблудиться. Все кажется диким и пустынным, и только низкие лабиринты напоминают об обычаях, которые создал себе человек. Два острова, Большая и Малая Муксалма, покрыты лесами и болотами, холмами, обрывающимися у моря, и тучными пастбищами, на которых веками паслись коровы. Искусственная дамба соединяет Большую Муксалму и Большой Соловецкий остров. Великолепен Анзер. Природа его пышная и словно даже веселая. Песчаные пляжи и прекрасные лиственные леса напоминают о юге. Но высокую гору острова венчает Голгофский скит, самим своим названием пророчески предсказавший невыносимые страдания умиравших здесь стариков, калек и безнадежно больных, свезенных сюда со всего лагеря, замерзших, заморенных голодом, заживо погребенных. Центральный остров – Большой Соловецкий – собрал в своем ландшафте все, что имеют другие острова. К тому же триста озер, больших и малых, часто несущих на себе еще новые острова, на которых могли содержаться и особо секретные заключенные, которых лишали возможности видеть других людей, а когда-то – затворялись отшельники.
Здесь – большой природный Рай, но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех населявших Россию народов! Здесь, в этом мире святости и греха, небесного и земного, природа и человек соединились в необыкновенной близости.
Огромные валуны служили основным строительным материалом: из них воздвигнуты башни и стены, вместе с плинфой и кирпичом они легли в основание храмов. Крыши крыты тесом, купола – лемехом. Но иконы и книги, алтарная резьба и кованое железо свидетельствуют об огромных усилиях человека преодолеть природу, поставить дух выше материи, создать из природы гигантский храм. Скиты словно сужают расстояние по всему острову. Землянки отшельников и медные кресты, вросшие прямо в стволы деревьев, о которые ломали зубья двуручных пил заключенные на лесозаготовках.
Триста озер Большого Соловецкого острова, самые большие из которых соединены между собою каналами, чтобы непрестанно пополнять чистой водой большое Святое озеро, по берегу которого поднимаются главные постройки Соловецкого монастыря, поставленные на перешейке между Святым озером и морем. Разница в уровне, как говорили, – 8 метров. Эта разница позволила создать в монастыре водопровод, канализацию, использовать различную технику, построить быстро наполняемые и опорожняемые доки для починки судов, прекрасную хлебопекарню, портомойню, кузницу (исключительную для XVI века), снабжать водой трапезную и т. д. и т. п. Монастырь мог бы служить наглядным опровержением ложных представлений об отсталости древнерусской техники. Святое озеро – это, по существу, гигантский пруд, искусственно созданный, чтобы заставить жить и работать все жизнеобеспечивающие механизмы монастыря.
Восемь метров перепада уровней моря и озера, образовавшегося от перемычки, заставляли строить стены храмов с широким фундаментом, создавать стены и храмы, как бы тяжко, незыблемо стоящие на земле, чтобы уберечь обитателей монастыря от врагов и непогоды, создать внутри монастыря условия для процветания маленького живописного садика, где всюду были места, удобные для душевного отклика и молитвенных размышлений престарелых монахов.
Соловецкие острова – место, где ощущение творящего Бога и временности человеческого постоянно поддерживается сменами времен года, ритмом суток, длинными ночами зимой и длинными закатами вечером, длинными восходами солнца по утрам, быстрыми сменами погоды, многообразием ландшафтов, ощущением длительности истории этих мест, отмеченных языческими лабиринтами и обетными крестами, храмами и часовнями, где напряженный крестьянский и ремесленный труд был бы так свят и так угоден Богу.
И вместе с тем уже в монастырское время в мирную молитвенную и трудовую жизнь монахов врывались и чисто мирские заботы: столкновение с еретиками, пребывание в нем сосланных, большое старообрядческое восстание, приведшее к длительной осаде в 1668–1678 годах и сотням погибших, чьи тела валялись непогребенными перед монастырем на льду…
Заканчивались мои прогулки к морю на противоположной стороне от монастыря – недалеко от Переговорного камня. Я знал, что выбирать место для отдыха надо на каком-либо мысу, куда обычно не заезжал «главный хирург» Соловков латыш Дегтярев. Но я не знал, что у него появилась маленькая собачка с необыкновенным чутьем, выдрессированная на человека. Людей она чувствовала на большом расстоянии.
Я выбрал место для отдыха на берегу бухты с противоположной стороны от той, с которой делал свой объезд на белой лошади «начальник войск Соловецкого архипелага» Дегтярев. За камнями меня трудно было увидеть. И вдруг я услышал отвратительный пискливый лай собачонки. Ко мне в объезд бухты скакал Дегтярев – главный расстрельщик Соловков. Я успел натянуть брюки и ринулся в лес, захватив все остальное под мышку. На мое счастье, в лесу была длинная болотистая полоса, видимо, бывшая когда-то руслом реки. Через этот болотный «ров» лежала огромная ель. Я ступил на ствол, и меня прямо перенесло на противоположную сторону. Если бы не страх попасть к Дегтяреву (а от него прямо на Секирку), я никогда не был бы таким «храбрым», чтобы перейти по стволу с одного берега болота на другой. Дегтярев остановился и, нарушив удивительную благостность соловецкого леса отборной бранью, не стал меня преследовать, да и не мог он спешиться и бежать за мной. Почему он не стал стрелять – не знаю.
Кримкаб
Отец Николай Пискановский и владыка Виктор Островидов, пока я находился в 13-й роте («общих работ»), делали попытки устроить меня на какую-либо канцелярскую работу или на работу полегче. Однажды, когда мы возили свиной навоз (вот запах-то!), к нам подошел и со мной познакомился очень почтенный и красивый немолодой господин с седой бородой, в черном полушубке и с самодельной березовой палочкой в руках. Это был А. Н. Колосов. Минута разговора – и мне обещана «постоянная» работа в Криминологическом кабинете. Не сразу, правда. Из 13-й роты я попал в 14-ю роту – в трапезную палату, где я заболел тифом. И вот после «роты выздоравливающих», размещенной в страшном подземелье с низкими сводами в трещинах, я очутился в привилегированной третьей роте. Меня встретил командир роты, бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц, и поместил прямо в комнату к А. Н. Колосову на топчан, стоявший под окном (вдоль окна). Я был слаб, имел освобождение и не работал. Сидел один в камере на топчане. Первым вернулся около 8 вечера с работы Александр Николаевич и посмотрел на меня с удивлением и опаской. Я не сразу понял эту опаску. Потом я сообразил: Александр Николаевич боялся, что я могу заразить тифом жителей камеры. Он просил командира Притвица поселить меня на неделю в коридоре. Притвиц отказался. Ограничились тем, что мою корзинку с вещами вынесли в коридор или куда-то. Я прошел уже несколько дезинфекций, но корзина действительно представляла опасность, тем более что именно от нее, по-видимому, в санчасти, куда меня сперва поместили, когда я заболел, заразился тифом Иван Михайлович Андреевский, работавший врачом и взявший мою корзинку к себе под топчан.
Я был очень смущен опасениями Александра Николаевича и чувствовал себя первые недели в камере чужаком. В камере жили генерал Осовский и два счетовода – барон М. Т. Дистерло и Борис Николаевич Афинский. Не помню когда, но очень рано появился в камере и Федя Розенберг, которого удалось взять из коридора. Александр Николаевич был безусловным главой камеры. Он занимал лучшее место и спал на деревянном монашеском диване. Это было большое преимущество. Единственный стол в камере был приставлен ближе всего к его дивану. Вечерами и по утрам он ставил на этот стол зеркальце и долго расчесывал перед ним бороду, усы, массировал вазелином лицо. У него был ухоженный вид. Носил он высокие сапоги, синие галифе с лампасами и зеленый френч. В прошлом (во время войны 1914 года) он был военным прокурором, судьей и пр. Чувство своего превосходства жило в нем прочно, но вместе с тем воспитание делало его очень приятным в общежитии человеком. Он был всегда ровным, не сердился. Только по дрожанию век можно было определить, что он был чем-то раздражен. Он был хороший рассказчик, хороший слушатель. Читал в свое удовольствие книги в «хорошем вкусе» (преимущественно Тургенева, которого доставал в библиотеке, – она помещалась у театра и состояла из конфискованных у заключенных книг или из книг, пожертвованных заключенными в библиотеку при освобождении). На работе (в гостинице у пристани на третьем этаже помещался наш Кримкаб[6 - Мне исключительно посчастливилось, что благодаря усилиям отца Николая Пискановского и владыки Виктора Островидова я стал работать в Криминологическом кабинете. Николай Павлович Анциферов пишет в своих воспоминаниях «Из дум о былом» (М., 1992): «Я мечтал работать в Криминологическом кабинете, где собирали рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось мне, я лучше пойму психологию людей “Мертвого дома”» (с 346). Н. П. Анциферов не пишет, что не только в понимании преступников было дело. Хотелось ему работать в Криминологическом кабинете потому, что там работали его друзья – А. А. Мейер, К. А. Половцева, А. П. Сухов и др.] – Криминологический кабинет) он умел создавать впечатление у начальства большой и важной деятельности. В нашей рабочей комнате он сидел долго, тем более что это было и удобно, и читал романы, держа карандаш на весу в руке, облокотясь о стол. Внезапно вошедшее лагерное начальство всегда заставало его в этой «рабочей позе», и нельзя было усомниться в том, что он что-то пишет, т. е. «работает». По воскресеньям мы часто не имели выходных, но Александр Николаевич «уходил по делам» с каким-нибудь официальным поручением и гулял с самодельной березовой палочкой по Филимоновской дороге в сторону Глубокой Губы. Когда я получил от А. И. Мельникова пропуск по всему острову, мы гуляли с ним вместе, и прогулки эти были для меня очень полезны. Он обладал и жизненным опытом, и начитанностью в русской классической литературе, и способностями рассказчика. Когда Александра Николаевича отправили в Кемь осенью 1929 года (зимой у него подходил срок), мои прогулки продолжались с не менее интересным человеком – тоже юристом Владимиром Юльяновичем Короленко – племянником писателя.
В чемодане у Александра Николаевича был превосходно сшитый синий шевиотовый костюм и рубашка с отложным воротничком и галстук. Когда надо было идти докладывать начальству или когда в Кримкабе ожидался приход машинистки Ширинской-Шихматовой, Александр Николаевич надевал свой костюм и выглядел великолепно – барином. Он как-то особенно складывал губы при появлении Ширинской-Шихматовой и всячески тонировал. С работавшей у нас в Кримкабе Юлией Николаевной Данзас (она не была ему прямо подчинена, занимаясь вырезанием из газет нужных начальству сообщений – каких? я никогда не интересовался) Александр Николаевич был менее галантен, хотя был не прочь и тут, как мы говорили, «распустить хвост», но не производил на нее впечатления.
Из всего предшествующего можно подумать, что Александр Николаевич был несерьезен. Нет, он сделал великое дело. Он дал идею создания в Соллагере Детской колонии – для несовершеннолетних преступников – и спас, хотя и не перевоспитал, с помощью своих сотрудников сотни бывших беспризорников. Это началось в 1928 году, и наша Детская колония была первой такого рода и такого масштаба в Советском Союзе. Он так сумел убедить начальство в показной (показательной) выгодности этого начинания, что оно приняло огромные по тем временам масштабы. В организации принял участие начальник КВЧ Д. В. Успенский (партийный деятель, по слухам, отправленный на Соловки вольнонаемным сотрудником). Были построены бараки (некоторые стоят на Соловках и до сих пор). Каждому подростку был дан топчан с бельем. Подросткам, жившим по общим ротам часто в одном белье, были выданы бушлаты, обувь, была придумана форма – шапки особого фасона – «линденеровки». Непосредственно хозяйственным организатором колонии был Линденер, обрусевший немец, бывший сотрудник Академии наук в Ленинграде. На смену ему пришел наркомюст Белоруссии Зданевич, смененный из-за полной тупости героем Гражданской войны, командармом Дальневосточной республики Иннокентием Серафимовичем Кожевниковым.
Кримкаб сохранял над этой колонией научное руководство. Положение очень выгодное для всех нас, придуманное Александром Николаевичем.
Почему необходимо было собирать детей на месте? Почему нельзя было в то время просто вызвать их из тех рот, «командировок», пунктов, где они находились, пользуясь их личными делами, находившимися в УСЛОНе в Адмчасти? Потому, что с учетом в лагере существовал удивительный беспорядок. Подростки, которых собирали на вокзалах, по улицам из асфальтовых котлов, из ящиков под пассажирскими вагонами и т. д., каждый раз при опросах называли себя иными фамилиями, проигрывали в карты малые сроки и меняли их на большие, имели одинаковые приметы, если эти приметы заносились в дело. Мне приходилось уговаривать подростков не менять своих фамилий, пока их не заберут в колонию. Но они боялись колоний, подозревали обман, и поэтому только часть их, отобранных для колонии, попадала туда. Но зато когда колония стала действовать и слух о хороших условиях в ней прошел по островам, подростки стали охотно соглашаться поступить туда, и мне уже пришлось меньше ходить за ними и записывать о них сведения.
Такой же беспорядок существовал и со взрослыми. Скажем, был такой случай. Москву решили очистить от нищих. «Черные вороны» объезжали церкви и с папертей брали нищих, а затем без суда и даже опросов (записывалась лишь фамилия, год рождения и еще м.б. что-то) отправляли на Соловки и прямо с пристани на Анзер, а там на Голгофу. То же самое происходило и «в обратном направлении»: людей расстреливали – «неисправимых», не понравившихся, опасных, как казалось начальству, – а затем списывали их как умерших от какой-либо болезни. Такие расстрелы с оформлением их через санчасти были приняты не только в Соловках. Обычно таких расстреливаемых по произволу местного начальства долго не держали в карцере – максимум два-три дня. Так было, по-видимому, с Осоргиным, Покровским, Багратуни, Гацуком и многими другими.
Число расстрелянных обычно было больше числа тех, в отношении которых был вынесен приговор. Проверить это сейчас трудно, но что это было именно так, нет сомнений.
О работе Кримкаба я расскажу особо. Сейчас же скажу только об одном эпизоде моей работы, непосредственно связанной у меня с Александром Николаевичем. Последний поручил мне составить записку об организации колонии, изложив мне примерное ее содержание. Я писал ее несколько дней и, мне казалось, написал живо, убедительно и доступно для нашего полуграмотного начальства. Я ожидал похвал от Александра Николаевича, но когда он ее читал, я заметил: уголки глаз у него дрожали. Он признал записку никуда не годной и принялся ее исправлять. В записке появились «понеже», «поелик», «принимая во внимание», «как явствует из вышеизложенного» и пр., т. е. как раз те выражения, которых я старался избегать, но которые, как оказалось, были нужны, чтобы «произвести впечатление». Я был расстроен. Мне было это непонятно. В общем – не сразу я разглядел, сколько добра, и отнюдь не поступаясь своими интересами, принес в Соллагерь Александр Николаевич Колосов – человек светский, тонирующий, бонтонный и при этом практически необыкновенно умелый и деловой. Может быть, этот стиль был обычен для старого царского чиновничества?
Не удивительно, что осенью 1929 года, когда мы провожали в камере 3-й роты Александра Николаевича (его «вывозили на материк»), то вечер этот был очень грустным и очень памятным. Я, как Лариосик, попробовал первый раз в жизни произнести тост (держа в руке кружку с компотом) и не смог – расплакался. Александр Николаевич был этим очень растроган.
Я не рассказал о нем и еще другого, очень важного: о его работе в Соловецком музее, куда он привел и меня.
В Александре Николаевиче было что-то от XIX века. В его суждениях, вкусах, в манере откликаться на внешние впечатления. Как-то мы гуляли с ним ранней весной по Реболдовской (Филимоновской) дороге. Было совершенно безветренно и очень ярко, морозно и сухо. Чистый белый снег отражал слепящие ясностью солнечные лучи. Я сравнил погоду с летней: крайности – и такие схожие. Александр Николаевич мечтательно и, как откровение, произнес: «Да, великий Гелиос…» Он вводил все в привычные схемы и штампы эстетики прошлого века. И в этом отношении он был прямой противоположностью Александру Александровичу Мейеру, абсолютно самостоятельное мышление которого как бы предугадывало будущие философские искания и концепции.
Очень похож был по своему «культурному типу» на А. Н. Колосова профессор Аркадий Владимирович Бородин. Его специальность была «обычное право». Его эстетические представления были также на уровне XIX века (отнюдь не плохом). Он тоже любил Тургенева, А. К. Толстого, не понимал современную поэзию и живопись. Был немного сентиментален и очень старомоден. В Кримкабе он был недолго, и я даже не очень помню – в какое время. Жизненный опыт его был очень большим. У меня с ним была неприятная история. Как-то в Кримкабе я противопоставил его А. А. Мейеру с невыгодной для Бородина стороны. Я не заметил его присутствия. Он все слышал, но виду не подал и неприязни ко мне в дальнейшем никакой не проявил. Это мне был двойной урок – как себя вести: не говорить о других дурно без нужды и не обращать внимания, когда говорят дурно о тебе самом. Но урок этот я часто забывал: подводил темперамент.
Пожилые люди, которые любят Тургенева, – любят его по-особому. Тургенев – это их отношение к жизни, к «прекрасному» и к русскому слову. А. Н. Колосов, читавший Тургенева и восхищавшийся особенно «Асей», вызывал у нас удивление. Книг было немного, я тоже стал читать «Асю» и понял. То была настоящая жизнь, в которой даже несказанное слово играло роль. Мы же находились в грубом и свирепом мире кошмарного сновидения. Призрачная действительность Соловков была материально грубой. Не верилось в существование торфоразработок, лесозаготовок, болот, нар, сыпного тифа, «комариков», «пеньков», «камешков», «жердочек» – все это было невероятно. Тургенев же с его роковой судьбой одного только несказанного слова в «Асе» казался настоящей жизнью.
Поднятый карандаш Колосова был своего рода оружием, копьем, направленным против каторжного мира Соловков.
Искусство и действительность не были ничем связаны друг с другом. Заключенные, покрытые вшами, смотрели «Детей Ванюшина» в Солтеатре и заливались слезами, забывая о том, что они сами перенесли и что творилось за стенами театра. Пели чувствительный романс и переживали его с особенным чувством. Разлука в романсе была в какой-то момент сильнее, чем реальная разлука с семьей.
Вот почему придуманный «для туфты» Соловецкий театр играл такую большую и «утешающую» роль на Соловках. Он существовал по крайней мере 6 лет (с 1926-го по 1931-й).
Человеком XIX века, но совсем другого рода, представлялся мне и профессор-климатолог Алексей Григорьевич Сатин. С ним разговоры были чаще всего при встречах на соловецких дорогах. Он ходил в окружности Кремля, записывая какие-то метеорологические данные на приборах. Должны ли были Соловецкие острова передавать метеорологические данные на материк, – не знаю. Своими рассуждениями он очень напоминал мне Базарова. Грубый материалист и, как все материалисты, пессимист, иронически ко всему относившийся, презиравший удобства жизни. Ходил он в кавказской бурке и папахе. Когда начался второй тиф осенью 1929 года и все боялись подхватить вшей, он спокойно говорил: «Своя вша не пустит чужую; лучший способ не заразиться тифом – иметь вшей». И имел.
Был он добр. Когда ко мне должны были приехать родители на свидание, он уступил нам свою клетушку на Сортоиспытательной станции. Жил он вдвоем с морским офицером Ажаевым. Тот протестовал, не хотел переселяться в холодный сарай. Но Сатин просто его прогнал и сам перешел мерзнуть в сарай. А тут еще беда случилась: от времянки загорелись высушенные травы. Я успел погасить, что было духу сбегав за огнетушителем в соседний дом. Если бы не потушил, – была бы мне верная Секирка[7 - Секирка – самый страшный карцер, помещавшийся на Секирной горе. Редко кто выходил из него живым.]. Сатин же составил акт, что сгоревшая часть коллекции сухих трав не представляла собой никакой ценности. И еще одна деталь: он превосходно играл в шахматы, и про него шутили: «первый шахматист и последний нигилист».
Так опроверглись мои представления, что человек со взглядами материалиста непременно должен быть пессимистом и эгоистом. Всегда есть исключения.
Диагональ детского одеяла
В 1928 году, как я уже, кажется, писал, люди знали, что такое тюрьма, этап, лагерь, и знали, как снарядить высылаемых – что дать им в дорогу. Надо было, чтобы поклажа была легкой и чтобы там было самое необходимое. Знали, например, и такую деталь: лежать придется на жестком, а при этом больнее всего тазу. Поэтому шили маленькие матрасики, набивая их волосом – как самым легким и не сваливающимся в употреблении. Мне дали такой матрасик – не больше подушки, а укрываться – легчайшее детское пуховое одеяло, почти ничего не весившее, но укрыть которым я мог только либо ноги, либо плечи. Я накрывался им от угла к углу: уголок на ноги и уголок на плечи. Но клал на себя еще что-либо из одежды: зимой – полушубок. Закрывался с головой, чтобы уйти в свой мир воспоминаний о доме, об университете, о Петербурге. Особенно я любил вспоминать Петербург в сумерки – вид с Дворцового моста на Дворцовую площадь, когда на каком-то переломе от вечернего полусвета к ночной полутьме внезапно вспыхивала гирлянда желтых фонарей и появлялась грандиозная полукружность Генерального штаба.
Особенно хорошо помню третью роту. К моему топчану из экономии места плотно придвинут стол, за которым сидят мои сокамерники. Над столом мерцает лампочка. Вот-вот погаснет: срок ее мерцания до 10 часов, затем – предупредительное гашение лампочки на несколько секунд, и надо все успеть сделать, чтобы лечь при свете. Лампочка тускло бьется в тяжелом облаке махорочного дыма. Говорили: махорочный дым не так вреден, как табачный. Приходится этим утешаться, ибо открыть форточку – это впустить холод. Тепло, впрочем, бывает очень редко: либо жара от огромной монашеской печи, которая медленно остывает несколько дней, либо стужа в ожидании очередного разрешения на топку.
Лежать под детским одеялом – это ощущать дом, домашних, заботы родителей и детскую молитву на ночь: «Господи, помилуй маму, папу, дедушку, бабушку, Мишу, няню… И всех помилуй и сохрани». Под подушкой, которую я неизменно крещу на ночь, – маленький серебряный складень. Через месяц его нашел и отобрал у меня командир роты: «Не положено». Слово, до тошноты знакомое в лагерной жизни!
Приезд Максима Горького и массовые расстрелы 1929 года
Весной 1929 года к нам на Соловки приехал Горький. Пробыл он у нас дня три (точнее я не помню – все это легко установить по его собранию сочинений).
От соловецких беглецов (бежали из отделений Соллагеря на материке и пешком в Финляндию, и на кораблях, возивших лес) на Западе распространились слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаготовках.
Миссия Горького заключалась, по-видимому, в том, чтобы переломить общественное мнение Запада. Дело в том, что Конгресс США и парламент Великобритании приняли решения не покупать лес у Советского Союза: там через бежавших (Мальсагов и др.) стали известны все ужасы лагерных лесозаготовок. Экспорт леса в массовых масштабах был организован Френкелем, заявившим: «Мы должны взять от заключенных все в первые три месяца!» Можно представить, что творилось на лесозаготовках!
Горький должен был успокоить общественное мнение. И успокоил… Покупки леса возобновились… Кто потом говорил, что своим враньем он хотел вымолить облегчение участи заключенных, а кто – вымолить приезд к себе Будберг-Закревской, побоявшейся вернуться вместе с ним в Россию. Не знаю – какая из версий правильна. Может быть, обе. Ждали Горького с нетерпением.
Наконец с радиостанции поползли слухи: Горький едет на Соловки. Тут уж стали готовиться не только начальники, но и те заключенные, у которых были какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся разжалобить Горького и получить освобождение.
В один «прекрасный» день подошел к пристани бухты Благополучия пароход «Глеб Бокий» с Горьким на борту. Из окон Кримкаба виден был пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой, которая была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке. Это оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно (по ее мнению), как заправская «чекистка». Наряд был обдуман! На Горьком была кепка, задранная назад по пролетарской моде того времени (в подражание Ленину). За Горьким приехала монастырская коляска с бог знает откуда добытой лошадью. Это меня поразило. Место, где он ждал коляску, я смог бы и сейчас указать точно…
Мы все очень обрадовались – все заключенные. «Горький-то все увидит, все узнает. Он опытный, его не обманешь. И про лесозаготовки, и про пытки на пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъярусные нары, про голых, и про “несудимых сроках”… Про все-все!» Мы стали ждать. Уже за день или два до приезда Горького по обе стороны прохода в Трудколонии воткнули срубленные в лесу елки (для декорации). Из Кремля каждую ночь в соловецкие леса уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Персоналу в лазарете выдали чистые халаты.
Ездил Горький по острову со своей «кожаной спутницей» немного. В первый, кажется, день пришел в лазарет. По обе стороны входа и лестницы, ведшей на второй этаж, был выстроен «персонал» в чистых халатах. Горький не поднялся наверх. Сказал «не люблю парадов» и повернулся к выходу. Был он и в Трудколонии. Зашел в последний барак направо перед зданием школы. Теперь (80-е годы) это крыльцо снесено и дверь забита. Я стоял в толпе перед бараком, поскольку у меня был пропуск и к Трудколонии я имел прямое отношение. После того как Горький зашел, через десять или пятнадцать минут, из барака вышел начальник Трудколонии, бывший командарм Иннокентий Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским. Затем вышла часть колонистов. Горький по его требованию остался один на один с мальчиком лет четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому «всю правду» – про все пытки, которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее сорока минут (у меня уже были тогда карманные серебряные часы, подаренные мне отцом перед самой Первой мировой войной и тайно переданные мне на острове при первом свидании). Наконец Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я видел сам. Толпа заключенных ликовала: «Горький про все узнал. Мальчик ему все рассказал!»
Затем Горький был на Секирке. Там карцер преобразовали: жердочки вынесли, посередине поставили стол и положили газеты. Оставшихся в карцере заключенных (тех, кто имел более или менее здоровый вид) посадили читать. Горький поднялся в карцер и, подойдя к одному из «читавших», перевернул газету (тот демонстративно держал ее «вверх ногами»). После этого Горький быстро вышел. Ездил он еще в Биосад – очевидно, пообедать или попить чаю. Биосад был как бы вне сферы лагеря (как и Лисий питомник). Там очень немногие «специалисты» жили сравнительно удобно.
Больше Горький на Соловках, по моей памяти, нигде не был. Горький со снохой взошел на «Глеба Бокия», и там его уже развлекал специально подпоенный монашек из тех, про которых было известно, что выпить они «могут»…
А мальчика не стало сразу. Возможно – даже до того, как Горький отъехал. О мальчике было много разговоров. Ох, как много. «А был ли мальчик?» Ведь если он был, то почему Горький не догадался взять его с собой? Ведь отдали бы его… Но мальчик был. Я знал всех «колонистов».
Но другие последствия приезда Горького на Соловки были еще ужаснее. И Горький должен был их предвидеть.