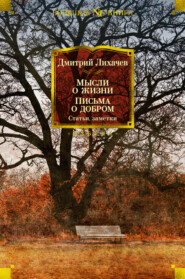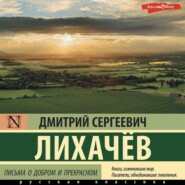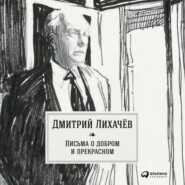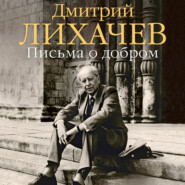По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Четвертое измерение (сборник)
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Второй женой Михал Михалыча, как я уже написал, была дочь старосты Владимирского собора Александра Ивановна Семенова.
Мой отец с глубоким уважением относился к своей мачехе, но отроком ушел из дома, стал жить на собственные средства уроками и закончил реальное училище, чтобы стать инженером. Михал же Михалыч хотел, чтобы он унаследовал его дело и закончил коммерческое училище, не дававшее права поступить в институт.
Александра Ивановна боялась Михал Михалыча, как, впрочем, и все в доме. Михал Михалыч следил, чтобы никто в семье не сидел без дела и не «точил лясы». Приоткроет дверь в столовую, посмотрит на всех женщин тяжелым взглядом и иногда произнесет: «Ишь, дармоедки». Поэтому в обычае было в доме на всякий случай держать женщинам рукоделие на коленях. Заслышат шаркание дедушкиных туфель и схватятся – кто вязать, кто штопать, кто чинить что-нибудь.
И все ж таки, несмотря на тяжелый семейный быт, Александра Ивановна была полна чувства собственного достоинства, держалась представительно, не унижалась перед мужем, хотя во всем его слушалась. Детей от первого брака любила, называла их ласкательно: Сереженька, Катюша. Ближе всего к ней была ее очень некрасивая дочь Вера. Это было удивительное существо, кротости необыкновенной, доброты чрезвычайной, веры глубочайшей. Я могу говорить о ней только в превосходной степени. Голос у нее был необыкновенно красив, и петербургское произношение, как и во всей семье дедушки, безупречное. Называла она меня Митюша, и одно это слово звучало для меня, как музыка. Она целиком посвятила себя матери, ухаживала за ней самоотверженно и никогда не жаловалась на судьбу. Между тем Александра Ивановна от неподвижного образа жизни страдала ногами. Ей отняли ногу, а когда после смерти Михал Михалыча Александра Ивановна и Вера, чтобы сократить расходы, переехали из центра города на Удельную на второй этаж деревянного дома, – отняли и вторую. Вскоре Александра Ивановна умерла, и Вера стала помогать в Удельной всем, кто в этом нуждался, ничего за это не требуя. Многие жители Удельной ее знали и считали святой. Небольшие деньги давали ей дядя Вася из своей нищенской зарплаты – ее брат, и мой отец – ее брат по отцу. Закончила она свою жизнь во время блокады. Еще до блокады она отдала свою большую комнату бедной многодетной еврейской семье, жившей в холодной комнатке с дверью, выходившей прямо на улицу. Разумеется, она ничего не взяла с них. Как ни топи, а ногам было в этом сарайчике холодно. Зимой она обычно сидела на высокой кровати с ногами. В начале блокады она умерла от голода одной из первых. Нам до нее было не добраться, и только весной 1942 года мы узнали о ее смерти. Где она похоронена – бог весть.
Вторая моя тетя по отцу – Маня – была очень красива. Помню, как отец с матерью спорили: кто красивее – тетя Маня или сестра моей матери тетя Люба. Споры эти, конечно, были полусерьезные. Тетя Маня, однако, не вышла замуж: уж очень строго держал своих дочерей Михал Михалыч. За тетю Маню сватался будущий настоятель Шуваловской церкви. Тетя Маня сказала: «Ну какая я попадья», – и отказала. Чтобы получить хоть какую-то самостоятельность, она пошла учиться на зубного врача и некоторое время успешно практиковала где-то около Литейного моста в поликлинике, где у нее был зубоврачебный кабинет. А затем она уехала под Новгород на фарфоровый завод. С заводом этим она эвакуировалась, близко подружилась со служащими и рабочими – настолько, что к ней ходили советоваться по всем, даже семейным, делам. Единственно, что ее смущало: далекость церкви. Была она прихожанкой Николодворищенского собора в Новгороде, пока священника этой церкви, ставшего очень популярным, не перевели в другой приход, а из самой церкви одиннадцатого века не сделали планетарий. Однажды я к ней заезжал в поселок Пролетарский. Жила она бедно невдалеке от шоссе Москва – Ленинград в комнате, которую она старалась сделать уютной, и меня во время моего единственного посещения ее с волнением спрашивала: «Правда, я уютно устроила свою комнату?» Выписывала она «Медицинскую газету», «чтобы не отстать», и кое-какие книги. Тут ее, уже жившую на пенсии, и посещали ее многочисленные поклонники, а она наставляла всех добру и учила верить Богу. «Ну, если уж доктор наш верит, то, верно, Бог есть…» – говорили рабочие. Похоронена она в 50-х годах на кладбище в Пролетарском. Перед смертью она приехала в Ленинград и поднималась к нам в квартиру на Басковом переулке. Я ее фотографировал, но снимок получился плохим.
Была еще тетя Настя – тоже красивая и тоже не вышедшая замуж, как и тетя Маня. Она была с высшим образованием, окончила педагогический институт (не знаю точно какой). Получала золотые медали. Всю себя посвящала педагогическому делу. У нас дома она не бывала, а когда мы всей семьей приходили к дедушке по праздникам, уводила меня к себе в комнату и мы с ней лепили или играли в настольные игры. Она рано умерла от чахотки. В развитии ее болезни, я думаю, сыграла свою роль какая-то внутренняя неудовлетворенность, гнетущая обстановка, создававшаяся в семье тяжелым «купеческим» характером дедушки Михал Михалыча.
А теперь о любимом мною дяде Васе – сыне Александры Ивановны. На старых фотографиях, еще дореволюционных, он выглядит настоящим щеголем: вздернутые усики, элегантное, расклешенное по моде того времени пальто. Есть его фотографии с тросточкой. Если добавить к этому, что он с женой и дочкой любил ходить в кино, увлекался цыганским пением и особенно Варей Паниной, собирал ее пластинки, то на этом можно было бы поставить точку: портрет вполне законченный. Но на самом деле вся эта «внешность» была только оболочкой и, вероятнее всего, шла от довольно ординарной и мещанистой жены. На самом же деле дядя Вася был очень религиозен. И это было в нем основным. Его почитаемым святым был Серафим Саровский. В Саров он ездил один. Сохранились его фотографии Саровской пустыни. Он собирал литературу о Серафиме Саровском. Имел не пропущенный духовной цензурой полный экземпляр книги Мотовилова о Серафиме Саровском. Увлечен он был и чудесным явлением иконы Державной Божьей Матери, найденной в селе Коломенском в самый день отречения Николая II.
Я помню его высокую фигуру у нас на Офицерской. Он стоит в передней, а я еще не умею говорить и обнимаю его ноги. Он мне кажется таким высоким! Выше его никого нет.
Потом он с женой и дочкой Наташей жил на Петроградской стороне. Работал он тогда в Государственном банке и принимал участие в стачке банковских служащих, протестовавших против разгона Учредительного собрания большевиками. Стачка, как мне кажется, длилась очень долго – несколько месяцев. Теща дяди Васи за бесценок продавала все самые нужные вещи на Ситном рынке, чтобы жить. Сам он был в отчаянии, но изменить общему делу и поступить куда-нибудь на работу, как делали многие из его товарищей, он не мог. Семья буквально голодала, и как раз в тот период, когда начался общий голод после установления советской власти в 1918 году.
Со мной, студентом, он постоянно говорил на большие мировоззренческие темы. Не довольствовался простыми ответами, иногда спорил. Он думал, задумывался, мечтал. Он не был как все. Во всем он был самим собой. Как-то он сказал мне по какому-то случаю: «Люблю большие пароходы и пушечные выстрелы с Петропавловки». В те времена пушка возвещала о наводнениях – сколько футов над ординаром, столько выстрелов – и палила также в «адмиральский час» – ровно в 12 часов. В народе говорили, что под пушку адмирал в Адмиралтействе пьет рюмку водки.
Умер мой дорогой правдоискатель во время блокады ужасно. Дома его совсем не кормили. Он пришел к нам в начале блокады попросить немного хлеба и принес дорогие куклы для детей. Куклы тогда можно было купить, а хлеб нельзя было купить совершенно. Пришел он к дяде Шуре и встал в прихожей на колени, умоляя дать немного хлеба. Скупой Шура не дал ничего.
Это был не единственный случай, когда во время блокады семья отказывалась кормить своего главу, упрекая его в том, что он вовремя не запасся, не поступил на работу и лишился карточек или пропуска в столовую.
В какой общей могиле закопали дядю Васю – не знаю. С дочкой его я как-то после блокады избегал встречаться. Я не скажу, что она была плохая. Напротив, один ее поступок в 30-е годы вселил мне уважение к ней. Она увлекалась певцом Н. К. Печковским, часто бывала в театрах, дружила с актрисой Балабиной, переписка с которой составила большую пачку, которую я просил после ее смерти передать в Театральный музей. Не знаю – передали ли ее жильцы квартиры, распоряжавшиеся ее имуществом. Ее начали вербовать в секретные сотрудники. Вызывали на «разговоры». Угрожали, улещали и обещали – все по инструкциям. Но на один из вызовов она явилась с матерью. Отказалась подписать бумагу о неразглашении своего разговора. Следователь, вызывавший ее, был в ярости. После того как она объявила ему, что одна, без матери, разговаривать с ним не будет, он наконец отстал и больше не вызывал. Это был смелый шаг, но верный.
Мой отец Сергей Михайлович, уйдя из дома, стал жить уроками, самостоятельно закончил реальное училище, поступил в только что открывшийся Электротехнический институт (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.
Моя мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то из предков в середине XIX века). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничьего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас по старообрядческой традиции никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь – где теперь Музей Арктики и Антарктики.
Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все – мучился и стеснялся, затем неизменно отыгрывался. В квартире его постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала.
Отец и мать мои были уже типичными петербуржцами. Сыграла тут роль и среда, в которой они вращались, знакомые по дачным местам в Финляндии, увлечение Мариинским театром, около которого мы постоянно снимали квартиры. Чтобы сэкономить деньги, каждую весну, отправляясь на дачу, мы отказывались от городской квартиры. Мебель отвозили на склад, а осенью снимали новую пятикомнатную квартиру, обязательно вблизи от Мариинского театра, где родители имели через знакомых оркестрантов и Марию Мариусовну Петипа ложу третьего яруса на все балетные абонементы.
Детство
Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им – зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка – Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик «воспитывал» в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он «воспитывал» потом мою внучку, неизменно молчащий и ласковый.
Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал – наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены – время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем лавра и самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея на случай, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера, – всего 50 лет назад!
Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в подготовительный класс.
Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка –
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка;
За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг;
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом: тук да тук!
Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тащат сети;
На лугу коса звенит…
Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит.
Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали ее все дети благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».
А вот и другая песенка, которую мы пели:
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей…
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен;
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой.
Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то приказывает «прочь с дороги» – «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки!
Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья – Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, – «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, – это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.
С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое», «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.
Известный в свое время балетоман В. Крымов пишет в своей заметке «В балете»: «Балет сохранил свои традиции до наших дней (статья относится к 1914 году. – Д. Л.). Традиция и на сцене, традиция и в зрительном зале. Разве не традиция – П. П. Дурново, сидящий в одном и том же кресле правого ряда 37 лет! Разве не традиция “первый балетный абонемент”, где все ложи бенуара и бельэтажа известны всем поименно, где в первом и во втором рядах кресел все кивают друг другу и зовут по имени.
– “Ложа яхт-клуба”, “ложа уланов”, “ложа Половцевых”, “ложа Кшесинской”.
– “Почему нет Лихачевых?”, “Где Бакеркина? В ее ложе кто-то другой…”
– “А вот Кшесинская у себя в ложе… полтора года ее не было видно – была в трауре…”
Ге, Винтулов, Светлов, адм. Веселаго, Чихачев, адм. Берилев, Плещеев, Померанцев, веселый купец во втором ряду налево – разве без них может идти представление? Они такая же неотъемлемая часть “Капризов бабочки” или “Дон Кихота”, как и те, кто на сцене» (ж. «Столица и усадьба». 1914. № 3. С. 16).
Считалось модным не пропускать ни одного представления «Дон Кихота», но при этом не приходить на пролог, в котором Дон Кихот собирается в поход, – на этот пролог приходили либо новички, либо на дневных спектаклях с детьми. Пропускать пролог было так же бонтонно, как гулять в антрактах в коридоре партера, не поднимаясь в большое фойе, где у царской ложи неподвижно стыли часовые – были ли в ней придворные или нет (сама царская семья сидела всегда справа от сцены в ложе бенуара за голубыми портьерами).
В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (бомба попала в фойе; обивку и занавеси обновляли).
Когда я слушал разговоры о Мариусе Мариусовиче и Марии Мариусовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.
Мой отец с глубоким уважением относился к своей мачехе, но отроком ушел из дома, стал жить на собственные средства уроками и закончил реальное училище, чтобы стать инженером. Михал же Михалыч хотел, чтобы он унаследовал его дело и закончил коммерческое училище, не дававшее права поступить в институт.
Александра Ивановна боялась Михал Михалыча, как, впрочем, и все в доме. Михал Михалыч следил, чтобы никто в семье не сидел без дела и не «точил лясы». Приоткроет дверь в столовую, посмотрит на всех женщин тяжелым взглядом и иногда произнесет: «Ишь, дармоедки». Поэтому в обычае было в доме на всякий случай держать женщинам рукоделие на коленях. Заслышат шаркание дедушкиных туфель и схватятся – кто вязать, кто штопать, кто чинить что-нибудь.
И все ж таки, несмотря на тяжелый семейный быт, Александра Ивановна была полна чувства собственного достоинства, держалась представительно, не унижалась перед мужем, хотя во всем его слушалась. Детей от первого брака любила, называла их ласкательно: Сереженька, Катюша. Ближе всего к ней была ее очень некрасивая дочь Вера. Это было удивительное существо, кротости необыкновенной, доброты чрезвычайной, веры глубочайшей. Я могу говорить о ней только в превосходной степени. Голос у нее был необыкновенно красив, и петербургское произношение, как и во всей семье дедушки, безупречное. Называла она меня Митюша, и одно это слово звучало для меня, как музыка. Она целиком посвятила себя матери, ухаживала за ней самоотверженно и никогда не жаловалась на судьбу. Между тем Александра Ивановна от неподвижного образа жизни страдала ногами. Ей отняли ногу, а когда после смерти Михал Михалыча Александра Ивановна и Вера, чтобы сократить расходы, переехали из центра города на Удельную на второй этаж деревянного дома, – отняли и вторую. Вскоре Александра Ивановна умерла, и Вера стала помогать в Удельной всем, кто в этом нуждался, ничего за это не требуя. Многие жители Удельной ее знали и считали святой. Небольшие деньги давали ей дядя Вася из своей нищенской зарплаты – ее брат, и мой отец – ее брат по отцу. Закончила она свою жизнь во время блокады. Еще до блокады она отдала свою большую комнату бедной многодетной еврейской семье, жившей в холодной комнатке с дверью, выходившей прямо на улицу. Разумеется, она ничего не взяла с них. Как ни топи, а ногам было в этом сарайчике холодно. Зимой она обычно сидела на высокой кровати с ногами. В начале блокады она умерла от голода одной из первых. Нам до нее было не добраться, и только весной 1942 года мы узнали о ее смерти. Где она похоронена – бог весть.
Вторая моя тетя по отцу – Маня – была очень красива. Помню, как отец с матерью спорили: кто красивее – тетя Маня или сестра моей матери тетя Люба. Споры эти, конечно, были полусерьезные. Тетя Маня, однако, не вышла замуж: уж очень строго держал своих дочерей Михал Михалыч. За тетю Маню сватался будущий настоятель Шуваловской церкви. Тетя Маня сказала: «Ну какая я попадья», – и отказала. Чтобы получить хоть какую-то самостоятельность, она пошла учиться на зубного врача и некоторое время успешно практиковала где-то около Литейного моста в поликлинике, где у нее был зубоврачебный кабинет. А затем она уехала под Новгород на фарфоровый завод. С заводом этим она эвакуировалась, близко подружилась со служащими и рабочими – настолько, что к ней ходили советоваться по всем, даже семейным, делам. Единственно, что ее смущало: далекость церкви. Была она прихожанкой Николодворищенского собора в Новгороде, пока священника этой церкви, ставшего очень популярным, не перевели в другой приход, а из самой церкви одиннадцатого века не сделали планетарий. Однажды я к ней заезжал в поселок Пролетарский. Жила она бедно невдалеке от шоссе Москва – Ленинград в комнате, которую она старалась сделать уютной, и меня во время моего единственного посещения ее с волнением спрашивала: «Правда, я уютно устроила свою комнату?» Выписывала она «Медицинскую газету», «чтобы не отстать», и кое-какие книги. Тут ее, уже жившую на пенсии, и посещали ее многочисленные поклонники, а она наставляла всех добру и учила верить Богу. «Ну, если уж доктор наш верит, то, верно, Бог есть…» – говорили рабочие. Похоронена она в 50-х годах на кладбище в Пролетарском. Перед смертью она приехала в Ленинград и поднималась к нам в квартиру на Басковом переулке. Я ее фотографировал, но снимок получился плохим.
Была еще тетя Настя – тоже красивая и тоже не вышедшая замуж, как и тетя Маня. Она была с высшим образованием, окончила педагогический институт (не знаю точно какой). Получала золотые медали. Всю себя посвящала педагогическому делу. У нас дома она не бывала, а когда мы всей семьей приходили к дедушке по праздникам, уводила меня к себе в комнату и мы с ней лепили или играли в настольные игры. Она рано умерла от чахотки. В развитии ее болезни, я думаю, сыграла свою роль какая-то внутренняя неудовлетворенность, гнетущая обстановка, создававшаяся в семье тяжелым «купеческим» характером дедушки Михал Михалыча.
А теперь о любимом мною дяде Васе – сыне Александры Ивановны. На старых фотографиях, еще дореволюционных, он выглядит настоящим щеголем: вздернутые усики, элегантное, расклешенное по моде того времени пальто. Есть его фотографии с тросточкой. Если добавить к этому, что он с женой и дочкой любил ходить в кино, увлекался цыганским пением и особенно Варей Паниной, собирал ее пластинки, то на этом можно было бы поставить точку: портрет вполне законченный. Но на самом деле вся эта «внешность» была только оболочкой и, вероятнее всего, шла от довольно ординарной и мещанистой жены. На самом же деле дядя Вася был очень религиозен. И это было в нем основным. Его почитаемым святым был Серафим Саровский. В Саров он ездил один. Сохранились его фотографии Саровской пустыни. Он собирал литературу о Серафиме Саровском. Имел не пропущенный духовной цензурой полный экземпляр книги Мотовилова о Серафиме Саровском. Увлечен он был и чудесным явлением иконы Державной Божьей Матери, найденной в селе Коломенском в самый день отречения Николая II.
Я помню его высокую фигуру у нас на Офицерской. Он стоит в передней, а я еще не умею говорить и обнимаю его ноги. Он мне кажется таким высоким! Выше его никого нет.
Потом он с женой и дочкой Наташей жил на Петроградской стороне. Работал он тогда в Государственном банке и принимал участие в стачке банковских служащих, протестовавших против разгона Учредительного собрания большевиками. Стачка, как мне кажется, длилась очень долго – несколько месяцев. Теща дяди Васи за бесценок продавала все самые нужные вещи на Ситном рынке, чтобы жить. Сам он был в отчаянии, но изменить общему делу и поступить куда-нибудь на работу, как делали многие из его товарищей, он не мог. Семья буквально голодала, и как раз в тот период, когда начался общий голод после установления советской власти в 1918 году.
Со мной, студентом, он постоянно говорил на большие мировоззренческие темы. Не довольствовался простыми ответами, иногда спорил. Он думал, задумывался, мечтал. Он не был как все. Во всем он был самим собой. Как-то он сказал мне по какому-то случаю: «Люблю большие пароходы и пушечные выстрелы с Петропавловки». В те времена пушка возвещала о наводнениях – сколько футов над ординаром, столько выстрелов – и палила также в «адмиральский час» – ровно в 12 часов. В народе говорили, что под пушку адмирал в Адмиралтействе пьет рюмку водки.
Умер мой дорогой правдоискатель во время блокады ужасно. Дома его совсем не кормили. Он пришел к нам в начале блокады попросить немного хлеба и принес дорогие куклы для детей. Куклы тогда можно было купить, а хлеб нельзя было купить совершенно. Пришел он к дяде Шуре и встал в прихожей на колени, умоляя дать немного хлеба. Скупой Шура не дал ничего.
Это был не единственный случай, когда во время блокады семья отказывалась кормить своего главу, упрекая его в том, что он вовремя не запасся, не поступил на работу и лишился карточек или пропуска в столовую.
В какой общей могиле закопали дядю Васю – не знаю. С дочкой его я как-то после блокады избегал встречаться. Я не скажу, что она была плохая. Напротив, один ее поступок в 30-е годы вселил мне уважение к ней. Она увлекалась певцом Н. К. Печковским, часто бывала в театрах, дружила с актрисой Балабиной, переписка с которой составила большую пачку, которую я просил после ее смерти передать в Театральный музей. Не знаю – передали ли ее жильцы квартиры, распоряжавшиеся ее имуществом. Ее начали вербовать в секретные сотрудники. Вызывали на «разговоры». Угрожали, улещали и обещали – все по инструкциям. Но на один из вызовов она явилась с матерью. Отказалась подписать бумагу о неразглашении своего разговора. Следователь, вызывавший ее, был в ярости. После того как она объявила ему, что одна, без матери, разговаривать с ним не будет, он наконец отстал и больше не вызывал. Это был смелый шаг, но верный.
Мой отец Сергей Михайлович, уйдя из дома, стал жить уроками, самостоятельно закончил реальное училище, поступил в только что открывшийся Электротехнический институт (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.
Моя мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то из предков в середине XIX века). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничьего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас по старообрядческой традиции никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь – где теперь Музей Арктики и Антарктики.
Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все – мучился и стеснялся, затем неизменно отыгрывался. В квартире его постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала.
Отец и мать мои были уже типичными петербуржцами. Сыграла тут роль и среда, в которой они вращались, знакомые по дачным местам в Финляндии, увлечение Мариинским театром, около которого мы постоянно снимали квартиры. Чтобы сэкономить деньги, каждую весну, отправляясь на дачу, мы отказывались от городской квартиры. Мебель отвозили на склад, а осенью снимали новую пятикомнатную квартиру, обязательно вблизи от Мариинского театра, где родители имели через знакомых оркестрантов и Марию Мариусовну Петипа ложу третьего яруса на все балетные абонементы.
Детство
Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им – зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка – Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик «воспитывал» в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он «воспитывал» потом мою внучку, неизменно молчащий и ласковый.
Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал – наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены – время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем лавра и самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея на случай, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера, – всего 50 лет назад!
Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в подготовительный класс.
Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка –
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка;
За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг;
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом: тук да тук!
Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тащат сети;
На лугу коса звенит…
Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит.
Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали ее все дети благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».
А вот и другая песенка, которую мы пели:
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей…
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен;
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой.
Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то приказывает «прочь с дороги» – «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки!
Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья – Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, – «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, – это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.
С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое», «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.
Известный в свое время балетоман В. Крымов пишет в своей заметке «В балете»: «Балет сохранил свои традиции до наших дней (статья относится к 1914 году. – Д. Л.). Традиция и на сцене, традиция и в зрительном зале. Разве не традиция – П. П. Дурново, сидящий в одном и том же кресле правого ряда 37 лет! Разве не традиция “первый балетный абонемент”, где все ложи бенуара и бельэтажа известны всем поименно, где в первом и во втором рядах кресел все кивают друг другу и зовут по имени.
– “Ложа яхт-клуба”, “ложа уланов”, “ложа Половцевых”, “ложа Кшесинской”.
– “Почему нет Лихачевых?”, “Где Бакеркина? В ее ложе кто-то другой…”
– “А вот Кшесинская у себя в ложе… полтора года ее не было видно – была в трауре…”
Ге, Винтулов, Светлов, адм. Веселаго, Чихачев, адм. Берилев, Плещеев, Померанцев, веселый купец во втором ряду налево – разве без них может идти представление? Они такая же неотъемлемая часть “Капризов бабочки” или “Дон Кихота”, как и те, кто на сцене» (ж. «Столица и усадьба». 1914. № 3. С. 16).
Считалось модным не пропускать ни одного представления «Дон Кихота», но при этом не приходить на пролог, в котором Дон Кихот собирается в поход, – на этот пролог приходили либо новички, либо на дневных спектаклях с детьми. Пропускать пролог было так же бонтонно, как гулять в антрактах в коридоре партера, не поднимаясь в большое фойе, где у царской ложи неподвижно стыли часовые – были ли в ней придворные или нет (сама царская семья сидела всегда справа от сцены в ложе бенуара за голубыми портьерами).
В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (бомба попала в фойе; обивку и занавеси обновляли).
Когда я слушал разговоры о Мариусе Мариусовиче и Марии Мариусовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.