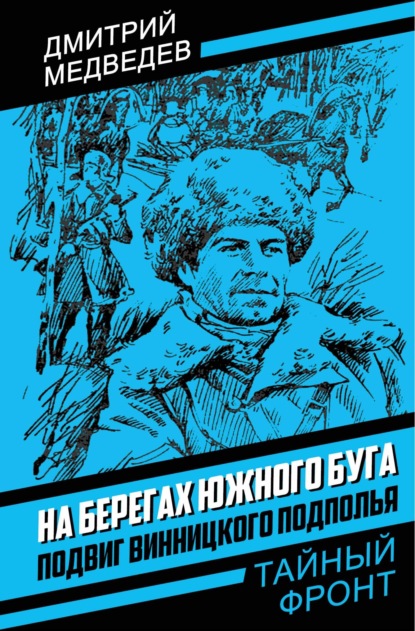По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На берегах Южного Буга. Подвиг винницкого подполья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Утром Самсонов увидел на улице листовку. Он вышел из своего подвала, остановился в воротах, задумавшись, куда направиться, и вдруг заметил на стене дома, у самых ворот, листок бумаги с отпечатанным на машинке текстом. «Внимание! – прочитал он. – Прочти и расскажи знакомым. Вот что говорится в приказе от 23 февраля». Он быстро прочитал все от первой до последней строки и пошел, не разбирая дороги, потрясенный даже не столько смыслом прочитанного, сколько самим фактом, что ему удалось это прочитать на улице оккупированного города. В первые же минуты встречи он рассказал об этом Ивану Андреевичу.
– Это вы первый раз листовку увидели? – удивился тот, словно речь шла о чем-то обычном.
Сегодня он был настроен гораздо приветливее, чем в первый раз. Словно в ответ на рассказ Самсонова он заявил открыто и даже с каким-то вызовом:
– Дочь и сын у меня в Красной Армии. Горжусь этим.
Пришел Борис. На этот раз и он встретил гостя по-другому. На него тоже не произвел большого впечатления рассказ о листовке. Самсонов решился заговорить о приемнике, и – странное дело – Иван Андреевич не удивился, согласно кивнул головой, а Борис тотчас вынул из кармана наушники.
Екатерина Васильевна наспех вытерла руки передником, вышла на лестницу взглянуть, нет ли кого поблизости. Потом плотно заперла дверь, еще раз проверила маскировочные шторы на окнах.
Самсонов с волнением взял черный кружок наушника.
Борис склонился над приемником. Иван Андреевич старательно прижал к уху второй наушник. Морщинистое, суровое лицо его было торжественно.
В наушниках заскрипело, затрещали разряды, раздались звуки какого-то неистового джаза. И вдруг в этой неразберихе звуков ясно и четко зазвучал, заглушая все остальное, спокойный голос: «Внимание, говорит Москва».
Сводка сообщала об успехе войск Северо-Западного фронта, нанесших врагу поражение в районе Демянска.
«Смерть немецким захватчикам!» – закончил диктор.
Самсонов потянулся через стол, положил свою ладонь на морщинистую, натруженную руку Крыжевого.
– Я считаю, что эту возможность, – он кивнул в сторону приемника, – мы должны использовать. Нужно записывать и распространять.
Борис порывисто шагнул к Самсонову.
– Правильно, товарищ Самсонов.
Иван Андреевич неторопливо встал из-за стола, подошел к Самсонову и молча протянул ему руку.
В тот вечер Самсонов многое узнал о семье Крыжевых. Узнал о том, что еще в гражданскую войну Иван Андреевич и Екатерина Васильевна, живя в Киеве, участвовали в большевистском подполье. Узнал, что в первые же дни после нападения гитлеровцев, в июне сорок первого, ушел в Красную Армию старший сын Крыжевых – Николай, ушла добровольно и дочь Лена. Узнал и о длительной размолвке между Иваном Андреевичем и младшим сыном – Борисом; эта размолвка, о которой в доме говорилось сейчас как о веселой истории, наглядно характеризовала и того, и другого.
За год до войны Борис окончил школу и поступил работать по своей специальности радиотехника, которую он тогда уже успел приобрести. Энергичный парень, работяга, хороший комсомолец, он был общим любимцем и в семье, и среди товарищей. С осени собирался продолжать образование; отец и старший брат настаивали, чтобы он вовсе оставил работу и ехал учиться в Киев, в институт. Этот план еще обсуждался в семье Крыжевых, когда пришла война, пришла и спутала все карты. Борис оказался на оккупированной врагом земле.
О чем думал, что переживал юноша, как собирался жить дальше?
Иван Андреевич не раз с тревогой задавал себе этот вопрос. Работать Борис перестал, и отец отнесся к этому одобрительно: он сам не хотел служить у немцев и бросил бы свое место электрика в Хлебторге, если б было на что жить. Борис мог бы сидеть дома, заниматься мелкой кустарной работой, копаться на их маленьком огороде – словом, помогать семье. Но и дома-то он не сидел. Вначале стал отлучаться на час-другой, а затем уже исчезал на целые дни, до поздней ночи, даже к обеду не являлся. Что-то переменилось и в его характере: он сделался молчалив, раздражителен, чего прежде никогда не было. Несколько раз порывался Иван Андреевич поговорить с сыном по душам, но разговора не получалось.
Как-то на одной из окраинных улиц Иван Андреевич увидел Бориса в обществе двух гитлеровских офицеров. Он остолбенел от неожиданности, а те прошли мимо, о чем-то рассуждая. Борис даже не взглянул в сторону отца. Иван Андреевич постоял, поглядел вслед, плюнул и, расстроенный, побрел домой. А дома все не мог найти себе места, ходил по комнате, прислушивался к голосам на дворе, к шагам прохожих, к каждому шороху: ждал сына.
Тот явился, как всегда, поздно и молча начал стелить постель.
– В ночлежку пришел и знакомых нема, – заметил Иван Андреевич.
– Устал я, отец, спать хочу.
– Я больше твоего, наверно, устал. Да вот через сына не спится.
– Из-за меня? – Борис, уже успевший нырнуть под одеяло, приподнялся и сел.
– Скажи, пожалуйста, – начал Иван Андреевич, и Борис услышал в его голосе новые, непривычные, чужие интонации, – отчего это ты больно устаешь? От того, что шляешься целыми днями по городу?
– И шляться много приходится, – спокойно проговорил Борис.
– С кем же это? – осторожно спросил Иван Андреевич. – Что за дружки у тебя объявились?
Борис засмеялся.
– Я не маленький, не беспокойся, сам имею голову на плечах.
– Что тебе от них нужно? – не выдержал Иван Андреевич. – Что у тебя за дела такие?
– Отец, не надо, я не маленький, – тихо и примирительно повторил Борис. Он повернулся к стене, натянул на голову одеяло и замолк, давая понять, что разговор окончен.
Иван Андреевич потоптался еще около кровати и медленно ушел к себе в комнату.
А через несколько дней к домику Крыжевых подкатила автомашина. Из нее вышел Борис и с ним какой-то офицер. На глазах у всех они вытащили из машины радиоприемник, внесли его в квартиру, установили в комнате Бориса. На весь дом, на всю улицу загремела музыка.
Иван Андреевич был дома. Он словно лишился дара речи. И пока сын его с гитлеровцем сидели в комнате и слушали радио, он не мог произнести ни слова, не мог сдвинуться с места.
Конечно, был во всем этом какой-то тайный замысел – иной мысли нельзя было и допустить: не всерьез же снюхался Борис с гитлеровцами! Но что он задумал? Что за глупые шутки с приемником? Все это добром не кончится… Да и перед людьми совестно: что подумают!.. Ведь всем не объяснишь!.. И как объяснишь, когда сам ничего не понимаешь! Ну, допустим, он нашел каких-то своих людей, подпольщиков, и выполняет их поручения – почему же это надо скрывать от родного отца?.. А может быть, здесь другое: легкомыслие, мальчишество? Может, и впрямь попал мальчишка в дурную компанию и не ведает, что творит?..
То, что происходило в последующие дни, окончательно сбило с толку Ивана Андреевича. Мало того, что Борис поступил на работу и служил теперь у них радиомастером, – он приглашал встречных и поперечных, стал устраивать у себя танцульки, музыка гремела на весь квартал. И немцы вовсе не реагировали на это; более того, двое офицеров и их подружки из местных стали завсегдатаями в доме Крыжевых.
Так продолжалось недели две. В доме было тоскливо без Бориса, но еще тоскливей, когда он приходил: отец с сыном не разговаривали.
Однажды, придя среди дня домой и застав одну мать, Борис, ни слова не говоря, усадил ее перед приемником, включил его и легко нашел в эфире нужную волну. Впервые за время оккупации Екатерина Васильевна услышала голос Москвы. Борис сидел как ни в чем не бывало, стараясь казаться равнодушным, но от матери не ускользнуло сиянье его глаз.
– Понимаешь теперь?..
Екатерина Васильевна тут же заметила, что надо бы сказать обо всем отцу.
Борис замахал руками.
– Только не сейчас, только не сейчас!.. Вот когда что-нибудь путное выйдет – тогда и скажем…
Он взял с матери слово, что все останется в тайне, но, разумеется, выдержки у нее не хватило, и в тот же вечер Иван Андреевич узнал о затее сына. В свою очередь, он пообещал жене, что не выдаст ее, даже виду не покажет, и, надо отдать ему справедливость, держался целых три дня. В конце концов между отцом и сыном произошел откровенный разговор. Борису пришлось раскрыть все карты, и тут только узнал Иван Андреевич, какой напряженной жизнью живет сын и как далеко идут его планы.
Радиоприемник, ради которого пришлось пойти на все это, был для Бориса отнюдь не конечной и не главной целью. С приемника, собственно, только начиналось то, что он задумал. Имея дома радио, можно было всегда пригласить к себе любого, даже малознакомого человека, – это был хороший предлог для любой встречи, вечеринки, для того чтобы запросто посидеть и поболтать с людьми. Если к тому же в поисках «хорошей музыки» набрести «нечаянно» на советскую песню да посмотреть повнимательней в этот момент на лица слушателей, можно по их реакции кое-что понять. Так вот и набрел Борис на верных друзей. Вскоре после своего признания он представил их отцу.
Ну, а с немцами дружба кончилась, к счастью, вполне благополучно. Оба лейтенанта, с которыми водился Борис («Ей-богу, неплохие ребята!» – смеялся он потом), отбыли на фронт, а добытый с их помощью приемник так и остался у Крыжевых.
…Разговор затянулся за полночь, и хозяева уже не отпустили Самсонова. Настал его черед рассказывать о себе. Он поведал им всю свою историю. Говорил он охотно и подробно, не пропуская ни одной детали, испытывая неожиданное наслаждение от того, что может, наконец, выговориться. В своем увлечении он готов был уже рассказать и о том, как он стал Самсоновым, но удержался и тут же твердо решил никому, ни при каких обстоятельствах не называть своей настоящей фамилии. Это осталось единственным, что он утаил от Крыжевых…
Каким это было блаженством – растянуться на мягкой, теплой постели! Какие-то старые, странные, полузабытые ощущения вернулись к нему в ту ночь. Впервые за долгое время он был сыт: сидя за трапезой у Крыжевых, он ел с осторожной деликатностью голодного человека, но хозяева настойчиво и тактично накормили его досыта. И эта сытость, и это тепло, и чувство, что вот наконец-то кончилось одиночество, и волнующее чувство близости желанной цели погрузили его в сладкое забытье. Он попытался представить себе, что нет никакой Винницы, никакой войны, что лежит он, закрыв глаза, у себя дома, в Киеве, и вдруг ему наяву пригрезилась его комната, его кровать, показалось, что стоит открыть глаза – и рядом окажется привычный стул с одеждой, привычная тумбочка, на ней – ночник, часы и недочитанная книга…
На рассвете он почему-то проснулся, вскочил и, поняв, что еще очень рано, с досадой подумал, что не использует такую редчайшую возможность выспаться вволю, но, как назло, заснуть уже не удавалось. Удивительно четко, в железной логической стройности представилось ему сейчас положение дел, как будто, пока он спал, рассудок успел переработать вчерашние впечатления, сделать из них готовые выводы и связать в единую систему. То, что вчера смутно ощущалось как недоговоренность, неизвестность, сегодня предстало в виде ясно сформулированных вопросов, на которые нужно было получить ответ.
– Это вы первый раз листовку увидели? – удивился тот, словно речь шла о чем-то обычном.
Сегодня он был настроен гораздо приветливее, чем в первый раз. Словно в ответ на рассказ Самсонова он заявил открыто и даже с каким-то вызовом:
– Дочь и сын у меня в Красной Армии. Горжусь этим.
Пришел Борис. На этот раз и он встретил гостя по-другому. На него тоже не произвел большого впечатления рассказ о листовке. Самсонов решился заговорить о приемнике, и – странное дело – Иван Андреевич не удивился, согласно кивнул головой, а Борис тотчас вынул из кармана наушники.
Екатерина Васильевна наспех вытерла руки передником, вышла на лестницу взглянуть, нет ли кого поблизости. Потом плотно заперла дверь, еще раз проверила маскировочные шторы на окнах.
Самсонов с волнением взял черный кружок наушника.
Борис склонился над приемником. Иван Андреевич старательно прижал к уху второй наушник. Морщинистое, суровое лицо его было торжественно.
В наушниках заскрипело, затрещали разряды, раздались звуки какого-то неистового джаза. И вдруг в этой неразберихе звуков ясно и четко зазвучал, заглушая все остальное, спокойный голос: «Внимание, говорит Москва».
Сводка сообщала об успехе войск Северо-Западного фронта, нанесших врагу поражение в районе Демянска.
«Смерть немецким захватчикам!» – закончил диктор.
Самсонов потянулся через стол, положил свою ладонь на морщинистую, натруженную руку Крыжевого.
– Я считаю, что эту возможность, – он кивнул в сторону приемника, – мы должны использовать. Нужно записывать и распространять.
Борис порывисто шагнул к Самсонову.
– Правильно, товарищ Самсонов.
Иван Андреевич неторопливо встал из-за стола, подошел к Самсонову и молча протянул ему руку.
В тот вечер Самсонов многое узнал о семье Крыжевых. Узнал о том, что еще в гражданскую войну Иван Андреевич и Екатерина Васильевна, живя в Киеве, участвовали в большевистском подполье. Узнал, что в первые же дни после нападения гитлеровцев, в июне сорок первого, ушел в Красную Армию старший сын Крыжевых – Николай, ушла добровольно и дочь Лена. Узнал и о длительной размолвке между Иваном Андреевичем и младшим сыном – Борисом; эта размолвка, о которой в доме говорилось сейчас как о веселой истории, наглядно характеризовала и того, и другого.
За год до войны Борис окончил школу и поступил работать по своей специальности радиотехника, которую он тогда уже успел приобрести. Энергичный парень, работяга, хороший комсомолец, он был общим любимцем и в семье, и среди товарищей. С осени собирался продолжать образование; отец и старший брат настаивали, чтобы он вовсе оставил работу и ехал учиться в Киев, в институт. Этот план еще обсуждался в семье Крыжевых, когда пришла война, пришла и спутала все карты. Борис оказался на оккупированной врагом земле.
О чем думал, что переживал юноша, как собирался жить дальше?
Иван Андреевич не раз с тревогой задавал себе этот вопрос. Работать Борис перестал, и отец отнесся к этому одобрительно: он сам не хотел служить у немцев и бросил бы свое место электрика в Хлебторге, если б было на что жить. Борис мог бы сидеть дома, заниматься мелкой кустарной работой, копаться на их маленьком огороде – словом, помогать семье. Но и дома-то он не сидел. Вначале стал отлучаться на час-другой, а затем уже исчезал на целые дни, до поздней ночи, даже к обеду не являлся. Что-то переменилось и в его характере: он сделался молчалив, раздражителен, чего прежде никогда не было. Несколько раз порывался Иван Андреевич поговорить с сыном по душам, но разговора не получалось.
Как-то на одной из окраинных улиц Иван Андреевич увидел Бориса в обществе двух гитлеровских офицеров. Он остолбенел от неожиданности, а те прошли мимо, о чем-то рассуждая. Борис даже не взглянул в сторону отца. Иван Андреевич постоял, поглядел вслед, плюнул и, расстроенный, побрел домой. А дома все не мог найти себе места, ходил по комнате, прислушивался к голосам на дворе, к шагам прохожих, к каждому шороху: ждал сына.
Тот явился, как всегда, поздно и молча начал стелить постель.
– В ночлежку пришел и знакомых нема, – заметил Иван Андреевич.
– Устал я, отец, спать хочу.
– Я больше твоего, наверно, устал. Да вот через сына не спится.
– Из-за меня? – Борис, уже успевший нырнуть под одеяло, приподнялся и сел.
– Скажи, пожалуйста, – начал Иван Андреевич, и Борис услышал в его голосе новые, непривычные, чужие интонации, – отчего это ты больно устаешь? От того, что шляешься целыми днями по городу?
– И шляться много приходится, – спокойно проговорил Борис.
– С кем же это? – осторожно спросил Иван Андреевич. – Что за дружки у тебя объявились?
Борис засмеялся.
– Я не маленький, не беспокойся, сам имею голову на плечах.
– Что тебе от них нужно? – не выдержал Иван Андреевич. – Что у тебя за дела такие?
– Отец, не надо, я не маленький, – тихо и примирительно повторил Борис. Он повернулся к стене, натянул на голову одеяло и замолк, давая понять, что разговор окончен.
Иван Андреевич потоптался еще около кровати и медленно ушел к себе в комнату.
А через несколько дней к домику Крыжевых подкатила автомашина. Из нее вышел Борис и с ним какой-то офицер. На глазах у всех они вытащили из машины радиоприемник, внесли его в квартиру, установили в комнате Бориса. На весь дом, на всю улицу загремела музыка.
Иван Андреевич был дома. Он словно лишился дара речи. И пока сын его с гитлеровцем сидели в комнате и слушали радио, он не мог произнести ни слова, не мог сдвинуться с места.
Конечно, был во всем этом какой-то тайный замысел – иной мысли нельзя было и допустить: не всерьез же снюхался Борис с гитлеровцами! Но что он задумал? Что за глупые шутки с приемником? Все это добром не кончится… Да и перед людьми совестно: что подумают!.. Ведь всем не объяснишь!.. И как объяснишь, когда сам ничего не понимаешь! Ну, допустим, он нашел каких-то своих людей, подпольщиков, и выполняет их поручения – почему же это надо скрывать от родного отца?.. А может быть, здесь другое: легкомыслие, мальчишество? Может, и впрямь попал мальчишка в дурную компанию и не ведает, что творит?..
То, что происходило в последующие дни, окончательно сбило с толку Ивана Андреевича. Мало того, что Борис поступил на работу и служил теперь у них радиомастером, – он приглашал встречных и поперечных, стал устраивать у себя танцульки, музыка гремела на весь квартал. И немцы вовсе не реагировали на это; более того, двое офицеров и их подружки из местных стали завсегдатаями в доме Крыжевых.
Так продолжалось недели две. В доме было тоскливо без Бориса, но еще тоскливей, когда он приходил: отец с сыном не разговаривали.
Однажды, придя среди дня домой и застав одну мать, Борис, ни слова не говоря, усадил ее перед приемником, включил его и легко нашел в эфире нужную волну. Впервые за время оккупации Екатерина Васильевна услышала голос Москвы. Борис сидел как ни в чем не бывало, стараясь казаться равнодушным, но от матери не ускользнуло сиянье его глаз.
– Понимаешь теперь?..
Екатерина Васильевна тут же заметила, что надо бы сказать обо всем отцу.
Борис замахал руками.
– Только не сейчас, только не сейчас!.. Вот когда что-нибудь путное выйдет – тогда и скажем…
Он взял с матери слово, что все останется в тайне, но, разумеется, выдержки у нее не хватило, и в тот же вечер Иван Андреевич узнал о затее сына. В свою очередь, он пообещал жене, что не выдаст ее, даже виду не покажет, и, надо отдать ему справедливость, держался целых три дня. В конце концов между отцом и сыном произошел откровенный разговор. Борису пришлось раскрыть все карты, и тут только узнал Иван Андреевич, какой напряженной жизнью живет сын и как далеко идут его планы.
Радиоприемник, ради которого пришлось пойти на все это, был для Бориса отнюдь не конечной и не главной целью. С приемника, собственно, только начиналось то, что он задумал. Имея дома радио, можно было всегда пригласить к себе любого, даже малознакомого человека, – это был хороший предлог для любой встречи, вечеринки, для того чтобы запросто посидеть и поболтать с людьми. Если к тому же в поисках «хорошей музыки» набрести «нечаянно» на советскую песню да посмотреть повнимательней в этот момент на лица слушателей, можно по их реакции кое-что понять. Так вот и набрел Борис на верных друзей. Вскоре после своего признания он представил их отцу.
Ну, а с немцами дружба кончилась, к счастью, вполне благополучно. Оба лейтенанта, с которыми водился Борис («Ей-богу, неплохие ребята!» – смеялся он потом), отбыли на фронт, а добытый с их помощью приемник так и остался у Крыжевых.
…Разговор затянулся за полночь, и хозяева уже не отпустили Самсонова. Настал его черед рассказывать о себе. Он поведал им всю свою историю. Говорил он охотно и подробно, не пропуская ни одной детали, испытывая неожиданное наслаждение от того, что может, наконец, выговориться. В своем увлечении он готов был уже рассказать и о том, как он стал Самсоновым, но удержался и тут же твердо решил никому, ни при каких обстоятельствах не называть своей настоящей фамилии. Это осталось единственным, что он утаил от Крыжевых…
Каким это было блаженством – растянуться на мягкой, теплой постели! Какие-то старые, странные, полузабытые ощущения вернулись к нему в ту ночь. Впервые за долгое время он был сыт: сидя за трапезой у Крыжевых, он ел с осторожной деликатностью голодного человека, но хозяева настойчиво и тактично накормили его досыта. И эта сытость, и это тепло, и чувство, что вот наконец-то кончилось одиночество, и волнующее чувство близости желанной цели погрузили его в сладкое забытье. Он попытался представить себе, что нет никакой Винницы, никакой войны, что лежит он, закрыв глаза, у себя дома, в Киеве, и вдруг ему наяву пригрезилась его комната, его кровать, показалось, что стоит открыть глаза – и рядом окажется привычный стул с одеждой, привычная тумбочка, на ней – ночник, часы и недочитанная книга…
На рассвете он почему-то проснулся, вскочил и, поняв, что еще очень рано, с досадой подумал, что не использует такую редчайшую возможность выспаться вволю, но, как назло, заснуть уже не удавалось. Удивительно четко, в железной логической стройности представилось ему сейчас положение дел, как будто, пока он спал, рассудок успел переработать вчерашние впечатления, сделать из них готовые выводы и связать в единую систему. То, что вчера смутно ощущалось как недоговоренность, неизвестность, сегодня предстало в виде ясно сформулированных вопросов, на которые нужно было получить ответ.