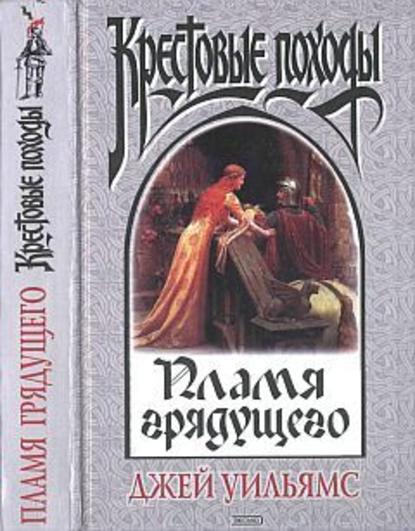По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пламя грядущего
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дени попытался отстраниться.
– Я хочу еще выпить, – сказал он. – Ты сумасшедший. Кто говорит о десяти заповедях? Ты ошибаешься. Архангел Гавриил рассказывал мне, что и он ломал над этим голову, и Голос велел ему идти удить рыбу.
– Удить рыбу? – Гираут взахлеб захохотал, брызгая слюной. – Удить рыбу! Это именно то, что ему и следовало сказать. В любом случае, чего можно ожидать от архангела? Эй, послушайте, – сказал он, вновь став серьезным. — Вы верите в дьявола, не так ли?
– Конечно, верю. Все верят.
– Очень хорошо. Очень хорошо. И если вы оглядитесь вокруг, вы увидите его проделки, ведь правда? Клевету, воровство, убийства, люцемюрие…
– Что такое люцемюрие?
– Я не говорил люцемюрие. Я сказал лицемрерие. Маленьких детей пинают, избивают… И убийства, и прелюбодеяние, и ложь, и обжорство, и все прочее. Таковы люди. Не слишком-то хороши, верно? И вы верите в Бога тоже, да? Очень хорошо, оглянитесь вокруг. Вы видите его деяния? Доброту? Любовь? Смирение? Милосердие? Так как, сэр Дени Барб? Если кто-то подает слепому нищему пенни, он делает это, ибо рад, что он сам зрячий, а не потому, что ему жаль бедного нищего. Покорность? Только в отношении того, у кого длиннее меч, а он, в свою очередь, покоряется тому, у кого меч еще длиннее. Любовь? Не смешите меня. Вы любите меня? Неужели я ваш брат, дружище, мой старый приятель? – Он повис у Дени на шее и поцеловал его в щеку. – Конечно, вы не похожи на других, – признал он. – Вы настоящий сукин сын, и я люблю вас. Я не имею в виду, что вы сукин сын, сэр. Я имею в виду, что вы настоящий. Вы не такой, как некоторые из этих благородных рыцарей, которые избивают бедного человека и плюют на него. Они никого не любят. Но вы любите. Я вижу это, ибо вы очень любите своего друга Артура и меня вы тоже любите. Я это знаю.
Дени высвободился и подался на пару шагов назад. Обнаружив, что все еще держит бурдюк, он снова выпил, причем изрядно.
Гираут покачивался из стороны в сторону, с трудом поддерживая равновесие. Его лицо было скрыто тенью, но гаснущий отсвет костров высвечивал его выступающий подбородок и острые скулы, отражаясь в одном глазу. Казалось, что он вырос и навис над Дени устрашающей громадой. Он смеялся шепотом, издавая свистящий, приглушенный звук, от которого волосы поднимались дыбом.
– Теперь вы знаете, – сказал он. – Знаете чертовски хорошо. Знаете, кто правит миром. Именно это обычно говаривала моя добрая старая матушка, когда выбивала из меня ад. Люди, у которых было детство, могут верить в Бога. Но меня ребенком продали менестрелю – за два денье. И большего я не стою, мой дружочек. Не всякий знает совершенно точно, сколько он стоит. Дай мне вина. – Он подошел поближе и выхватил бурдюк из рук Дени. – Знаете, кто меня продал? Моя дорогая матушка, вот кто, – сказал он. – Ничего иного я и представить не мог. Я очень удивился, когда понял, что не все матери так поступают со своими детьми.
– Послушай… Гираут… – запинаясь, пробормотал Дени. – Меня тоже отослали из дома, когда я был ребенком. Меня тоже продали. Неужели ты думаешь, что ты единственный?
Гираут покачал головой, словно не слышал.
– Я был чертовски сильно удивлен. Единственный человек, который желал мне добра, был тот, кто учил меня: «Кради, малыш. Ты делаешь работу дьявола. Мир принадлежит дьяволу, он создал его, он истинный бог[165 - Мир принадлежит дьяволу… он истинный бог. – Гираут высказывает взгляды еретиков-альбигойцев, впоследствии распространивших свое учение на весь юг Франции, что привело к созданию инквизиции и религиозной войне.]. Единственный способ надуть его – это умереть». Но у меня не хватило мужества умереть. Я хотел остаться в этом поганом, вонючем, грязном мире. Однако его убили. Ему переломали кости железными прутами, проделали в нем дыры и положили туда горячие угли, вытянули из него кишки и намотали их на раскаленное докрасна колесо, а он только улыбался им, пока не умер. Он долго умирал. И все время они читали над ним молитвы. Эти мягкие, святые, добрые, благородные, любящие христиане молились за него. Но поверьте мне, я видел их глаза и их жестокие, грязные, тонкогубые рты. Им это нравилось. Им это нравилось!
Его голос задрожал и смолк. Он вскинул бурдюк. Вино не попало в рот, и последние капли забрызгали его грудь. Он уронил бурдюк и глухо сказал:
– И тогда я понял. Я понял, что все они дьяволы. Он был прав. Я понял, где нахожусь. Но я накрепко увяз здесь. И вы тоже. Вы тоже, сэр, пока не наступит день, когда вы умрете. Если вы такой же большой трус, как и я.
Дени схватил его. Кожа его куртки была жирной и скользкой и выскальзывала из рук, точно змея. Гираут съежился, уменьшившись буквально на глазах. Казалось, еще мгновение, и он совсем исчезнет, просочившись у Дени сквозь пальцы.
– Не бейте меня, – прошептал он.
– Бить тебя? – воскликнул Дени. – Ах ты, ублюдок, я тебе глотку перережу. Это освободит тебя. Это поможет тебе убежать из этого проклятого мира, если тебе так хочется.
Он отпустил Гираута и стал нащупывать кинжал у себя на поясе. Гираут тяжело повалился на землю, застыв неподвижно, точно бесформенная куча тряпья, и захрапел.
Кинжала, не было: Дени разоружился, прежде чем лечь спать. Он взглянул на небо, и звезды кружились и раскачивались у него над головой. Он услышал смех. Оказалось, что он ползет, а не идет по направлению к палатке, и это его рассмешило. Он добрался до грубого одеяла, служившего ему постелью, улегся на него, все еще посмеиваясь, и устало провалился в забытье.
Дени был не единственным в лагере, кто проснулся с ужасной головной болью. Теперь это была обитель стонов. Если бы сарацины вдруг решили напасть, осада Акры кончилась бы в одно мгновение. Даже предводители войска отпраздновали прибытие слишком весело. Ричарду дневной свет показался невыносимо ярким. Только король Филипп, чопорный и замкнутый, пил весьма умеренно. Те, кто недолюбливал его, говорили, что его склонность к экономии заставляла его подсчитывать цену каждого кубка, даже если кто-то другой угощал его вином. Он явился в шатер Ричарда, плотно поджав губы, и начал брюзжать. Суть его претензий состояла в том, что Ричард вновь повел себя вызывающе. Филипп намеревался предложить по три золотых безанта в неделю любому рыцарю, который согласится поступить к нему на службу. Ричард же, узнав об этом, отдал приказ гофмейстеру предлагать по четыре безанта, и об этом во всеуслышанье прокричали по всему лагерю тотчас после объявления Филиппа.
Этот поступок, без сомнения, не был обычной причудой. Филипп понимал, что Ричард намерен добиться признания его главнокомандующим армии. Филипп возмущенно заявил, что подобная попытка перебить цену выглядит особенно неприличной, ведь Ричард является его вассалом. Ричард, осторожно потирая виски указательными пальцами, высказал пожелание, что королю Франции надлежит больше беспокоиться о своей чести и что в конце концов три безанта в неделю – это гораздо меньше, чем рента, которую получают рыцари в заморских землях со своих владений. Филипп волновался и наконец, пытаясь перехватить инициативу, стал требовать, чтобы совместными силами англичан и французов в тот же день был предпринят штурм Акры. Терпение Ричарда лопнуло. Он бросился ничком на кровать и ответил, что он даже не плюнет в сторону крепостной стены, пока не произведет разведку, не поставит осадные машины и не излечится от головной боли. Так закончился первый поединок.
Второй был коротким и состоял из одного точного удара в спину, нанесенного Ричардом. Граф Анри Шампанский[166 - Анри (Генрих) Шампанский (1150 – 1197) – участник Третьего крестового похода; особо отличился при взятии Акры. Брак с Изабеллой, вдовой Конрада Тирского, заключенный в 1192 г., дал ему возможность обладать иерусалимской короной.], один из наиболее могущественных аристократов, провел зиму под стенами Акры и, следуя традициям своего отца, известного как Анри Щедрый, широко раздавал свои запасы голодающим воинам. Теперь он явился к Филиппу, приходившемуся ему дядей, и попросил взаймы. Филипп предложил 100 000 фунтов парижских денег, но потребовал графство Шампань в качестве залога. Тогда Анри отправился к другому дяде, Ричарду. Ричард искренне ответил, что никогда не дает взаймы. Вместо этого он подарил Анри четыре тысячи бушелей пшеницы, четыре тысячи кусков копченой свинины и четыре тысячи анжуйских фунтов. В течение нескольких дней король Филипп утратил свое лицо и друзей, поскольку почти все рыцари, которые имели право выбора – как, впрочем, и некоторое число тех, кто такого права не имел, – поступили на службу к Ричарду.
Филипп платил той же монетой: он настаивал на немедленном штурме города, пытаясь создать видимость, что Ричард медлит исполнить свой долг. Его войско высадилось на берег восьмого июня. Прошло пять дней, и ничего не было сделано, за исключением того, что деревянный форт Ричарда «Разгром Грека» был выгружен с галер и установлен на расстоянии выстрела из лука напротив одной из башен. Французский король, со своей стороны, непрестанно обстреливал стену из орудий ближнего действия и огромной баллисты, прозванной «Скверным соседом», которая метала камни весом более пятисот фунтов[167 - Фунт – основная английская единица массы; 1 фунт = 0,454 кг.].
У Ричарда было две причины для бездействия. Встречные ветра до сих пор задерживали в Тире его флот, на котором находились большая часть его рыцарей и все тяжелые осадные машины. А сам он заболел цингой, осложненной приступом возвратной малярии. Ревнивому Филиппу показалось, будто наступило самое подходящее время, чтобы утвердить свое собственное главенство. Он приказал идти на приступ, а Ричард промолчал, стиснув шатавшиеся на деснах зубы, так как был слишком болен, чтобы спорить и возражать.
Итак, четырнадцатого утром войско французов вооружилось. Отслужили мессу, и все в один голос с воодушевлением пропели Veni, Creator Spiritus[168 - …Veni,CreatorSpiritus. – Прииди, Дух Создатель (лат.).]. Потом французы двинулись вперед, к крепостным стенам. Воины Ричарда, не получив определенных приказов от короля, остались в своих палатках или спустились вниз посмотреть на битву.
Французы сосредоточили удары своих машин по Проклятой башне (названной так потому, что именно здесь, по преданию, были отчеканены тридцать серебряников Иуды) и участкам стен по обе стороны от нее. В стене – там, где она примыкала к вершине крепостного вала, – была пробита брешь, и чтобы добраться туда, требовались короткие приставные лестницы. Катапульты передвинули поближе, чтобы камни из них перелетали через парапеты и обрушивались в самую гущу защитников. Подняли приставные лестницы, и французские рыцари начали карабкаться вверх, возглавляемые доблестным и отважным молодым человеком по имени Обри Клеман, который дал торжественный обет войти этим утром в город во что бы то ни стало, даже в одиночку, если придется.
Когда французы стали взбираться по лестницам, защитники города учинили ужасный шум: они вопили, били в барабаны, миски, тарелки. Одним словом, использовали все, что способно производить грохот. Король Филипп, услышав эту адскую музыку, сказал, что таким образом они, должно быть, молятся дьяволу, своему господину, или же это есть признак великого страха. Однако несколько мгновений спустя стало очевидно, что сия какофония не означает ни то ни другое, ибо со стороны укрепленных рвов, окружавших лагерь крестоносцев, донеслись крики и бряцание оружия. Горожане подняли крик, подавая сигнал Саладину, который, в свою очередь, напал на лагерь.
К счастью, ров охранял Жоффрей де Лузиньян, брат короля Ги. Нанося удары направо и налево тяжелым боевым топором, вместе с пятнадцатью рыцарями он удерживал укрепления, пока из лагеря не пришла помощь, лично сразив полдюжины врагов. После двух часов ожесточенной схватки сарацины были отброшены. Тем временем дела у французов, атаковавших стены города, шли неважно. Несколько приставных лестниц обрушились под весом вооруженных воинов, другие были опрокинуты защитниками, а Обри Клеман, спрыгнув в пролом, оказался в одиночестве, был окружен и доблестно пал на тела сраженных им сарацинов.
Французы снимали свои доспехи, чтобы остыть и пообедать, когда снова зазвучала тревога. Они оставили свои осадные машины непосредственно у стен, а горожане излили вниз потоки греческого огня и подожгли деревянные сооружения. Солдаты поспешили туда с корзинами песка и земли, зная, что греческий огонь потушить водой невозможно. Но все было напрасно; до наступления вечера большинство французских орудий обгорело и было выведено из строя настолько, что починить их было уже нельзя. Секретарь короля Филиппа записал в своем дневнике, что король, «сломленный яростным гневом, ужасно ослабел, как после болезни, и, пребывая в замешательстве и унынии, даже не мог бы сесть в седло».
Его унынию не было пределов. Он выглядел несчастней остальных воинов. Казалось, что все пропало. Мужество покинуло всех до единого. Горько сетовали на обоих королей и поговаривали о снятии осады и возвращении домой. Французы обвиняли англичан в лени и трусости. Англичане отвечали, что от неумелых солдат, лезущих наверх всем скопом, победы ждать не приходится. Многие из прибывших недавно заболели цингой и дизентерией, и в конечном итоге от полного разложения лагерь спасло только прибытие флота Ричарда, доставившего провиант, основную часть его армии и множество огромных колес, бревен, веревок и отвесов, из которых сооружали осадные машины.
Это пополнение, эти бочки мяса и мешки зерна, эти быстро собранные метательные орудия, со скрипом передвигавшиеся на своих прочных колесах, вывели войско из угнетенного состояния, а также немало помогли выздоровлению Ричарда. Он велел перенести свою постель к тому месту, откуда можно наблюдать за установкой баллист. Он велел соорудить «черепахи», или закрытые навесы, которые можно было переместить к самым стенам. Под их надежной защитой арбалетчики могли вести стрельбу из своих самострелов. Он приказал рыть ходы под башней Св. Николаса, соединявшейся с Проклятой башней, подтачивая ее основание и заполняя подкопы бревнами, которые, когда придет время, будут сожжены, и, значит, башня рухнет. Тем временем король Филипп собрал древесину и прочее снаряжение и построил новые осадные машины. Вновь начался штурм Проклятой башни и пролома в стене, который сарацины заделали и укрепили. Госпитальеры и тамплиеры обстреливали стену на довольно большом протяжении из малых катапульт, годившихся лишь на то, чтобы поодиночке сбивать сарацинов. Но, как заметил магистр ордена тамплиеров, «всякое лыко в строку». Дни незаметно сменялись один другим, заполненные лихорадочной, изнурительной работой. С раннего утра и до захода солнца люди таскали камни к осадным орудиям – огромные, гладкие булыжники, служившие балластом на кораблях Ричарда, множество камней с берега и неровные глыбы, которые выкапывали из земли на самой равнине. Рычаги катапульт и баллист ни на миг не прекращали скрипеть и глухо стучать. Гулко грохотали малые катапульты. Из подкопов под башнями извлекали корзины земли. Ее ссыпали подле орудий, чтобы использовать в случае пожара. Ни один день не обходился без сражения на внешних оборонительных рвах; это были незначительные стычки с малыми потерями. Зато никто не имел ни минуты отдыха. Палящее солнце ослепительно сияло на безоблачном небе, и люди порой падали там, где стояли, измученные зноем. Проехав дозором вдоль укреплений в течение часа, облаченные в доспехи рыцари уставали не меньше, чем в настоящем сражении. Те, у кого были шлемы, убрали их подальше. Надев шлем, легко было задохнуться. Ко всем бедам добавлялись открытые язвы на теле, возникавшие от потертостей. Люди обливались потом, жажда казалась неутолимой. Губы трескались, глаза едва поворачивались в глазницах, словно сваренные вкрутую яйца, а от рукоятей мечей появлялись мозоли даже у таких закаленных старых вояк, как Хью Хемлинкорт.
Ожидание явилось самым трудным испытанием для рыцарей, оруженосцев и других знатных воинов, и потому от отчаяния многие из них принялись ворочать камни для стенобитных орудий или, позаимствовав на время арбалеты, пытались подстрелить врагов, высовывавших головы из-за парапетов. Очень часто они подходили к краю рва в тылу лагеря и выкрикивали оскорбления в адрес сарацинов, надеясь подбить воинов султана на вылазку, чтобы хоть немного поразмяться с оружием в руках. Каждое утро они спрашивали друг друга: «Ну что, сегодня? Конечно, все готово; конечно, король прикажет нам идти на приступ». Напряжение возрастало. Люди теряли терпение и выходили из себя: ссоры и склоки стали обычным делом, ибо каждый новый день приносил им крушение надежд.
Сначала Дени беспокоило, что может произойти с Артуром во время сражения, но однажды им пришлось защищать укрепления, и тогда он понял, что в ближнем бою его друг видит достаточно хорошо, чтобы отличить неверных в их островерхих шлемах и развевающихся одеждах. Он сражался, не спуская глаз с Артура, чтобы успеть защитить того от неожиданного нападения. Все тягостные мысли сами собой улетучились из его головы. Дни проходили в рутине: он ел, ходил в дозоры, ждал, смотрел и погружался наконец в тяжелый сон, наполненный обрывками каких-то кошмарных видений, тогда как дневная жара медленно вытекала из него каплями горячего пота.
И Артуру, похоже, также нечего было сказать. День за днем он все больше замыкался в себе, задумчивый и усталый. Его добрая душа была угнетена тяготами походной жизни: жарой и зловонием, однообразной пищей, долгими периодами безделья и раздражительностью соседей. Он радовался только тогда, когда они отправлялись прогуляться вдоль укреплений. В такие часы его лицо слегка розовело. Глубоко вдыхая, он с надеждой говорил: «Как вы полагаете, они сделают вылазку сегодня?» И если случайно дерзкий отряд сарацинов, также потерявших терпение, нападал на укрепления, он бросался им навстречу, смеясь как мальчишка, совершенно не беспокоясь, что его могут ранить, и Дени волей-неволей приходилось следовать за ним. Но после стычки он снова уходил в себя, только повторяя время от времени: «Интересно, что сейчас делают дома?» Однако, если Дени заговаривал с ним о доме или о Мод, Артур лишь молча слушал, а на губах у него застывала бессмысленная улыбка, как у человека, мысли которого витают неизвестно где.
Однажды утром они завтракали у своего котла – двадцать рыцарей и оруженосцев, сидевших двумя длинными рядами. Их личные телохранители или слуги подавали им еду. Гираута, который наклонился, чтобы налить им слабого, кислого вина, толкнул другой слуга. Вино выплеснулось на рукав Артура.
– Ты что, не видишь, что делаешь? – рявкнул на него Артур.
Это настолько не походило на него, что Дени, Хью и некоторые другие рыцари, знавшие его, перестали есть и уставились на Артура.
– Гираут не виноват, – сказал Дени.
– Нечего его защищать, – огрызнулся Артур, стряхивая с руки капли вина. Его глаза, обведенные темными кругами, словно он тер лицо грязными пальцами, были тусклыми и безжизненными. По обеим щекам, от лба до подбородка, тянулись безобразные красные рубцы – там, где края кольчужного капюшона натерли кожу. Дени посмотрел на него, словно увидел в первый раз, и подумал: «Боже мой, неужели и я так выгляжу? Что с нами происходит?»
– Я знаю, в чем дело, – сказал Хью. Он отломил кусок от одного из больших, плоских караваев грубого помола и потянулся за маслом. – Он просто устал сидеть на месте. Мы все чертовски устали от этого, приятель. Такова осада, девять десятых ждут, одна десятая часть войска дерется. Я терпеть этого не могу, черт побери. Дайте мне хорошее сражение, в любой день, а? – Он подтолкнул локтем своего соседа, Балдуина де Каррео.
Светлые усы Балдуина больше не вились кудрями, а вяло обвисли, будто прелая солома, но лицо по-прежнему сохраняло глуповато-добродушное выражение, словно его совершенно не волновало то, что так беспокоило других.
– Милостивый Боже, да, – согласился он. – Я припоминаю, как однажды, когда я был в Испании и мы осаждали Трухильо – или Касерес? Нет, думаю, все-таки Трухильо, потому что там был этот, как его, ну, знаете, тот толстяк со шрамом на носу, который взял седло со стременами на турнире в Озе, – о Господи, никак не могу вспомнить его имя.
Поскольку он еще ни разу не довел до конца историю, которую начинал рассказывать, никто не удивился. Человек, сидевший за столом напротив, Уильям де ла Map, богатый рыцарь из Саффолка, пробормотал:
– Какого дьявола король еще ждет? Вот чего я не понимаю. Я не могу представить, чтобы его отец просидел здесь столько времени, ничего не делая.
– Совершенно верно, – согласился Хью, смеясь с полным ртом. – Никто не может представить, чтобы старый Генрих провел на Святой Земле хотя бы пять минут. Я никогда не думал, что Ричард окажется настолько глуп, чтобы приехать сюда, но теперь, когда он здесь, он возьмет город в свое время и по-своему.
Иво де Вимон покачал головой. Он выглядел немного почище и не таким голодным, как в тот день, когда они впервые с ним встретились, поскольку поступил на службу к Ричарду, не устояв перед соблазном получать по четыре безанта. Теперь он проводил большую часть времени с Хью, предаваясь воспоминаниям о минувших днях. Они ежедневно выезжали на участок между лагерем султана и оборонительными рвами крестоносцев и вступали в поединки с одиночными сарацинскими наездниками.
– Я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы не слухи о том, что Ричард торгуется по мелочам с султаном.
– Ха! Вот именно, – подтвердил Уильям де ла Map, стукнув по столу рукой. – Мы все слышали эти сплетни. Разве он не просил султана прислать ему парочку цыплят, чтобы он мог накормить своих соколов? Накормить соколов, подумать только! И это был Ричард, который плотно покушал в тот день.
Его брат Роберт, точная копия Уильяма, если не считать того, что он был ниже ростом и темнее, угрюмо кивнул.
– Я хочу еще выпить, – сказал он. – Ты сумасшедший. Кто говорит о десяти заповедях? Ты ошибаешься. Архангел Гавриил рассказывал мне, что и он ломал над этим голову, и Голос велел ему идти удить рыбу.
– Удить рыбу? – Гираут взахлеб захохотал, брызгая слюной. – Удить рыбу! Это именно то, что ему и следовало сказать. В любом случае, чего можно ожидать от архангела? Эй, послушайте, – сказал он, вновь став серьезным. — Вы верите в дьявола, не так ли?
– Конечно, верю. Все верят.
– Очень хорошо. Очень хорошо. И если вы оглядитесь вокруг, вы увидите его проделки, ведь правда? Клевету, воровство, убийства, люцемюрие…
– Что такое люцемюрие?
– Я не говорил люцемюрие. Я сказал лицемрерие. Маленьких детей пинают, избивают… И убийства, и прелюбодеяние, и ложь, и обжорство, и все прочее. Таковы люди. Не слишком-то хороши, верно? И вы верите в Бога тоже, да? Очень хорошо, оглянитесь вокруг. Вы видите его деяния? Доброту? Любовь? Смирение? Милосердие? Так как, сэр Дени Барб? Если кто-то подает слепому нищему пенни, он делает это, ибо рад, что он сам зрячий, а не потому, что ему жаль бедного нищего. Покорность? Только в отношении того, у кого длиннее меч, а он, в свою очередь, покоряется тому, у кого меч еще длиннее. Любовь? Не смешите меня. Вы любите меня? Неужели я ваш брат, дружище, мой старый приятель? – Он повис у Дени на шее и поцеловал его в щеку. – Конечно, вы не похожи на других, – признал он. – Вы настоящий сукин сын, и я люблю вас. Я не имею в виду, что вы сукин сын, сэр. Я имею в виду, что вы настоящий. Вы не такой, как некоторые из этих благородных рыцарей, которые избивают бедного человека и плюют на него. Они никого не любят. Но вы любите. Я вижу это, ибо вы очень любите своего друга Артура и меня вы тоже любите. Я это знаю.
Дени высвободился и подался на пару шагов назад. Обнаружив, что все еще держит бурдюк, он снова выпил, причем изрядно.
Гираут покачивался из стороны в сторону, с трудом поддерживая равновесие. Его лицо было скрыто тенью, но гаснущий отсвет костров высвечивал его выступающий подбородок и острые скулы, отражаясь в одном глазу. Казалось, что он вырос и навис над Дени устрашающей громадой. Он смеялся шепотом, издавая свистящий, приглушенный звук, от которого волосы поднимались дыбом.
– Теперь вы знаете, – сказал он. – Знаете чертовски хорошо. Знаете, кто правит миром. Именно это обычно говаривала моя добрая старая матушка, когда выбивала из меня ад. Люди, у которых было детство, могут верить в Бога. Но меня ребенком продали менестрелю – за два денье. И большего я не стою, мой дружочек. Не всякий знает совершенно точно, сколько он стоит. Дай мне вина. – Он подошел поближе и выхватил бурдюк из рук Дени. – Знаете, кто меня продал? Моя дорогая матушка, вот кто, – сказал он. – Ничего иного я и представить не мог. Я очень удивился, когда понял, что не все матери так поступают со своими детьми.
– Послушай… Гираут… – запинаясь, пробормотал Дени. – Меня тоже отослали из дома, когда я был ребенком. Меня тоже продали. Неужели ты думаешь, что ты единственный?
Гираут покачал головой, словно не слышал.
– Я был чертовски сильно удивлен. Единственный человек, который желал мне добра, был тот, кто учил меня: «Кради, малыш. Ты делаешь работу дьявола. Мир принадлежит дьяволу, он создал его, он истинный бог[165 - Мир принадлежит дьяволу… он истинный бог. – Гираут высказывает взгляды еретиков-альбигойцев, впоследствии распространивших свое учение на весь юг Франции, что привело к созданию инквизиции и религиозной войне.]. Единственный способ надуть его – это умереть». Но у меня не хватило мужества умереть. Я хотел остаться в этом поганом, вонючем, грязном мире. Однако его убили. Ему переломали кости железными прутами, проделали в нем дыры и положили туда горячие угли, вытянули из него кишки и намотали их на раскаленное докрасна колесо, а он только улыбался им, пока не умер. Он долго умирал. И все время они читали над ним молитвы. Эти мягкие, святые, добрые, благородные, любящие христиане молились за него. Но поверьте мне, я видел их глаза и их жестокие, грязные, тонкогубые рты. Им это нравилось. Им это нравилось!
Его голос задрожал и смолк. Он вскинул бурдюк. Вино не попало в рот, и последние капли забрызгали его грудь. Он уронил бурдюк и глухо сказал:
– И тогда я понял. Я понял, что все они дьяволы. Он был прав. Я понял, где нахожусь. Но я накрепко увяз здесь. И вы тоже. Вы тоже, сэр, пока не наступит день, когда вы умрете. Если вы такой же большой трус, как и я.
Дени схватил его. Кожа его куртки была жирной и скользкой и выскальзывала из рук, точно змея. Гираут съежился, уменьшившись буквально на глазах. Казалось, еще мгновение, и он совсем исчезнет, просочившись у Дени сквозь пальцы.
– Не бейте меня, – прошептал он.
– Бить тебя? – воскликнул Дени. – Ах ты, ублюдок, я тебе глотку перережу. Это освободит тебя. Это поможет тебе убежать из этого проклятого мира, если тебе так хочется.
Он отпустил Гираута и стал нащупывать кинжал у себя на поясе. Гираут тяжело повалился на землю, застыв неподвижно, точно бесформенная куча тряпья, и захрапел.
Кинжала, не было: Дени разоружился, прежде чем лечь спать. Он взглянул на небо, и звезды кружились и раскачивались у него над головой. Он услышал смех. Оказалось, что он ползет, а не идет по направлению к палатке, и это его рассмешило. Он добрался до грубого одеяла, служившего ему постелью, улегся на него, все еще посмеиваясь, и устало провалился в забытье.
Дени был не единственным в лагере, кто проснулся с ужасной головной болью. Теперь это была обитель стонов. Если бы сарацины вдруг решили напасть, осада Акры кончилась бы в одно мгновение. Даже предводители войска отпраздновали прибытие слишком весело. Ричарду дневной свет показался невыносимо ярким. Только король Филипп, чопорный и замкнутый, пил весьма умеренно. Те, кто недолюбливал его, говорили, что его склонность к экономии заставляла его подсчитывать цену каждого кубка, даже если кто-то другой угощал его вином. Он явился в шатер Ричарда, плотно поджав губы, и начал брюзжать. Суть его претензий состояла в том, что Ричард вновь повел себя вызывающе. Филипп намеревался предложить по три золотых безанта в неделю любому рыцарю, который согласится поступить к нему на службу. Ричард же, узнав об этом, отдал приказ гофмейстеру предлагать по четыре безанта, и об этом во всеуслышанье прокричали по всему лагерю тотчас после объявления Филиппа.
Этот поступок, без сомнения, не был обычной причудой. Филипп понимал, что Ричард намерен добиться признания его главнокомандующим армии. Филипп возмущенно заявил, что подобная попытка перебить цену выглядит особенно неприличной, ведь Ричард является его вассалом. Ричард, осторожно потирая виски указательными пальцами, высказал пожелание, что королю Франции надлежит больше беспокоиться о своей чести и что в конце концов три безанта в неделю – это гораздо меньше, чем рента, которую получают рыцари в заморских землях со своих владений. Филипп волновался и наконец, пытаясь перехватить инициативу, стал требовать, чтобы совместными силами англичан и французов в тот же день был предпринят штурм Акры. Терпение Ричарда лопнуло. Он бросился ничком на кровать и ответил, что он даже не плюнет в сторону крепостной стены, пока не произведет разведку, не поставит осадные машины и не излечится от головной боли. Так закончился первый поединок.
Второй был коротким и состоял из одного точного удара в спину, нанесенного Ричардом. Граф Анри Шампанский[166 - Анри (Генрих) Шампанский (1150 – 1197) – участник Третьего крестового похода; особо отличился при взятии Акры. Брак с Изабеллой, вдовой Конрада Тирского, заключенный в 1192 г., дал ему возможность обладать иерусалимской короной.], один из наиболее могущественных аристократов, провел зиму под стенами Акры и, следуя традициям своего отца, известного как Анри Щедрый, широко раздавал свои запасы голодающим воинам. Теперь он явился к Филиппу, приходившемуся ему дядей, и попросил взаймы. Филипп предложил 100 000 фунтов парижских денег, но потребовал графство Шампань в качестве залога. Тогда Анри отправился к другому дяде, Ричарду. Ричард искренне ответил, что никогда не дает взаймы. Вместо этого он подарил Анри четыре тысячи бушелей пшеницы, четыре тысячи кусков копченой свинины и четыре тысячи анжуйских фунтов. В течение нескольких дней король Филипп утратил свое лицо и друзей, поскольку почти все рыцари, которые имели право выбора – как, впрочем, и некоторое число тех, кто такого права не имел, – поступили на службу к Ричарду.
Филипп платил той же монетой: он настаивал на немедленном штурме города, пытаясь создать видимость, что Ричард медлит исполнить свой долг. Его войско высадилось на берег восьмого июня. Прошло пять дней, и ничего не было сделано, за исключением того, что деревянный форт Ричарда «Разгром Грека» был выгружен с галер и установлен на расстоянии выстрела из лука напротив одной из башен. Французский король, со своей стороны, непрестанно обстреливал стену из орудий ближнего действия и огромной баллисты, прозванной «Скверным соседом», которая метала камни весом более пятисот фунтов[167 - Фунт – основная английская единица массы; 1 фунт = 0,454 кг.].
У Ричарда было две причины для бездействия. Встречные ветра до сих пор задерживали в Тире его флот, на котором находились большая часть его рыцарей и все тяжелые осадные машины. А сам он заболел цингой, осложненной приступом возвратной малярии. Ревнивому Филиппу показалось, будто наступило самое подходящее время, чтобы утвердить свое собственное главенство. Он приказал идти на приступ, а Ричард промолчал, стиснув шатавшиеся на деснах зубы, так как был слишком болен, чтобы спорить и возражать.
Итак, четырнадцатого утром войско французов вооружилось. Отслужили мессу, и все в один голос с воодушевлением пропели Veni, Creator Spiritus[168 - …Veni,CreatorSpiritus. – Прииди, Дух Создатель (лат.).]. Потом французы двинулись вперед, к крепостным стенам. Воины Ричарда, не получив определенных приказов от короля, остались в своих палатках или спустились вниз посмотреть на битву.
Французы сосредоточили удары своих машин по Проклятой башне (названной так потому, что именно здесь, по преданию, были отчеканены тридцать серебряников Иуды) и участкам стен по обе стороны от нее. В стене – там, где она примыкала к вершине крепостного вала, – была пробита брешь, и чтобы добраться туда, требовались короткие приставные лестницы. Катапульты передвинули поближе, чтобы камни из них перелетали через парапеты и обрушивались в самую гущу защитников. Подняли приставные лестницы, и французские рыцари начали карабкаться вверх, возглавляемые доблестным и отважным молодым человеком по имени Обри Клеман, который дал торжественный обет войти этим утром в город во что бы то ни стало, даже в одиночку, если придется.
Когда французы стали взбираться по лестницам, защитники города учинили ужасный шум: они вопили, били в барабаны, миски, тарелки. Одним словом, использовали все, что способно производить грохот. Король Филипп, услышав эту адскую музыку, сказал, что таким образом они, должно быть, молятся дьяволу, своему господину, или же это есть признак великого страха. Однако несколько мгновений спустя стало очевидно, что сия какофония не означает ни то ни другое, ибо со стороны укрепленных рвов, окружавших лагерь крестоносцев, донеслись крики и бряцание оружия. Горожане подняли крик, подавая сигнал Саладину, который, в свою очередь, напал на лагерь.
К счастью, ров охранял Жоффрей де Лузиньян, брат короля Ги. Нанося удары направо и налево тяжелым боевым топором, вместе с пятнадцатью рыцарями он удерживал укрепления, пока из лагеря не пришла помощь, лично сразив полдюжины врагов. После двух часов ожесточенной схватки сарацины были отброшены. Тем временем дела у французов, атаковавших стены города, шли неважно. Несколько приставных лестниц обрушились под весом вооруженных воинов, другие были опрокинуты защитниками, а Обри Клеман, спрыгнув в пролом, оказался в одиночестве, был окружен и доблестно пал на тела сраженных им сарацинов.
Французы снимали свои доспехи, чтобы остыть и пообедать, когда снова зазвучала тревога. Они оставили свои осадные машины непосредственно у стен, а горожане излили вниз потоки греческого огня и подожгли деревянные сооружения. Солдаты поспешили туда с корзинами песка и земли, зная, что греческий огонь потушить водой невозможно. Но все было напрасно; до наступления вечера большинство французских орудий обгорело и было выведено из строя настолько, что починить их было уже нельзя. Секретарь короля Филиппа записал в своем дневнике, что король, «сломленный яростным гневом, ужасно ослабел, как после болезни, и, пребывая в замешательстве и унынии, даже не мог бы сесть в седло».
Его унынию не было пределов. Он выглядел несчастней остальных воинов. Казалось, что все пропало. Мужество покинуло всех до единого. Горько сетовали на обоих королей и поговаривали о снятии осады и возвращении домой. Французы обвиняли англичан в лени и трусости. Англичане отвечали, что от неумелых солдат, лезущих наверх всем скопом, победы ждать не приходится. Многие из прибывших недавно заболели цингой и дизентерией, и в конечном итоге от полного разложения лагерь спасло только прибытие флота Ричарда, доставившего провиант, основную часть его армии и множество огромных колес, бревен, веревок и отвесов, из которых сооружали осадные машины.
Это пополнение, эти бочки мяса и мешки зерна, эти быстро собранные метательные орудия, со скрипом передвигавшиеся на своих прочных колесах, вывели войско из угнетенного состояния, а также немало помогли выздоровлению Ричарда. Он велел перенести свою постель к тому месту, откуда можно наблюдать за установкой баллист. Он велел соорудить «черепахи», или закрытые навесы, которые можно было переместить к самым стенам. Под их надежной защитой арбалетчики могли вести стрельбу из своих самострелов. Он приказал рыть ходы под башней Св. Николаса, соединявшейся с Проклятой башней, подтачивая ее основание и заполняя подкопы бревнами, которые, когда придет время, будут сожжены, и, значит, башня рухнет. Тем временем король Филипп собрал древесину и прочее снаряжение и построил новые осадные машины. Вновь начался штурм Проклятой башни и пролома в стене, который сарацины заделали и укрепили. Госпитальеры и тамплиеры обстреливали стену на довольно большом протяжении из малых катапульт, годившихся лишь на то, чтобы поодиночке сбивать сарацинов. Но, как заметил магистр ордена тамплиеров, «всякое лыко в строку». Дни незаметно сменялись один другим, заполненные лихорадочной, изнурительной работой. С раннего утра и до захода солнца люди таскали камни к осадным орудиям – огромные, гладкие булыжники, служившие балластом на кораблях Ричарда, множество камней с берега и неровные глыбы, которые выкапывали из земли на самой равнине. Рычаги катапульт и баллист ни на миг не прекращали скрипеть и глухо стучать. Гулко грохотали малые катапульты. Из подкопов под башнями извлекали корзины земли. Ее ссыпали подле орудий, чтобы использовать в случае пожара. Ни один день не обходился без сражения на внешних оборонительных рвах; это были незначительные стычки с малыми потерями. Зато никто не имел ни минуты отдыха. Палящее солнце ослепительно сияло на безоблачном небе, и люди порой падали там, где стояли, измученные зноем. Проехав дозором вдоль укреплений в течение часа, облаченные в доспехи рыцари уставали не меньше, чем в настоящем сражении. Те, у кого были шлемы, убрали их подальше. Надев шлем, легко было задохнуться. Ко всем бедам добавлялись открытые язвы на теле, возникавшие от потертостей. Люди обливались потом, жажда казалась неутолимой. Губы трескались, глаза едва поворачивались в глазницах, словно сваренные вкрутую яйца, а от рукоятей мечей появлялись мозоли даже у таких закаленных старых вояк, как Хью Хемлинкорт.
Ожидание явилось самым трудным испытанием для рыцарей, оруженосцев и других знатных воинов, и потому от отчаяния многие из них принялись ворочать камни для стенобитных орудий или, позаимствовав на время арбалеты, пытались подстрелить врагов, высовывавших головы из-за парапетов. Очень часто они подходили к краю рва в тылу лагеря и выкрикивали оскорбления в адрес сарацинов, надеясь подбить воинов султана на вылазку, чтобы хоть немного поразмяться с оружием в руках. Каждое утро они спрашивали друг друга: «Ну что, сегодня? Конечно, все готово; конечно, король прикажет нам идти на приступ». Напряжение возрастало. Люди теряли терпение и выходили из себя: ссоры и склоки стали обычным делом, ибо каждый новый день приносил им крушение надежд.
Сначала Дени беспокоило, что может произойти с Артуром во время сражения, но однажды им пришлось защищать укрепления, и тогда он понял, что в ближнем бою его друг видит достаточно хорошо, чтобы отличить неверных в их островерхих шлемах и развевающихся одеждах. Он сражался, не спуская глаз с Артура, чтобы успеть защитить того от неожиданного нападения. Все тягостные мысли сами собой улетучились из его головы. Дни проходили в рутине: он ел, ходил в дозоры, ждал, смотрел и погружался наконец в тяжелый сон, наполненный обрывками каких-то кошмарных видений, тогда как дневная жара медленно вытекала из него каплями горячего пота.
И Артуру, похоже, также нечего было сказать. День за днем он все больше замыкался в себе, задумчивый и усталый. Его добрая душа была угнетена тяготами походной жизни: жарой и зловонием, однообразной пищей, долгими периодами безделья и раздражительностью соседей. Он радовался только тогда, когда они отправлялись прогуляться вдоль укреплений. В такие часы его лицо слегка розовело. Глубоко вдыхая, он с надеждой говорил: «Как вы полагаете, они сделают вылазку сегодня?» И если случайно дерзкий отряд сарацинов, также потерявших терпение, нападал на укрепления, он бросался им навстречу, смеясь как мальчишка, совершенно не беспокоясь, что его могут ранить, и Дени волей-неволей приходилось следовать за ним. Но после стычки он снова уходил в себя, только повторяя время от времени: «Интересно, что сейчас делают дома?» Однако, если Дени заговаривал с ним о доме или о Мод, Артур лишь молча слушал, а на губах у него застывала бессмысленная улыбка, как у человека, мысли которого витают неизвестно где.
Однажды утром они завтракали у своего котла – двадцать рыцарей и оруженосцев, сидевших двумя длинными рядами. Их личные телохранители или слуги подавали им еду. Гираута, который наклонился, чтобы налить им слабого, кислого вина, толкнул другой слуга. Вино выплеснулось на рукав Артура.
– Ты что, не видишь, что делаешь? – рявкнул на него Артур.
Это настолько не походило на него, что Дени, Хью и некоторые другие рыцари, знавшие его, перестали есть и уставились на Артура.
– Гираут не виноват, – сказал Дени.
– Нечего его защищать, – огрызнулся Артур, стряхивая с руки капли вина. Его глаза, обведенные темными кругами, словно он тер лицо грязными пальцами, были тусклыми и безжизненными. По обеим щекам, от лба до подбородка, тянулись безобразные красные рубцы – там, где края кольчужного капюшона натерли кожу. Дени посмотрел на него, словно увидел в первый раз, и подумал: «Боже мой, неужели и я так выгляжу? Что с нами происходит?»
– Я знаю, в чем дело, – сказал Хью. Он отломил кусок от одного из больших, плоских караваев грубого помола и потянулся за маслом. – Он просто устал сидеть на месте. Мы все чертовски устали от этого, приятель. Такова осада, девять десятых ждут, одна десятая часть войска дерется. Я терпеть этого не могу, черт побери. Дайте мне хорошее сражение, в любой день, а? – Он подтолкнул локтем своего соседа, Балдуина де Каррео.
Светлые усы Балдуина больше не вились кудрями, а вяло обвисли, будто прелая солома, но лицо по-прежнему сохраняло глуповато-добродушное выражение, словно его совершенно не волновало то, что так беспокоило других.
– Милостивый Боже, да, – согласился он. – Я припоминаю, как однажды, когда я был в Испании и мы осаждали Трухильо – или Касерес? Нет, думаю, все-таки Трухильо, потому что там был этот, как его, ну, знаете, тот толстяк со шрамом на носу, который взял седло со стременами на турнире в Озе, – о Господи, никак не могу вспомнить его имя.
Поскольку он еще ни разу не довел до конца историю, которую начинал рассказывать, никто не удивился. Человек, сидевший за столом напротив, Уильям де ла Map, богатый рыцарь из Саффолка, пробормотал:
– Какого дьявола король еще ждет? Вот чего я не понимаю. Я не могу представить, чтобы его отец просидел здесь столько времени, ничего не делая.
– Совершенно верно, – согласился Хью, смеясь с полным ртом. – Никто не может представить, чтобы старый Генрих провел на Святой Земле хотя бы пять минут. Я никогда не думал, что Ричард окажется настолько глуп, чтобы приехать сюда, но теперь, когда он здесь, он возьмет город в свое время и по-своему.
Иво де Вимон покачал головой. Он выглядел немного почище и не таким голодным, как в тот день, когда они впервые с ним встретились, поскольку поступил на службу к Ричарду, не устояв перед соблазном получать по четыре безанта. Теперь он проводил большую часть времени с Хью, предаваясь воспоминаниям о минувших днях. Они ежедневно выезжали на участок между лагерем султана и оборонительными рвами крестоносцев и вступали в поединки с одиночными сарацинскими наездниками.
– Я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы не слухи о том, что Ричард торгуется по мелочам с султаном.
– Ха! Вот именно, – подтвердил Уильям де ла Map, стукнув по столу рукой. – Мы все слышали эти сплетни. Разве он не просил султана прислать ему парочку цыплят, чтобы он мог накормить своих соколов? Накормить соколов, подумать только! И это был Ричард, который плотно покушал в тот день.
Его брат Роберт, точная копия Уильяма, если не считать того, что он был ниже ростом и темнее, угрюмо кивнул.