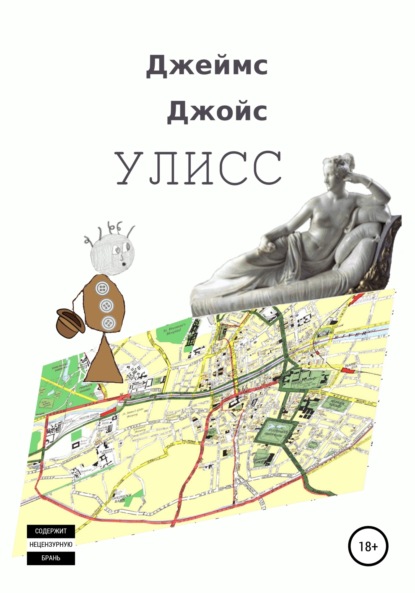По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Улисс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зернистый песок ушёлиз-под его ног. Ботинки снова ступали по влажной трескучей скорлупе ракушечьих створок, по скрипучей гальке, по обломкам дерева обшарпаного о неисчислимые камушки, источеного корабельными червями, разгромленная армада. Местами полосы песка таились в засаде, всосать его шагающие подошвы, испуская душок канализации. Он огибал их утомлённым шагом. Увязнув по пояс, вытарчивает винная бутылка, облипла коркой присохшего песка. В дозоре: остров наижутчайшей жажды. Разбитые обручи на берегу; ещё выше, вне досягаемости прилива, лабиринт коварных тёмных сетей; позади них исчёрканные мелом двери чёрных ходов и—на верхнем пляже—бельевая верёвка с парой распятых рубах. Рингсенд: вигвамы мускулистых рулевых и искусных мореходов. Людские раковины.
Он остановился. Пропустил где надо было свернуть к дому тётки. Значит к ним не пойду? Похоже, нет. Вокруг никого. Он повернул к северу и пересёк плотный песок в направлении ГОЛУБЯТНИ.
– Qui vous a mis dans cette fichue position?
– C'est te pigeon, Joseph.
Патрис приехал на родину в отпуск, прихлёбывал со мной тёплое молоко в баре МакМаона. Сын дикого гуся, эмигранта, парижского Кевина Эгана. Мой папа птичка, прихлебывал lait chaud молодым розовым языком, пухленькое кроличье личико. Хлебай, lapin. Надеется выиграть gros lots. О природе женщин читал у Мишле. Но обещался прислать мне ЖИЗНЬ ХРИСТА Лео Таксиля. Одолжил приятелю.
– C'est tordant, vous saves. Moi je suis socialiste. Je ne crois pas en l'existence de Dieu. Fant pas le dire a mon pere.
– Il croit?
– Mon pere, oui.
Schluss. Прихлёбывает. Моя парижская шляпа. Боже, всего-то и делов – нарядить персонаж. Хочу лиловые перчатки. Ты ведь, вроде, был студентом? Студентом чего, скажи ради дьявола. Paysayenn. P. C. N., усёк? physiques, chimiques et naturelles. Ага, вон оно что. Лопал свои грошовые mon en civet, египетскую обжираловку, среди извозчиков с их раскатистой отрыжкой. А ну-ка, выговори, да повальяжнее: живя в Париже, на бульваре Сент-Мишель, я обычно. Да, обычно носил при себе проштампованные билетики, чтоб можно было доказать алиби, если тебя схватят, обвиняя в каком-нибудь убийстве. Правосудие. Вечером 17 февраля 1904 года подозреваемого видели два свидетеля. Это другой совершил: моё иное я. Шляпа, галстук, пальто, нос – опознаны. Lui, c'est moi. Ты, похоже, малость порезвился?
А до чего ж величаво вышагивал. На кого это ты старался походить походкой? Забыл: обездоленный. С извещением на перевод от матери, восемь шилингов, хряск дверей почты, которую служитель захлопнул перед твоим носом. От голода аж зубы свело. Encore deux minutes. Да посмотрите ж на часы. Мне надо. Ferme. Пес наёмный! стреляю разрывными из дробовика, чтоб его в клочья к чертям собачьим, по стенам клочья человечьи—брызгами пуговицы-медяшки—но клочья все – схрррляп! – и сошлёпнулись и всё снова на месте. Нигде не болит? О, всё в порядке. Обмен рукопожатиями. Вы ж меня понимаете, да? О, всё в полном. Пожатие обмена. О, всё в полнейшем порядке.
Тебя тянуло творить чудеса, не правда ли? Миссионером в Европу, подобно ярому Колумбаносу. Фиакр и Скотус, сидя на табуреточках в небесах, аж расплескали из своих бокалов, латиногромохохоча: Euge! Euge! Притворно лопотал на ломаном английском, сам волоча свой чемодан—носильщику, ведь, три пенса—по осклизлой пристани в Ньюхевене. Comment? Изрядную ж добычу ты приволок с собою; Le Tutu, пять затрёпанных номеров Pantalon Blanc et Culotte Rouge, голубую французскую телеграмму, курьёз для кунсткамеры.
"Мать умирает выезжай домой отец."
– Тётушка считает ты убил свою мать. Она требует.
За здравие пью малигановой тёти,
На то есть причина, друзья,
У ней всё в ажуре. Хотите – проверьте:
Бульвар Нормалёк, дом семь-А.
Его ноги нежданно замаршировали в гордом ритме по волнистому песку вдоль валунов южной стены. Он заносчиво озирал их, нагромождённые глыбы мамонтовых черепов. Золотистый блеск на море, на песке, на глыбах. Солнце тут, деревья стройные, лимонные дома.
Со скрипом пробуждается Париж, ярый блеск солнца на лимонистых улицах. Кисловатый дух оладьев, жабьезелёного абсента—утренние воскурения города—галантничают с воздухом. Белуомо подымается из постели жены любовника своей жены, домохозяйка хлопочет с блюдцем уксуса в руках. В "Родо" Ивонна и Мадлен освежают свои примятые прелести, дробя золотыми зубами пироженые chaussous, их рты пожелтели от pus из flan breton. Мимо текут лица мужчин-парижан, их ухоженых ухажёров, конкистадоров в папильотках.
Полуденная полудрёма. Испачканными типографской краской пальцами, Кевин Эган скручивает сигареты, что крепче пороха, прихлебывая свою зелёную фею, как Патрис тогда белую. Окружающие, под свой гортанный гогот, поклевывают вилками горошек под соусом. Un demi setier! Струя кофейного пара над закоптелым чайником. Официантка обслуживает меня по его кивку. Il est irlandais. Hollandais? Non fromage. Deux irlandais, nous, Irlande, vous savez. Ah, oui. Она решила, что ты хочешь сыр hollandais. Вот тебе вследтрапезная, знаешь такое слово? Вследтрапезная. Знавал я одного парня в Барселоне, чудной парень, так он это называл своей вследтрапезной. Ну: slainte! Вкруг плиточных столов мешанина винных паров и утробных отрыжек. Его дыхание висит над нашими тарелками в пятнах соуса, клык-трубочка зелёной феи торчит меж губ. Про Ирландию, далкасцев, про надежды, заговоры, а вот и про Артура Грифитса. Заманить меня в свою упряжку, в одно с ним ярмо, наши преступления—наше общее дело. Ты сын своего отца. Тот же голос. Его плотная рубаха в кровавых цветах трепещет своей испанской бахромой перед его секретами. М. Драмон, известный журналист, Драмон, знаешь как он назвал королеву Викторию? Старой желтозубой свиньей. Vieille ogresse е dents jaunes. Мод Гоунн, красивая женщина, La Patrie, М. Миллявуе, Феликс Фавр, знаешь как он умер? Развратники. Фрекен, bonne a tout faire, что трёт мужскую наготу в бане Упсалы. Moi faire сказала она. Tous les messieurs. Я не за этим, ответил я. Крайне развратный обычай. Баня самое личное дело. Я бы и брату не позволил, даже родному брату, полнейший разврат. Зелёные глаза, примечаю вас. Клык, чувствую. Похотливое племя. Люди.
Синий фитиль мертвенно вспыхивает меж ладоней и разгорается. Занялись волоконца табака: пламя и едкий дым подсветили наш угол. Резкие кости лица под его ольстерской шляпой. Как скрылся глава фениев, подлинное изложение. Оделся молодой невестой, понимаешь, вуаль, букет, выехал дорогой на Мaлэхайд. Ей-ей, так оно и было. Про утраченных вождей, о жертвах предательства, о головокружительных побегах. Про заговоры, о пойманых, ушедших. Про тех кого нет. Отвергнутый влюблённый. Я в то время резвый был парняга, ей-ей, при случае покажу тебе свое подобие. Точь-в-точь я. Влюбленный, ради её любви прокрался он с полковником Берком, наследником главы клана, под стены Клеркнела и, пригнувшись, видел как огонь мести взметнул их в туман. Брязг стёкол и гул валящихся стен. В беспечном Париже он скрывается, парижский Эган, никем не разыскиваемый, кроме меня. Исполняет рутину дня, измазанная наборная касса типографии, его три кабачка, логово на Монмартре, где спит короткую ночь, улица Готте-д'Ор, где всё убранство – засиженные мухами лица ушедших. Без любви, родины, жены. Она-то пристроилась со всем удобством, без своего отверженного; домохозяйка, на улице Гит-ле-Гевр, канарейка и два холостых квартиранта. Щечки персики, юбка зеброй, резва, как молодка. Отвергнутый и не отчаявшийся. Скажи Пату, что повидался со мной, ладно? Я однажды хотел подыскать ему дело. Mon fils солдат Франции. Я учил его нашим песням.
Парни из Килкени бравые клинки.
Слыхал эту старинную? Я и Патриса научил. Старый Килкени: святой Кенис, замок Стронбоу на Норе. Запев такой. О, О. Он берёт мою руку, Нэпер Тенди.
О, О парни Из Килкени…
Усыхаюшая рука на моей. Они забыли Кевина Эгана, он их нет. Всё помню тебя, О, Сион.
Он приблизился к кромке моря и мокрый песок облепил ботинки. Новый мотив объял его, звеня в струнах нервов, вихрь буйной мелодии рассеваемой ясности. Что за дела, не собираюсь же я топать на плавучий маяк Киш, а? Он круто остановился, ноги начали медленно погружаться в хлипкую почву. Повернул обратно.
Разворачиваясь, он устремил взгляд к югу вдоль берега, ступни снова начали грузнуть, оставлять ямки. Холодная сводчатая комната башни ждёт. Проникшие сквозь бойницы снопы света в безостановочном продвижении—медленном и неотступном, как погружение моих ступней—ползут к заходу по окружности пола. Голубое предвечерье, сумерки, тёмно-синяя ночь. В ожидающей мгле под сводами – их отодвинутые стулья, мой чемодан, как обелиск, вокруг стола с оставленной посудой. Кому убирать? Ключ у него. Сегодняшнюю ночь мне там не спать. Запертая дверь безмолвной башни, упокоившей их незрячие тела, охотник на пантер и его лягавая. Зов: нет ответа. Он вытащил ноги из всосов и повернул обратно к нагромажденью валунов. Вбирай всё, всё храни. Моя душа шагает со мной – форма форм. Так в час, когда луна несёт свой караул, я прохожу тропой по верху скал, в осеребрённых соболях, вкруг Эльсинора, и слышу зов прибоя.
Прилив надвигается вслед за мной. Можно посмотреть отсюда как будет заливать. Вернусь пулбергской дорогой. Через осоку и пучки скользкой, как угри, ламинарии он взобрался и сел на камень-табурет, уткнув трость в расселину.
Вздувшийся труп собака отдыхает на морской траве. Рядом борт втопленной в песок шлюпки. Un coche ensamble назвал Луи Воилэ прозу Готье. Эти тяжкие пески – теченье речи-языка, просеянного ситом ветра. А вон груды камней от вымерших зодчих, питомник водяных крыс. Место схоронить золотишко. Спробуй. Тебе ж сегодня малость привалило. Пески и камни. Отягчённые прошлым. Игрушки сэра Лаута. Гляди, нарвесси у мине на оплеуху. Я, так-растак, тутошний великан: катю энти вона валуны, туды их растуды, будут ужо ступенца для мово крыльца. Футы-нуты. Ух, чую, естя здеся дух да кровца ирландыца.
Точка, живая собака, выросла в поле зрения, мчится вдоль полосы песка. Господи, а на меня пёс не бросится? Уважай его свободу. Тогда не будешь ничьим господином, ни рабом их. Трость со мной. Сиди спокойно.
Вдалеке, направляясь к берегу от вздымающегося прилива, фигуры, двое. Те две марии. Укромненько заныкали меж камышей. А я вижу, а я вижу! Нет, эти с собакой. Побежала обратно к ним. Кто?
Ладьи Лохланнов взбегали на этот пляж, в поисках поживы, их кровавоклювые носы низко стлались над прибоем кипящего олова. Даны-вигинги, сверкающие секиры притиснуты к груди, а у Малачи золотой обруч на шее. Косяк китов выбросился на берег в жаркий полдень, отфыркиваются, ворочаются на мели. И тут, из изголодалых клетушек городища, орда гномов в безрукавках, мой народ, со свежевальными ножами, бегут, обдирают, врубаются в зелёный жир китового мяса. Голод, чума и убийства. Их кровь во мне, их страсти – мои волны. Я сновал среди них на льду замерзшей Лиффи, тот я, заморыш, среди чадящих смолистых костров. Ни с кем не заговаривал: никто со мной.
Собачий лай донёсся до него, пресёкся, отдалился. Пёс моего врага. А я лишь стоял бледнея, молча, облаянный. Terrebilia meditaus. Жёлтый жилет, лакей фортуны , ухмылялся моему страху. Вот что тебя манит, громкий лай их аплодисментов. Претенденты на трон: прожили свои жизни. Братья Брюс, Томас Фицджеральд, шёлковый рыцарь, Перкин Ворбек, фальшивый отпрыск Йорка, в шёлковых штанах цвета бело-розовой слоновой кости, чудо дня, и Ламберт Симнел, со свитой маркитантов, коронованый посудомой. Все потомки королей. Рай лицемеров, что прежде, что теперь. Он спасал утопающих, а ты вздрагиваешь от тявканья шавки. Но придворные, что насмехались над Гвидо в Ор-сан-Мигеле, были у себя дома. Дом… Хватит с нас твоих средневековых темномыслий; ты бы смог как он? Если б рядом лодка, буй жизни. Nat?rlich, вот тебе лодка. Так смог бы или нет? Хотя бы того, что утонул у камня Девы девять дней назад. Его поджидают. Ну-ка, давай начистоту. Я бы хотел. Попытался бы. Пловец из меня не ахти. Холодная мягкость воды. Когда я погрузился лицом в бассейне Клонговза. Не вижу! Кто там сзади? Прочь, скорее прочь! Смотри как быстро подступает прилив, враз покрывает песчаные низины орехококосоцветные. Если б я чувствовал дно ногами. Кoнечно, хотел бы, чтоб его жизнь осталась-таки при нём и моя при мне. Утопающий. Человечьи глаза взывают ко мне из ужаса смерти. Я… С ним вместе вниз… Не мог я её спасти. Пучина: горькая смерть: утрата.
Мужчина и женщина. У неё видна нижняя юбка. Подколота, могу поспорить.
Их пёс носился рысью по уменьшающемуся песчаному берегу, топоча, принюхиваясь ко всему подряд. Ищет что-то утраченное в прошлой жизни. Вдруг он метнулся, как скачущий заяц, уши плещутся позади, в погоне за тенью низко скользнувшей чайки. Зычный свист мужчины достиг его мягких ушей. Он развернулся, помчал обратно, всё ближе мельтешат рысящие лапы. На жёлтом поле тур в беге без рогов. У кружевной кромки прилива замер, насторожил уши к морю. Морда задралась, залаяла против шума волн, на свору морских собак. Они змеились к его лапам, вились, раскручивая несчётные гребни, каждая – девятый вал, разбиваясь, выплескивая, издали, из дальнего далека, волна за волной.
Сборщики моллюсков. Они зашли в воду неподалеку, нагнувшись, погрузили там свои мешки и, вытащив обратно, побрели к берегу. Пёс с лаем подбежал к ним, подскакивал, толкал их лапами, падал на все четыре и снова вставал на задние в заискивающей медвежьей игривости. Безответно юлил он вокруг них, пока не вышли на песок посуше, полотнище волчьего языка полыхало Меж его челюстей. Его пегое тело вытанцовывало впереди них, а затем рвануло прочь жеребячим галопом. Труп лежал у него на пути. Он остановился, принюхался, подкрался в обход—свой брат—потянул носом ближе, обошёл, скоро, по-собачьи, обнюхивая всю всклоченную шкуру дохлой собаки. Псочереп, псонюх, потупив взгляд, продвигается к единой великой цели. Ах, бедный псина. Здесь псины-трудяги тело лежит.
– Лохмач! Пшёл оттуда, тварь.
На окрик, он скачками кинулся обратно к хозяину и резкий пинок босой ноги, не увеча, отбросил его за полосу песка, перегнувшегося в полете. Он метнулся обратно зигзагом. Меня не видит. У края скалы он задержался, потянулся, нюхнул камень и, из-под вздёрнутой задней лапы, писнул на него. Протопотал вперёд и, задрав лапу, кратко писнул на другой, не обнюханный, камень. Нехитрые утехи бедняков. Его задние лапы скребнули песок, затем суетливо заработали передние. Что-то он тут схоронил, свою бабушку. Он рылся в песке, отгребал, рылся и останавливался прислушаться к воздуху, снова остервенело скрёб песок когтями, часто прерываясь: гепард c пантерой застуканы на прелюбодеянии, за обгладыванием падали.
После того как он разбудил меня среди ночи не это ли мне снилось? Погоди-ка. Открытая дверь. Улица проституток. Помню. Гарун аль-Рашид. Да-да, так. Человек вёл меня, говорил что-то. Я не боялся. Дыня у него была, он поднёс к моему лицу. Улыбнулся: фруктово-кремовый запах. Так принято, сказал. Сюда. Входи. Красный ковёр расстелен. Увидишь кто.
Взвалив мешки на плечи потопали они, красные египтяне. Его посинелые ступни ниже подвёрнутых штанин шлёпали по влажному песку, тёмно-кирпичный шарф обмотал небритую шею. Женскими шажками она шла следом: негодяй и его зазноба. Добыча болталась у неё за спиной. Песок и измельчённые осколки ракушек облепили босые ступни. Волосы плескались вокруг обветренного лица. Вслед за хозяином, его подсоба подалася в Римвиль. Когда темень скроет изъяны её тела, окликает из-под своей коричневой шали в уличной арке загаженной псами. Её избранный фалует пару вояк из Королевского Дублинских в рюмочной О'Лохлина в Блекпите угоститься ею. Чё те щё, попарь лына с ебливой сучкой! Дьяволицина белизна под её крепко пахнущим тряпьём. Прошлую ночь на Фамболи-Стрит: вот и смердит дубильней.
Цанк твой белый, липняк красный
И шахна твоя мягка
Забирайся на скрипелку
Будет ходка до утра
Угрюмой похотью окрестил это Фома Аквинский, бочкобрюхий frate porcospino. Адам до грехопадения вставлял не возбуждаясь. Да пошёл он: шахна твоя мягка. Язык ничем не хуже, чем у него. Монашьи словеса, бряканье четок на их поясах: словечки бандитов, звяк монет в их карманах.
Проходят.
Искоса из-под ресниц на мою гамлетову шляпу. А если б я вдруг сидел тут голым? Я не. Через пески всего мира, уходя от солнца меча огненного, бредут к западу в вечерние страны. Она топает, ковыляет, тащит, волочит, тарганит ношу свою. И прилив к западу, луной влекомый, за нею следом. Приливы, мириадоостровные, внутри неё, кровь не моя, oinopa ponton, виннотёмное море. Вот она служительница луны. В снах влажный знак оповещает ей урочный час, велит вставать. Постель невесты, детская кроватка, смертный одр при свечах-призраках. Omnis caro ad te venient. Он близится, бледный вампир, сквозь бурю глаза его, перепончатые паруса его крыльев кровавят море, ртом к поцелую её рта.
Ну-ка пришпиль голубчика на карандаш. Где мои таблички? Ртом к её поцелую. Не то. Надо оба. Вылепи получше. Ртом к поцелую её рта.
Его губы потянулись, прильнули к бесплотным губам воздуха: ртом к её лону. Ооно, всевмещающее лоно могилы. Его рот округлился, испуская выдох, безречевой: оооииихах: рёв водопада планет, сфероидных, полыхающих, клекочущих вайавайа вайавайа вайава. Бумагу мне. Банкноты, мать их так. Письмо старика Дизи. Сойдет. С благодарностью за гостеприимство ваших, оторвём чистый край. Обернувшись к солнцу спиной, он склонился над столом из камня и чёркал слова. Это я уж второй раз забываю прихватить листки из ящика в библиотеке.
Тень его вытянулась на камни, когда склонился, кончая. Почему не до бесконечности, до самой дальней из звезд? Темны они там, вне этого света, тьма сверкающая блеском, дельта Кассиопеи, миры. Тот я сидит там со своим авгуровым посохом их ясенька, в одолжённых сандалиях, при свете дня возле пепельного моря, незамечаемый, фиолетовой ночью шагает под царством несуразных созвездий. Я отбрасываю эту конечную тень, неизбывный людской контур: подтягиваю обратно. Обретя бесконечность осталась бы она моей, формой моих форм? Кто тут меня увидит? Кто-нибудь, когда и где-либо, прочтёт вот эти написанные мною слова? Значки по белому полю. Где-то кому-то своим наинежнофлейтовым голосом. Добрый епископ Клойнский вынул занавес храма из широкополой шляпы своей: занавес пространства со штрихами цветных эмблем по его полю. Ну-ка, отчетливей. Расцвеченных на его плоскости: да, верно. Я различаю плоскость, затем прикидываю расстояние, близко, отдалённо, вижу плоскостями, восток, вспять. А, теперь ясно. Разом отваливается назад, замороженный в стереоскопе. Весь фокус в щелчке. Смысл слов моих находишь тёмным? Тьма в наших душах, ты не думал? Пофлейтовее. Наши души, изъязвленные стыдом за грехи наши, приникают к нам теснее, ещё теснее, как женщина что тиснется к любовнику, ещё, ещё.
Она доверилась мне, нежная ладонь, длинноресничные глаза. Так куда ж, скажи ради дьявола, вывожу я её из-за занавеси? В неизбывную обусловленность неизбежно видимого. Она, она, она. Кто? Та девственница у витрины Ходжеса Файгса, что в понедельник высматривала какую-то из алфавитных книг, которые ты собирался написать. И до того ж проникновенно ты на неё поглядел. Кисть продета в плетеный хомутик её зонтика. Проживает в Лизон-Парк в окружении грусти и изысканных безделушек, любительница литературы. Расскажи кому другому, приятель: газировка. Бьюсь об заклад, на ней эти Богом проклятые резинки и жёлтые чулки штопаные толстой шерстяной ниткой. И у неё всего и разговоров-то, что про яблочный пудинг: piuttosto. Где твои мозги?
Коснись меня. Мягкими глазами. Рукою мягче мягкого. Мне так тут одиноко. О, коснись же скорее, сейчас. Что за слово известно всем людям? Вот я здесь один. Пропадаю от тоски. Притронься, коснись меня.
Он лёг на спину, простершись на острых камнях, затолкал исписанную бумагу и карандаш в карман, надвинул шляпу на глаза. Я повторил движенье Кевина Эгана, как он вздрёмывает своим субботним сном. Et vidit Deus. Et erant valde bona. Alo! Bonjour, дарит радость, как майские цветы. Из-под полей взглянул сквозь павлиньепереливчатость ресниц на солнце движущееся к югу. Я заключён в этот полыхающий пейзаж. Час Пана, фавнов полдень. Средь налитых ползучих растений, плодов молочносочных. Где привольно раскинулись листья на тёмных водах. Боль далека.