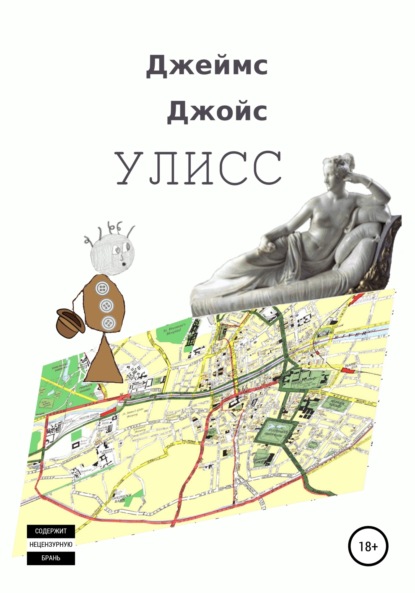По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Улисс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что толку голову ломать.
Взгляд его преломился на широконосых ботинках, обноски Мака nebeneineinder. Пересчитал складки поморщеннной кожи – чужая ступня уютно тут гнездовала. Ступня, что по-балетному притопывала о землю; ступня, что не люба мне. Но ты так восторгался, когда тебе налезли туфли Эстер Освальт: была у меня в Париже девушка. Tiens, quel petit pied! Надёжный друг, братская душа: Уальдова любовь, что никак не осмелится вымолвить имя своё. Теперь он покинет меня. Чья вина? Каков я есть. Уж каков есть. Всё или вовсе никак.
Широкими разводами размашистого лассо прихлынула вода, покрывая зелёнозолотистые песчаные лагуны, вздымаясь, струясь. Пусть ясенёк уплывёт далёко. Нет они пройдут, минуют, трутся о камни внизу, водоворотятся, проходят. Надо срочно отлить. Вот слушай: четырехсловная волноречь: сыйсэ, хыйлс, рссиисс, ооос. Страстное дыхание вод средь морских змеищ, дыбящихся коней, камней. В чашах камней похлюпывает: плоп, хлюп, шлёп: как заключённая в бочки. Иссякнув, прекращает речь. Журча отплывает, разливаясь шире, кружит на плаву клок пены, распускающийся бутон.
Он видел как в полнящемся приливе перекрученные сплетенья водорослей вяло вздымают и всколыхивают охладело руками, задирая свои подолы, к шепчущей воде, колеблясь и зазывно изгибая серебристые листья. День за днём: ночь за ночью: подняты, залиты и брошены опасть. Господи, они уж изнемогли: и только вздыхают на шёпот взывающий к ним. Святой Амброзий различал это, вздохи листьев и волн, в ожидании когда придёт их срок, diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit. Безцельно притянуты: затем отпущены ни с чем, струясь вперёд, отбредая вспять: данники луны. Тоже истомилась, под взорами любовников, похотливых мужчин, нагая женщина блистающая в своих чертогах, тянет она лямку вод.
Там пять саженей. На глубине в три сажени лежит отец твой. В час дня, сказал тот. Прилив у дублинской отмели. Гонит перед собой россыпь плавучего хлама, вееротабунчики рыб, дурацкие ракушки. Труп всплывает солебелый, на потоке придонных вод, поколыхиваясь к берегу, вверх-вниз, вверх-вниз, дельфинчиком. Точно он. Подцепляй скорей. Хоть скрылся он под гладью вод. Есть. Резко не дёргай. Мешок трупных газов замоченый в вонючем рассоле. Стайка рыбок, разжирелых на доотвальном харче, вымётывается через прорехи его застегнутой ширинки. Бог становится человеком – становится рыбой – становится диким гусём – становится периной. Выдохами мёртвых я, живущий, дышу, ступаю по мёртвому праху, поглощаю мочевые отбросы всех умерших. Втащили негнущегося через борт, он выдыхает кверху смрад своей зелёной могилы, прокажённая дыра носа взбулькивает к солнцу.
Это мореобмен, карие глаза высиневшие от соли. Моресмерть, наилегчайшая из всех известных человеку. Старый Батюшка Океан. Prix de Paris: остерегайтесь подделок. Войдёте во вкус, так вас и за уши не оттащишь. Мы были глубоко удовлетворены.
Двигай. Пить охота. Облака собираются. Но чёрных туч и близко нет, не так ли? Грозовая буря. Он падает блистая, гордая молния интеллекта, Lucifer, dico qui nescit occasum. Нет. Моя странническая шляпа и посох, и его мои сандалии. Куда? В вечерние земли. Вечер найдёт себя сам.
Он взял свою трость за рукоять, мягко взмахнул, все ещё манежась. Да, вечер найдёт себя во мне, без меня. Все дни приходят к своему концу. Кстати, следующий когда? Во вторник будет самый длинный день. На весь весёлый новый год, мамаша, шарах, брюх ром тарах. Лон Тениссон, джентельмен-поэт. Vivat! За старую желтозубую свинью. И за месье Драмона, джентельмена-журналиста. Зубы у меня ни к чёрту. С чего бы это? Чувствую. И этот вот испортился. Ракушки. Может сходить к дантисту на эти деньги? Да, вот этот самый. Беззубый Кинч, супермен. Отчего, хотел бы я знать, или, может, это что-то означает?
Мой носовой платок. Он выбросил. Помню. Я не поднял?
Рука его пошарила напрасно по карманам. Нет, не поднял. Ладно, куплю. Он положил засохшую соплю, вытащенную из ноздри, на выступ камня, аккуратно. Дальше пусть заботится кто позаботится. Сзади. Похоже кто-то есть.
Он обернул лицо над плечом, назадсмотрящий. В воздухе плыли высокие мачты шхуны, паруса подтянуты к реям, домой, вверх по течению, беззвучно проскальзывал безмолвный корабль.
* * *
М-р Леопольд Цвейт охотно употреблял в пищу внутренние органы животных и птиц. Он любил густой суп с потрошками, тугие желудочки, нашпигованное тушёное сердце, жаркое из тонко нарезанной печени; жареные куриные яичники. Более всего ему нравились печёные бараньи почки, что сообщали его нёбу тонкий привкус чуть отдающий мочёй.
Почки и были у него на уме, когда, мягко похаживая по кухне, он собирал её завтрак на слегка продавленный поднос. Холодный свет и воздух наполняли кухню, однако снаружи уже вовсю распросторилось нежное летнее утро. Оттого-то и тянуло покушать.
Угли в камине раскраснелись.
Ещё кусочек хлеба с маслом: три, четыре: так. Она не любит, чтоб её тарелка переполнялась "с горкой". Вот так. Он отвернулся от подноса, снял чайник с треножника и поставил с краю на огонь. Отворотив нос, тот нахохлился там, коренастый и тусклый. Скоро почаюем. Во рту пересохло. Кошка чопорно обошла ножку стола, высоко держа хвост.
– Мкгнау!
– А, вот и ты,– сказал м-р Цвейт, оборачиваясь от огня. Та мявкнула в ответ и, величаво мяуча, ещё раз прокралась вкруг ножки стола. Точно так же она ступает по моему письменному столу. Уррр. Почеши мне головку. Уррр.
М-р Цвейт с доброжелательным любопытством следил за гибкой чёрной формой. На вид чистюля: шерсть гладенько лоснится, белая кнопка под корнем хвоста, зелёные взблески глаз. Он склонился к ней, упёршись руками в колени.
– Молочка кисоньке,– сказал он.
– Мркгнау!– крикнула кошка.
А ещё говорят они глупы. Они нас понимают лучше, чем мы их. Всё понимает, что соизволит понять. И мстительны. Интересно, каким она меня видит. Высотой с башню? Нет, ведь настолько она могла бы вспрыгнуть.
– А вот куриц она боится,– насмешливо произнёс он,– боится тип-типонек. В жизни не видел такой глупой киски, как наша мурлышка.
Жестока. От природы. Любопытные мыши и пикнуть не успевают. Может им и нравится.
– Мркргнау!– сказала кошка громко. Помаргивая задранными вверх вожделеющими, пристыженно прижмуренными глазами, она мяукала плоско и протяжно, показывая ему свои молочнобелые зубы. Он смотрел в её тёмные, жадно сузившиеся зрачки – не глаза, а прямо тебе зелёные камни. Затем прошёл к шкафу, взял бидон, только что наполненный молочником из Хеплона, наполнил блюдце тёплопенным молоком и медленно опустил на пол.
– Гуррхр!– крикнула она, подбегая лакать.
Он смотрел как в неярком свете проволочно взблеснули кончики усов, когда она трижды встряхнула ими, наскоро облизывая. Говорят, если состричь они потом не могут мышей ловить. Почему? Наверно, отсвечивают в темноте, кончики. Или, может, вроде щупальцев.
Он слушал прихлёбывание её язычка. Яичницу на сале? Нет. В такую жару хороших яиц не будет. Им нужна чистая свежая вода. Четверг: не слишком подходящий день для бараньей почки у Баклея. Поджарить на масле, щепотку перца. Лучше свиную почку у Длугача. Пока чайник вскипит. Она, замедляясь, докончила молоко, потом вылизала блюдце. Почему у них такие шершавые языки? Удобней лакать, весь в пористых дырочках. Что-нибудь дать? Он огляделся. Нечего. Чуть поскрипывая ботинками, он поднялся по ступенькам в прихожую, встал возле двери в спальню. Может ей захочется чего-нибудь вкусненького. По утрам она предпочитает тонко нарезанный хлеб с маслом. Ну, а вдруг: на всякий.
Он сдержанно произнёс в порожней прихожей:
– Схожу за угол. Туда, обратно.
И услыхав свой голос, проговоривший это, он добавил:
– Не хочешь чего-нибудь к завтраку?
Сверху донёсся сонный мягкий стон:
– Мн.
Нет, ничего такого ей не хочется. Тут он расслышал протяжный тёплый вздох, ещё один, чуть тише, и бряцанье разболтанных медных колечек кровати. Все-таки их нужно закрепить. Жалко. Ещё с Гибралтара. Испанский начисто забыла, хотя и знала-то не ахти как. Интересно, сколько заплатил её папаша? Старомодная. Ну, ещё бы куплена на распродаже у губернатора. За бесценок. Старик Твиди не проторгуется, твёрдый орешек. Да, сэр. Дело было под Плевной. Я выслужился из рядовых и горжусь этим. Всё же у него хватило мозгов сделать вклад в те марки. Теперь-то ясно, что не прогадал.
Рука его сняла шляпу с колышка над тёплым пальто помеченным его инициалами бок о бок с подержаным плащом, с распродажи в бюро утерянных вещей. Марки: картинки с липким задом. Наверняка, многие офицеры вошли в долю. Ещё бы. Пропотелый ярлык в тулье шляпы безмолвно сообщил ему: ПЛАТО шляпы высшей кат. Он мельком заглянул за кожаную ленту подкладки. Белый квадратик бумаги. На месте.
На крыльце пошарил в заднем кармане за ключем. Не тут. В тех брюках. Надо будет не забыть. Картошка при мне. Шкаф заскрипит. Не стоит её беспокоить. Ворочалась совсем сонной. Он легонько притянул входную дверь, ещё чуть-чуть, чтобы обивка слегка выскользнула за порог, малость держит. С виду заперто. Во всяком случае сойдёт, покуда вернусь.
Обогнув раскрытый подвальный приямок у номера семьдесят пять, он перешёл на солнечную сторону. Солнце приближалось к шпилю храма Георга. Денёк, похоже, будет жарким. Особенно в чёрной одежде, чувствуется сильней. Чёрное сообщает, рефлектирует (или правильно "рефрактирует"?) теплоту. Но не пойду же я в моём светлом костюме. Не пикничок ведь. Прижмуриваясь, он шагал в благодатном тепле. Хлебный фургон Боланда с лотками, ежедневно и нам доставляет, но она больше любит хрустко обжаренные горбушки от вчерашних. Ощущаешь себя молодым. Где-нибудь на востоке: раннее утро: выйти на рассвете, идти и идти впереди солнца, обгоняя его на дневной переход. Если так всё время, не состаришься ни на день, в техническом смысле. Идти вдоль побережья, в чужой земле, приблизиться к воротам города, там стражник, тоже старый рядовой с усищами как у старика Твиди, опёршись на что-то длинное, типа, копьё. Бродить по улочкам с навесами. Мельтешат лица в тюрбанах. Тёмные зевы лавок с коврами, здоровенный мужик, Грозный Турко, сидит, скрестив ноги, курит кальян. Крики уличных торговцев.
Пить воду с запахом жасмина, шербет. Бродить там целый день. Можно наткнуться на грабителя, или двух. Ну и что. Закат всё ближе. Тени мечетей вдоль колоннад: священик со скрученным свитком. Трепет деревьев, знак, вечерний ветер. Всё так же бродить и бродить. Угасает золотое небо. Мать выглядывает за порог. Скликает детвору в дом на своём тёмном языке. Высокая стена: где-то звон струн. Луна в ночном небе, лиловое, цвета новых подвязок Молли. Струны. Слушай. Девушка наигрывает на каком-то из тех инструментов: цимбалы? Прохожу мимо.
А на самом деле: ничего, небось, подобного. Где-то вычитал, дорогой солнца. С протуберанцем на обложке. Он позабавленно хмыкнул. Неплохо выдал Артур Грифитс про череп над передовицей в НЕЗАВИСИМОМ: восход солнца самоуправления на северо-западе, из переулка за Ирландским банком. Его ухмылка стала ещё шире. В самую точку: солнце самоуправления, восходит на северо-западе.
Он приблизился к заведению Ларри О'Рука. Сквозь подвальную решётку всплывал разреженный винный дух. Из распахнутых дверей бара сочились запахи пива, чайной крошки, бисквитного теста. Солидное заведение, однако: не на бойком месте. Вот у Модея, на той окраине, другое дело: расположение ч. х. Конечно, если проложат трамвайную линию вдоль Северного Кольца, от скотного рынка к пристани, цена взлетит, как из пушки.
Лысина за занавеской. Старый пройдоха. Бесполезно подкатываться, чтоб заказал рекламу. Но дело знает. Так и есть – он, мой лысый Ларри, в своей рубахе с коротким рукавом, оперся на ящик с сахаром, наблюдает, как уборщица в фартуке орудует ведром и шваброй. Саймон Дедалус умеет завести его, когда и сам уже на взводе. Знаете что я вам скажу? Сказать, м-р О'Рук? Знаете что? Японцам эти русские всего лишь, типа, лёгких завтрак. Остановись, перекинься словом: хотя бы про похороны. Бедняга Дигнам, такая жалость, м-р О'Рук. Заворачивая в Дорсет-Стрит, он бодро поприветствовал в открытую дверь:
– Добрый день, м-р О'Рук.
– Вам добрый день.
– Прекрасная погода, сэр.
– Да уж точно.
Где они деньги берут? Приходят рыжеголовыми прибиральщиками из округа Лейтрим, моют пустые бокалы и недопивки в подвале. И вдруг—гляди-ка!—расцвели как Адам Финдлейтерс или Дэн Тэлонс. Да ещё при здешней конкуренции. Поголовная жажда. Сложнейший ребус – пересечь Дублин так, чтобы по курсу не попался какой-нибудь бар. Экономить они не умеют. Значит – с выпивки. Наливал троим, вышло на пятерых. Что тут такого? Монету здесь, монету там, по крохам да по каплям. Ещё, наверно, на оптовых заказах. Приезжих надувают. Утряси с боссом и всё обтяпаем, усёк?
А за месяц сколько наплывёт с портвейна? Скажем, десять бочек. Ему, допустим, процентов десять. О, больше. Какие там десять. Пятнадцать. Он шагал мимо национальной школы Св. Иосифа. Гвалт недорослей. Окна настежь. Приток воздуха оживляет память. Как дырочки флейты. Эйбиси – не проси, дииэф – спит лев, джиэйджей – дождик чей? Это мальчики? Да. Кликуха Квэк. Кликуха Люк. Кликуха Бур. Тушатся на медленном огне. У меня? Сляк Цвейт.
Он остановился перед витриной Длугача, уставясь на связки сосисок, колбас, чёрных и белых. Пятьдесят умножить на. Цифры поблекли в его уме недорешёнными: недовольный, он дал им угаснуть совсем. Лоснящиеся, распираемые мясом кольца насытили его взор и он умиротворенно вдохнул тепловатых дух варёнки с приправой из свиной крови.
Почка сочила кровянистую лужицу на блюдо с орнаментом из верб: последняя. Он стоял у прилавка следом за соседской девушкой. Вдруг заберет и её, вычитывая заказ из списка в руке? В трещинках: сода для стирки. И полтора фунта сосисок. Глаза его уперлись в её крутые бедра. Фамилия его Вуддс. Интересно, что он поделывает. Жена старовата. Новая кровь. Провожальщиков не допускают. Крепкая пара рук. Выбивает ковёр на бельевой веревке. Наяривает – я тебе дам. А как всхлёстывает её поддёрнутая юбка при каждом хлопке.