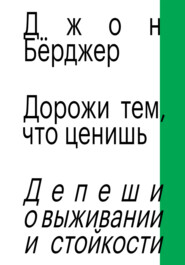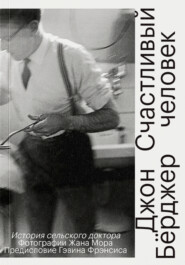По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Портреты (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мать, придерживающая безвольное тело сына, – грубо обработанный камень. Обе ноги сына и одна из его рук закончены и отполированы. (Может быть, это остатки другой скульптуры, которую Микеланджело частично уничтожил, – не важно: памятник его энергии и одиночеству останется таким, как есть.) Линия, разделяющая гладкий мрамор и грубый камень, граница плоти и скалы, проходит на уровне полового органа Христа.
Грандиозный пафос этой работы в том, что тело возвращается могучим вдохом любви назад в каменную глыбу, в материнское лоно. Вот она – противоположность рождению!
Я пришлю тебе фотографию, сделанную Салгаду. На ней галисийские женщины в октябре собирают моллюсков при отливе в Риа-де-Виго.
12. Тициан
(ок. 1485/90–1576)
Беседа в письмах Кати Андреадакис и ее отца Джона Бёрджера о том, как смотреть на картины Тициана сегодня
Сентябрь 1991 г.
Пьяцца Сан-Марко, Венеция
Джон,
ты спрашиваешь, что я думаю о Тициане? Если коротко, одним словом на почтовой открытке, то это слово: плоть.
С любовью,
Катя
Сентябрь 1991 г.
Амстердам
Кат,
хорошо, плоть так плоть. Только я сразу представляю себе его собственную, старческую. Почему Тициан видится мне стариком? Может быть, из солидарности, если учесть мой собственный возраст? Нет, вряд ли. Все дело в нашем веке, в его горьком привкусе. Все дело в том, что нам подавай гнев и мудрость, а гармонии нам не надо. Поздний Рембрандт, поздний Гойя, последние сонаты и квартеты Бетховена, поздний Тициан… А теперь вообрази живость века, для которого старым мастером был молодой Рафаэль!
Я думаю об автопортретах Тициана в возрасте 60–70 лет. Или о нем в образе кающегося святого Иеронима, написанного, когда ему было уже за восемьдесят. (Возможно, это не автопортрет, я только строю догадки, но мне почему-то кажется, что он напряженно размышлял о себе самом, когда писал Иеронима.)
Кого же я вижу? Мужчину весьма внушительного вида, обладающего несомненным авторитетом. Никто не может позволить себе с ним никаких вольностей. Не то что с немощным Рембрандтом – как он изображен на последнем автопортрете. А этот важный господин не понаслышке знает, что такое власть, он сам держал ее в руках. Ремесло художника он превратил в профессию, подняв его статус до положения генерала, посла или банкира. И сам стал первым профессионалом. Вот почему его облику свойственна самоуверенность.
Равно как и уверенность художника. В поздних работах Тициан первым из европейских живописцев демонстрирует – а не прячет и не маскирует – движения своей руки, накладывающей краску на полотно. Живопись обретает новую, физическую уверенность: движение руки художника само по себе становится средством выразительности. Потом и другие – Рембрандт, Ван Гог, Вилем де Кунинг – последуют его примеру. В то же время его оригинальность и смелость никогда не доходили до абсурда, а отношение ко всему происходившему в Венеции было реалистичным.
Но все же, все же… Чем больше я смотрю на то, как он писал себя на склоне лет, тем отчетливее вижу испуганного человека. Не труса, нет. Такой не станет рисковать, но в смелости ему не откажешь. Обычно он не показывает своего страха. Но кисть невольно выдает его. Это видно яснее всего, когда смотришь на его руки – нервные, как руки ростовщика, хотя его страхи, надо полагать, никак не связаны с деньгами.
Страх смерти? В Венеции свирепствовала чума. Страх как источник покаяния? Страх высшего суда? Это мог быть любой из перечисленных страхов, но они слишком общие, чтобы мы могли понять человека, приблизиться к нему. Тициан дожил до очень преклонного возраста, и, значит, страх сидел в нем долго. Затянувшийся страх превращается в сомнение.
Откуда в нем это сомнение? Я подозреваю, это что-то тесно связанное с Венецией, с особым характером богатства, коммерции и власти в ней. И то, и другое, и третье имеет отношение к плоти.
С любовью,
Джон
21 сентября 1991 г.
Венеция, Джудекка
Джон,
несколько раз, бродя по выставке, я сталкивалась с неким стариком: он шел за мной, потом я теряла его из виду, потом вдруг снова оказывалась рядом с ним. Он был один и непрерывно бормотал что-то себе под нос.
В первый раз я увидела его, когда он возник в дверях одного из последних залов и решительно направился к картине «Несение креста». Там он остановился – рядом со мной.
– Живопись нужна, – сказал он вдруг, – чтобы одеться, чтобы согреться…
Я поначалу смутилась и посмотрела на него сурово, но он продолжал как ни в чем не бывало:
– Иисус несет свой крест, а я несу искусство живописи. Вернее, ношу его, как шерстяную вещь.
Этим он сразу меня подкупил. Потом он переместился к «Бегству в Египет». Я, должно быть, надоела ему, или он на что-то рассердился и стал бормотать бессвязные слова:
– Мех, да! Мех моей живописи… материя, материя…
Возле «Портрета Винченцо Мости» он заговорил с моделью, тыча носом чуть ли не в самый нос молодому человеку на картине:
– Сначала я написал тебя одетым, а потом все переделал, на картине теперь только шкура, мех!
Он и не оборачиваясь знал, что я следую за ним, и, когда мы проходили мимо экскурсантов, столпившихся вокруг гида, сказал мне сквозь зубы, словно в шутку:
– Собаки, кролики, овцы – у всех есть шерсть, чтобы согреться, а я хочу быть как они, и у меня есть кисти!
В другой раз он не без гордости заметил, правда я не знала, к кому отнести его слова – к кардиналу или к «Молодому англичанину»:
– Никто в мире так не рисовал бо?роды! Мягкие, как обезьянья шерстка.
Затем я потеряла его из виду. А немного погодя взвыла сирена аварийной сигнализации. Поскольку мой знакомец (мы уже улыбались друг другу) явно не имел понятия о порядках и правилах поведения на современных выставках, я немедленно подумала о нем. И тут же увидела служителя в форме: он отчитывал старика и показывал, какую дистанцию следует соблюдать, когда рассматриваешь картины. Старик отвечал:
– Но вы же видите – бархат! Видите? Бархат – мой любимый материал, я не мог его не потрогать.
С этой минуты он решил держаться поближе ко мне и шел за мной хвостом, куда бы я ни направлялась. Речь его при этом оставалась монологичной, завязать со мной разговор он даже не пытался.
Я смотрела на «Данаю», а он упорно тянул меня к берлинскому «Автопортрету».
– Какая жалость, что они не повесили их в одном зале, – бормотал он. – Волосы на теле, на голове, перья, дальше раздеваться некуда… Я развожу, все время развожу краски, пока они не станут в точности как меховой покров животного. Одежду можно сделать потертой, шелковистой, облегающей, почти как плоть.
После этой тирады он, похоже, подустал и в течение получаса не произнес ни слова. Только напротив «Венеры и Адониса» он покосился на меня, чтобы удостовериться, правильно ли я воспринимаю картину. Я выразила свое восхищение, открыв глаза и рот пошире.
Он, похоже, почти завершил свой обход.
Однако «Наказание Марсия» без комментария оставить не смог:
– Когда сдираешь с животного шкуру, начинаешь кое-что понимать в плоти.
Перед «Пьетой» он уселся и просидел довольно долго. Сначала я не понимала, что делать: просто ждать или самой заговорить с ним и высказать свое мнение о картине. Он сделал мне знак подойти поближе. Старик, разумеется, знал, что его слова насчет меха произвели на меня впечатление, ибо, вместо того чтобы говорить, как все всегда говорят, о воздетой руке Марии Магдалины перед статуей ветхозаветного пророка[28 - Имеется в виду статуя Моисея.] – руке, на которую он неотрывно смотрел, – он снова взялся за свое:
Грандиозный пафос этой работы в том, что тело возвращается могучим вдохом любви назад в каменную глыбу, в материнское лоно. Вот она – противоположность рождению!
Я пришлю тебе фотографию, сделанную Салгаду. На ней галисийские женщины в октябре собирают моллюсков при отливе в Риа-де-Виго.
12. Тициан
(ок. 1485/90–1576)
Беседа в письмах Кати Андреадакис и ее отца Джона Бёрджера о том, как смотреть на картины Тициана сегодня
Сентябрь 1991 г.
Пьяцца Сан-Марко, Венеция
Джон,
ты спрашиваешь, что я думаю о Тициане? Если коротко, одним словом на почтовой открытке, то это слово: плоть.
С любовью,
Катя
Сентябрь 1991 г.
Амстердам
Кат,
хорошо, плоть так плоть. Только я сразу представляю себе его собственную, старческую. Почему Тициан видится мне стариком? Может быть, из солидарности, если учесть мой собственный возраст? Нет, вряд ли. Все дело в нашем веке, в его горьком привкусе. Все дело в том, что нам подавай гнев и мудрость, а гармонии нам не надо. Поздний Рембрандт, поздний Гойя, последние сонаты и квартеты Бетховена, поздний Тициан… А теперь вообрази живость века, для которого старым мастером был молодой Рафаэль!
Я думаю об автопортретах Тициана в возрасте 60–70 лет. Или о нем в образе кающегося святого Иеронима, написанного, когда ему было уже за восемьдесят. (Возможно, это не автопортрет, я только строю догадки, но мне почему-то кажется, что он напряженно размышлял о себе самом, когда писал Иеронима.)
Кого же я вижу? Мужчину весьма внушительного вида, обладающего несомненным авторитетом. Никто не может позволить себе с ним никаких вольностей. Не то что с немощным Рембрандтом – как он изображен на последнем автопортрете. А этот важный господин не понаслышке знает, что такое власть, он сам держал ее в руках. Ремесло художника он превратил в профессию, подняв его статус до положения генерала, посла или банкира. И сам стал первым профессионалом. Вот почему его облику свойственна самоуверенность.
Равно как и уверенность художника. В поздних работах Тициан первым из европейских живописцев демонстрирует – а не прячет и не маскирует – движения своей руки, накладывающей краску на полотно. Живопись обретает новую, физическую уверенность: движение руки художника само по себе становится средством выразительности. Потом и другие – Рембрандт, Ван Гог, Вилем де Кунинг – последуют его примеру. В то же время его оригинальность и смелость никогда не доходили до абсурда, а отношение ко всему происходившему в Венеции было реалистичным.
Но все же, все же… Чем больше я смотрю на то, как он писал себя на склоне лет, тем отчетливее вижу испуганного человека. Не труса, нет. Такой не станет рисковать, но в смелости ему не откажешь. Обычно он не показывает своего страха. Но кисть невольно выдает его. Это видно яснее всего, когда смотришь на его руки – нервные, как руки ростовщика, хотя его страхи, надо полагать, никак не связаны с деньгами.
Страх смерти? В Венеции свирепствовала чума. Страх как источник покаяния? Страх высшего суда? Это мог быть любой из перечисленных страхов, но они слишком общие, чтобы мы могли понять человека, приблизиться к нему. Тициан дожил до очень преклонного возраста, и, значит, страх сидел в нем долго. Затянувшийся страх превращается в сомнение.
Откуда в нем это сомнение? Я подозреваю, это что-то тесно связанное с Венецией, с особым характером богатства, коммерции и власти в ней. И то, и другое, и третье имеет отношение к плоти.
С любовью,
Джон
21 сентября 1991 г.
Венеция, Джудекка
Джон,
несколько раз, бродя по выставке, я сталкивалась с неким стариком: он шел за мной, потом я теряла его из виду, потом вдруг снова оказывалась рядом с ним. Он был один и непрерывно бормотал что-то себе под нос.
В первый раз я увидела его, когда он возник в дверях одного из последних залов и решительно направился к картине «Несение креста». Там он остановился – рядом со мной.
– Живопись нужна, – сказал он вдруг, – чтобы одеться, чтобы согреться…
Я поначалу смутилась и посмотрела на него сурово, но он продолжал как ни в чем не бывало:
– Иисус несет свой крест, а я несу искусство живописи. Вернее, ношу его, как шерстяную вещь.
Этим он сразу меня подкупил. Потом он переместился к «Бегству в Египет». Я, должно быть, надоела ему, или он на что-то рассердился и стал бормотать бессвязные слова:
– Мех, да! Мех моей живописи… материя, материя…
Возле «Портрета Винченцо Мости» он заговорил с моделью, тыча носом чуть ли не в самый нос молодому человеку на картине:
– Сначала я написал тебя одетым, а потом все переделал, на картине теперь только шкура, мех!
Он и не оборачиваясь знал, что я следую за ним, и, когда мы проходили мимо экскурсантов, столпившихся вокруг гида, сказал мне сквозь зубы, словно в шутку:
– Собаки, кролики, овцы – у всех есть шерсть, чтобы согреться, а я хочу быть как они, и у меня есть кисти!
В другой раз он не без гордости заметил, правда я не знала, к кому отнести его слова – к кардиналу или к «Молодому англичанину»:
– Никто в мире так не рисовал бо?роды! Мягкие, как обезьянья шерстка.
Затем я потеряла его из виду. А немного погодя взвыла сирена аварийной сигнализации. Поскольку мой знакомец (мы уже улыбались друг другу) явно не имел понятия о порядках и правилах поведения на современных выставках, я немедленно подумала о нем. И тут же увидела служителя в форме: он отчитывал старика и показывал, какую дистанцию следует соблюдать, когда рассматриваешь картины. Старик отвечал:
– Но вы же видите – бархат! Видите? Бархат – мой любимый материал, я не мог его не потрогать.
С этой минуты он решил держаться поближе ко мне и шел за мной хвостом, куда бы я ни направлялась. Речь его при этом оставалась монологичной, завязать со мной разговор он даже не пытался.
Я смотрела на «Данаю», а он упорно тянул меня к берлинскому «Автопортрету».
– Какая жалость, что они не повесили их в одном зале, – бормотал он. – Волосы на теле, на голове, перья, дальше раздеваться некуда… Я развожу, все время развожу краски, пока они не станут в точности как меховой покров животного. Одежду можно сделать потертой, шелковистой, облегающей, почти как плоть.
После этой тирады он, похоже, подустал и в течение получаса не произнес ни слова. Только напротив «Венеры и Адониса» он покосился на меня, чтобы удостовериться, правильно ли я воспринимаю картину. Я выразила свое восхищение, открыв глаза и рот пошире.
Он, похоже, почти завершил свой обход.
Однако «Наказание Марсия» без комментария оставить не смог:
– Когда сдираешь с животного шкуру, начинаешь кое-что понимать в плоти.
Перед «Пьетой» он уселся и просидел довольно долго. Сначала я не понимала, что делать: просто ждать или самой заговорить с ним и высказать свое мнение о картине. Он сделал мне знак подойти поближе. Старик, разумеется, знал, что его слова насчет меха произвели на меня впечатление, ибо, вместо того чтобы говорить, как все всегда говорят, о воздетой руке Марии Магдалины перед статуей ветхозаветного пророка[28 - Имеется в виду статуя Моисея.] – руке, на которую он неотрывно смотрел, – он снова взялся за свое:
Другие электронные книги автора Джон Бёрджер
Другие аудиокниги автора Джон Бёрджер
Поле




 0
0