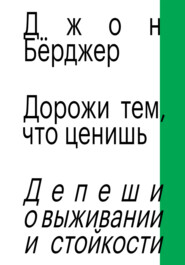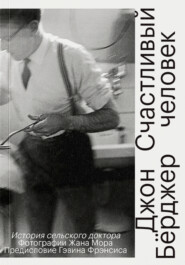По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Портреты (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Там тихо и светло – похоже на интерьер космической станции в фильмах Кубрика или Тарковского. Посетителей просят приклеивать к лацканам пиджаков входные бирки. Мы бродили по залам. Три форели Курбе 1873 года.[34 - Имеется в виду картина «Натюрморт с тремя форелями из реки Лу».] Моне – ледоход на реке, 1882 год.[35 - Имеется в виду картина «Ледоход на Сене» или «Вскрытие льда» («La Dеb?cle»). Упоминается также в статье о К. Моне.] Ранняя кубистическая работа Брака – дома в Эстаке, 1908 год. «Любовная песня в новолуние» – Пауль Клее, 1939 год. Работа Ротко 1963 года.
Сколько смелости и сил требовала от художников борьба за право писать иначе, по-своему! А сегодня их полотна – итоги этой борьбы – мирно соседствуют с самыми консервативными картинами. И всех объединяет приятный аромат кофе, доносящийся из расположенного за музейным магазином кафе.
За что же боролись художники? Проще всего будет сказать – за язык живописи. Никакая живопись невозможна без определенного языка, но после Французской революции, с рождением модернизма, любой живописный язык перестал быть безусловным. Бои велись между охранителями и новаторами. Охранители принадлежали к институциям, за которыми стоял правящий класс или элита, желавшие, чтобы изображение внешней стороны вещей поддерживало идеологические основания власти.
Новаторы были мятежниками. Здесь надо помнить о двух аксиомах: бунтарство всегда по определению не подчиняется грамматике; художник первым распознает ложь в языке. Я допивал вторую чашку кофе и все думал о картине Гольбейна за сотню километров отсюда.
Ипполит в «Идиоте» продолжает: «Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, – в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо – такое существо, которое одно стоило всей природы…»
Может быть, картина Гольбейна оттого так поразила Достоевского, что она представляет собой прямую противоположность иконе? Икона помогает искупить грех с помощью молитвы, которую она побуждает произносить с закрытыми глазами. Возможно ли, что тот, кто отважился бы не закрыть глаза, обрел бы иной путь к спасению?
Я обнаружил, что стою перед пейзажем, выполненным в начале века художницей Каролиной Мюллер: «Альпийские шале в Сульварде близ Изенфлюшуля». Всякий раз, когда пишешь горы, возникает одна и та же трудность. Наши технические возможности рядом с ними кажутся карликовыми (как и мы сами), и гора получается неживой: она просто высится, как надгробный памятник (серый, белый) далекого предка. Из европейских живописцев, сумевших преодолеть эту трудность, я могу назвать только Тёрнера, Дэвида Бомберга и современного берлинского художника Вернера Шмидта.
На довольно скучном полотне Каролины Мюллер меня вдруг заставили затаить дыхание три маленькие яблони. Вот их она увидела. Это ощущается даже спустя 80 лет. Только в этом маленьком фрагменте картины язык живописи, который использовала художница, потерял свою заученную правильность, автоматизм и сделался живым.
Всякий язык в процессе обучения делается более или менее закрытым, теряет свою означивающую силу. В таком виде он легко усваивается развитым умом, но при этом уже не отражает здешности вещей и событий.
«Слова, слова… Ни искреннего звука!»[36 - У. Шекспир. Троил и Крессида. Акт 5, сц. 3. Перевод А. М. Федорова.]
Без языка живописи невозможно воплотить то, что мы видим. А с ним можно перестать видеть. Эта странная диалектика перенесения на холст внешней стороны вещей действует с тех пор, как появилось искусство.
Мы входим в огромный зал, где висит полсотни полотен Фердинанда Ходлера. Труд всей жизни. Но только в одной картине он забыл о своем мастерстве – и позволил нам забыть о том, что мы рассматриваем виртуозно наложенные на холст краски. Это сравнительно небольшая работа – портрет подруги художника, Огюстины Дюпен. Она запечатлена умирающей в своей постели. Огюстину он увидел. Язык, которым он пользовался, вдруг открылся.
Был ли тот утонувший в Рейне еврей увиден в том же смысле 25-летним Гольбейном? И что значит – быть увиденным?
Я вернулся к картинам, которые уже посмотрел. На полотне Курбе изображены три рыбины, подвешенные на суку. Странный свет пронизывает их мясистые формы и влажную чешую. «Блеском» это не назовешь. Свет не отражается от поверхности, но проходит сквозь нее. Подобный, хотя и не совсем такой (более зернистый), свет проходит и сквозь камни на берегу реки. Энергия света и есть подлинный сюжет картины.
В работе Моне лед на реке вот-вот тронется. Между обломками льдин видна вода. В этой воде (разумеется, не на ломаном непрозрачном льду) Моне видел отражения тополей, стоявших на противоположном берегу. И эти отражения, проглядывающие из-подо льда, и есть самая суть картины.
На картине Брака кубы и треугольники домов и V-образные формы деревьев в Эстаке не наложены на то, что видел глаз художника (как будет позднее с маньеристами от кубизма), но как бы вытащены из увиденного, выдвинуты вперед, спасены из того пространства, где их характерный облик начал возникать, но еще не проявился во всех подробностях.
У Ротко то же движение еще очевидней. Главной задачей всего, что он делал, было свести материю видимого к тончайшей пленке, сквозь которую прорывается пламя того, что эта пленка скрывает. За серым прямоугольником лежит перламутр, за другим – узким, рыжевато-коричневым – йод моря. И то и другое принадлежит океану.
Ротко был религиозным художником, осознававшим свою религиозность, а вот Курбе – нет. Если рассматривать поверхность вещей как некую границу, то можно сказать, что художники ищут способа ее перейти – перейти, двигаясь из глубины видимого. И это не потому, что все художники – платоники, но потому, что они пристально всматриваются в вещи.
Создание образа начинается с того, что художник подвергает анализу внешнюю сторону вещи и делает пометки. Каждый художник открывает для себя, что рисование, если это не просто забава, – процесс амбивалентный. Рисовать – значит не только изучать и запечатлевать, но также и воспринимать. Когда интенсивность взгляда достигает определенной степени, художник начинает осознавать, что столь же мощная энергия направлена на него самого сквозь поверхность того, что он изучает. Все творчество Джакометти – демонстрация данного тезиса.
Встреча этих двух энергий, их диалог не принимает форму вопросов и ответов. Это ожесточенный и невнятный диалог. Чтобы выдержать его, нужна вера. Это как прокапывать лаз во тьме, подкапываться под очевидное. Великие образы возникают, когда два туннеля встречаются и идеально совпадают. Иногда – если диалог происходит быстро, почти мгновенно, – это как поймать брошенный предмет.
У меня нет объяснения этому ощущению. Просто я уверен, что очень немногие художники станут его отрицать. Это профессиональный секрет.
Акт живописи, когда ее язык не автоматизирован, – это ответ на энергию, которая ощущается как идущая из-за внешней стороны вещей. Что представляет собой эта энергия? Можно ли ее назвать волей видимого к существованию? Именно о такой взаимности писал Майстер Экхарт: «Глаз, коим я вижу Господа, – тот же самый, коим Он видит меня». Симметрия энергий, а не теология дает нам здесь ключ.
Всякий подлинный акт живописи – это результат подчинения подобной воле, так что запечатленное на полотне видимое не просто интерпретируется: ему позволяется активно занять свое место в сообществе написанного. Всякое событие, которое написано по законам подлинной живописи – так что живописный язык не автоматизируется, – входит в сообщество всего, что написано ранее. Картофелины на блюде присоединяются к сообществу любимой женщины, горы, человека на кресте. Это, и только это и есть спасение, которое может предложить живопись. Эта тайна и есть самое близкое к катарсису, что живопись способна породить.
14. Караваджо
(1571–1610)
Каждый рано или поздно обретает покой. Но все возвращаются в мир, и первый дар этого мира – пространство; потом следует второй дар – плоскость стола и кровать. Те, кому повезет, будут спать на ней не в одиночестве.
Даже после великого расставания мы вернемся к тебе на закате дня, спустимся со свободных небес, и ты узнаешь нас по нашей усталости и по тяжести наших голов на твоих телах, в которых мы некогда так нуждались.
Я узнаю тебя, находимся ли мы в одном и том же месте или отделены друг от друга, – я узнаю тебя дважды. Ты в двух лицах.
Когда ты отсутствуешь, ты тем не менее со мной. Твое присутствие чувствуется по-разному, оно состоит из бесконечного числа образов, переходов, значений, известных вещей, примет, но все же целое отмечено твоим отсутствием, в этом смысле оно расплывается. Словно твоя личность стала местом, твои контуры – горизонтами. Я живу в тебе, как живут в стране. Ты повсюду. Но в этой стране мне не встретить тебя лицом к лицу.
Partir est mourir un peu.[37 - Расставание – маленькая смерть (фр.).] Я услышал эти слова в ранней молодости и сразу почувствовал, что в них заключена истина, которую я уже знал. Я вспоминаю их сейчас, поскольку жизнь в тебе, как в стране, единственной стране в мире, где я никогда не столкнусь с тобой лицом к лицу, – это все равно что жить с памятью об умершем. Чего я не знал в молодости, так это того, что от прошлого нельзя избавиться: оно постепенно нарастает вокруг человека, как плацента умирающего.
В стране, которая есть ты, я знаю твои жесты, интонации, каждую деталь твоего тела. Там ты ничуть не менее реальна, но не так свободна, как здесь.
Главная перемена, связанная с тем, что там перед моим взором ты становишься непредсказуемой. Я не знаю, что ты сделаешь в следующую минуту. Я следую за тобой. Ты действуешь. И, глядя на то, что ты делаешь, я снова влюбляюсь.
Однажды ночью в постели ты спросила, кто мой любимый художник. Я чуть замешкался, спешно подыскивая самый бесхитростный, самый искренний ответ. Караваджо. Меня самого удивило, что я назвал именно его. Есть художники более благородные, есть более значительные. Есть художники, которыми я куда больше восхищаюсь, и те, кто заслуживает большего восхищения. Но похоже, нет никого – ведь я ответил почти не раздумывая, – кто был бы мне ближе.
Всего несколько полотен, созданных мною за всю мою несравнимо более скромную жизнь в искусстве, мне хотелось бы увидеть снова. Они написаны в конце 1940-х годов на улицах Ливорно. Город был тогда очень беден, весь в шрамах недавней войны, и там я впервые стал немного понимать изобретательность бедняков. Там я открыл для себя, что не хочу иметь никакого дела с властями предержащими. И отвращение к ним сохранилось у меня на всю жизнь.
И моя привязанность к Караваджо возникла, надо думать, тогда же, в Ливорно. Он был первым художником, который изображал жизнь такой, какой ее чувствует popolaccio – простой люд, низы, отбросы общества. Нигде в европейских языках не сыщешь названия, которое не оскорбляло бы городскую бедноту или не относилось бы к ней покровительственно. Такова природа власти.
Вслед за Караваджо многие художники из века в век, вплоть до наших дней, изображали ту же среду: Брауэр, ван Остаде, Хогарт, Гойя, Жерико, Гуттузо. Однако все они – как бы ни были велики – создавали жанровую живопись, которая призвана показывать других – тех, кому повезло в жизни меньше, чем нам, или тех, чье существование протекает в более опасных, чем у нас, условиях. С Караваджо все иначе: здесь речь идет не о представлении каких-то сцен, а о самом видении. Он не запечатлевал бедняков глазами других, его зрение было таким же, как у самих бедняков.
В книгах по истории искусства Караваджо числится среди великих новаторов: его эффектная манера, кьяроскуро, в будущем послужила уроком для Рембрандта и других мастеров светотени. Разумеется, с точки зрения истории живописи его способ видения мира можно считать очередной ступенью в эволюции европейского искусства. С этой точки зрения, не тот, так другой «Караваджо» – практически неизбежное связующее звено между высоким искусством Контрреформации и «домашней» живописью нарождающейся голландской буржуазии, и значение этого звена – новый вид пространства, определяемый одновременно и тьмой, и светом. (Для Рима и Амстердама вечное проклятие стало делом обыденным.)
Однако для подлинного Караваджо – для мальчика по имени Микеланджело, родившегося в деревне под Бергамо, совсем недалеко от родных мест моих друзей, итальянских лесорубов, – свет и тень, которые он видел в мечтах и наяву, имели особенное, личное значение, обусловленное его желаниями и инстинктом выживания. Именно поэтому, а не по логике истории искусств его живопись оказалась связана с миром изгоев.
Прием кьяроскуро позволил ему избавиться от дневного света. Он чувствовал, что в тени можно скрыться так же, как под кровлей, в четырех стенах. Что бы и где бы он ни писал, в сущности, он всегда изображал интерьеры. Иногда – как, например, в «Бегстве в Египет» или на картине с его любимым Иоанном Крестителем – Караваджо приходилось включать в композицию пейзажный фон. Но эти пейзажи – нечто вроде ковров или драпировок, подвешенных на веревке во внутреннем дворике. Он чувствовал себя как дома – нет, как дома он не чувствовал себя нигде, – он чувствовал себя сравнительно комфортно только внутри.
Его тьма пахнет свечами, перезревшими дынями, мокрым бельем, которое повесят сушиться только назавтра. Это тьма лестничных колодцев, игорных закоулков, дешевых съемных комнат, неожиданных встреч. И обетование – не в том, что? вспыхнет, осветив тьму, но в самой тьме. Убежище, ею предлагаемое, всегда относительно, поскольку кьяроскуро обнажает насилие, муку, тоску, смерть, но обнажает по крайней мере исподтишка. Наряду с дневным светом из его живописи оказались изгнаны дистанция и одиночество – и того и другого боится мир «дна».
Живущие в страхе и в тесноте заболевают боязнью открытых пространств, и сама эта фобия превращает удручающий недостаток свободного места и личного пространства в нечто привычное и оттого надежное. И Караваджо тоже были знакомы эти страхи.
На картине «Призвание апостола Матфея» изображены пятеро мужчин, привычно рассевшихся вокруг стола, рассказывающих друг другу байки и сплетни, хвастающихся тем, что когда-нибудь совершат, подсчитывающих деньги. В комнате полумрак. Вдруг распахивается дверь. Двое вошедших – все еще часть резких звуков и яркого света, которые ворвались в комнату. (Беренсон писал, что Христос – один из вошедших – является как инспектор полиции, намеренный арестовать игроков.)
Двое из товарищей Матфея не поднимают головы. Двое других, помоложе, глядят на незнакомцев со смесью любопытства и высокомерия. Что он говорит, куда он зовет? Это же безумие! (Говорит только один, второй помалкивает: кто он, кто сопровождает, защищает этого худосочного оратора?) А Матфей, сборщик податей, человек с совестью заведомо более нечистой, чем у остальных, и потому самый неблагоразумный из всех, показывает на себя и удивленно спрашивает: «Ты это мне? Мне? Я должен идти за тобой?»
Сколько тысяч решений покинуть, оставить нечто в прошлом символизирует эта рука Христа! Она протянута к тому, кто должен принять решение, но ухватиться за нее нельзя, она словно призрачная. Рука указывает путь, но не обещает опоры. Матфей встанет и последует за этим худым незнакомцем вон из комнаты, пройдет по узким улочкам, покинет знакомую часть города. Он напишет свое Евангелие, будет проповедовать в Эфиопии, на южных берегах Каспия и в Персии. Скорее всего, смерть он примет от руки палача.
Драматичная сцена призвания и принятия решения происходит в комнате с окном, за которым лежит внешний мир. По традиции окно в живописи трактуется либо как источник света, либо как рама, заключающая в себе природу или нравоучительный эпизод. Но с этим окном все иначе. Сквозь него не поступает свет. Оно непрозрачно. Мы ничего не видим. И слава богу, что не видим: то, что находится за окном, должно быть, страшно. Это окно ничего хорошего не сулит.
Караваджо был художником-еретиком: его работы отвергались и осуждались церковью из-за их содержания, хотя некоторые церковники его защищали. Ересь Караваджо заключалась в придании религиозным сюжетам формы народной трагедии. То, что для картины «Смерть Богоматери» он, как все считали, взял в качестве модели утонувшую проститутку, – это еще полдела. Куда важнее было то, что умершая положена так, как только бедняки кладут своих мертвецов для прощания, и оплакивают ее так, как оплакивают бедняки. До сих пор так оплакивают.
«В Маринелле или в Селинунте нет кладбища, поэтому когда кто-нибудь умирает, мы относим его тело на станцию и отправляем в Кастельветрано. Потом мы, рыбаки, собираемся вместе. Выражаем соболезнование семье, которую постигло несчастье. Говорим: „Он был хороший человек. Это большая потеря, ему бы еще жить и жить“. А потом возвращаемся в порт, но не перестаем говорить о покойном и целых три дня не выходим в море. А близкие друзья и родственники носят еду семье покойного не меньше недели».
Другие художники-маньеристы, работавшие в то же время, что и Караваджо, изображали многолюдные динамичные сцены, но в совершенно ином духе. Толпу они воспринимали как знак несчастья, как пожар или наводнение, и в их работах господствовало настроение земного проклятия. Зритель со своей привилегированной позиции смотрел представление космического театра. Тогда как перенаселенные картины Караваджо попросту показывают отдельных людей, живущих бок о бок, сосуществующих в ограниченном пространстве.
Мир «дна» по-своему театрален, но не имеет ничего общего с космическими эффектами, которыми забавляется правящий класс. В театре повседневности все располагается по соседству и все наполнено смыслом. То, во что сейчас играют понарошку, в следующий момент разыгрывается взаправду. Нет охраняющего пространства и нет иерархии интересов. Караваджо постоянно ругали именно за это – за отсутствие иерархии на его картинах, за их всеобъемлющий драматизм, за отсутствие надлежащей дистанции.
Мир «дна» показывает себя, скрываясь. Таков парадокс его социальной атмосферы, такова одна из глубочайших его потребностей. В мире «дна» есть свои герои и злодеи, свои понятия о чести и бесчестье – все это отражается в легендах, историях, повседневных сценах. Последние часто оказываются чем-то вроде репетиций настоящих подвигов. Это сцены, создаваемые под влиянием минуты, в которых люди играют самих себя, доведенных до крайности. Если бы не было таких «представлений», то альтернативный кодекс чести мира «дна» был бы забыт, вернее сказать – общество не замедлило бы покрыть его позором.
Сколько смелости и сил требовала от художников борьба за право писать иначе, по-своему! А сегодня их полотна – итоги этой борьбы – мирно соседствуют с самыми консервативными картинами. И всех объединяет приятный аромат кофе, доносящийся из расположенного за музейным магазином кафе.
За что же боролись художники? Проще всего будет сказать – за язык живописи. Никакая живопись невозможна без определенного языка, но после Французской революции, с рождением модернизма, любой живописный язык перестал быть безусловным. Бои велись между охранителями и новаторами. Охранители принадлежали к институциям, за которыми стоял правящий класс или элита, желавшие, чтобы изображение внешней стороны вещей поддерживало идеологические основания власти.
Новаторы были мятежниками. Здесь надо помнить о двух аксиомах: бунтарство всегда по определению не подчиняется грамматике; художник первым распознает ложь в языке. Я допивал вторую чашку кофе и все думал о картине Гольбейна за сотню километров отсюда.
Ипполит в «Идиоте» продолжает: «Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, – в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо – такое существо, которое одно стоило всей природы…»
Может быть, картина Гольбейна оттого так поразила Достоевского, что она представляет собой прямую противоположность иконе? Икона помогает искупить грех с помощью молитвы, которую она побуждает произносить с закрытыми глазами. Возможно ли, что тот, кто отважился бы не закрыть глаза, обрел бы иной путь к спасению?
Я обнаружил, что стою перед пейзажем, выполненным в начале века художницей Каролиной Мюллер: «Альпийские шале в Сульварде близ Изенфлюшуля». Всякий раз, когда пишешь горы, возникает одна и та же трудность. Наши технические возможности рядом с ними кажутся карликовыми (как и мы сами), и гора получается неживой: она просто высится, как надгробный памятник (серый, белый) далекого предка. Из европейских живописцев, сумевших преодолеть эту трудность, я могу назвать только Тёрнера, Дэвида Бомберга и современного берлинского художника Вернера Шмидта.
На довольно скучном полотне Каролины Мюллер меня вдруг заставили затаить дыхание три маленькие яблони. Вот их она увидела. Это ощущается даже спустя 80 лет. Только в этом маленьком фрагменте картины язык живописи, который использовала художница, потерял свою заученную правильность, автоматизм и сделался живым.
Всякий язык в процессе обучения делается более или менее закрытым, теряет свою означивающую силу. В таком виде он легко усваивается развитым умом, но при этом уже не отражает здешности вещей и событий.
«Слова, слова… Ни искреннего звука!»[36 - У. Шекспир. Троил и Крессида. Акт 5, сц. 3. Перевод А. М. Федорова.]
Без языка живописи невозможно воплотить то, что мы видим. А с ним можно перестать видеть. Эта странная диалектика перенесения на холст внешней стороны вещей действует с тех пор, как появилось искусство.
Мы входим в огромный зал, где висит полсотни полотен Фердинанда Ходлера. Труд всей жизни. Но только в одной картине он забыл о своем мастерстве – и позволил нам забыть о том, что мы рассматриваем виртуозно наложенные на холст краски. Это сравнительно небольшая работа – портрет подруги художника, Огюстины Дюпен. Она запечатлена умирающей в своей постели. Огюстину он увидел. Язык, которым он пользовался, вдруг открылся.
Был ли тот утонувший в Рейне еврей увиден в том же смысле 25-летним Гольбейном? И что значит – быть увиденным?
Я вернулся к картинам, которые уже посмотрел. На полотне Курбе изображены три рыбины, подвешенные на суку. Странный свет пронизывает их мясистые формы и влажную чешую. «Блеском» это не назовешь. Свет не отражается от поверхности, но проходит сквозь нее. Подобный, хотя и не совсем такой (более зернистый), свет проходит и сквозь камни на берегу реки. Энергия света и есть подлинный сюжет картины.
В работе Моне лед на реке вот-вот тронется. Между обломками льдин видна вода. В этой воде (разумеется, не на ломаном непрозрачном льду) Моне видел отражения тополей, стоявших на противоположном берегу. И эти отражения, проглядывающие из-подо льда, и есть самая суть картины.
На картине Брака кубы и треугольники домов и V-образные формы деревьев в Эстаке не наложены на то, что видел глаз художника (как будет позднее с маньеристами от кубизма), но как бы вытащены из увиденного, выдвинуты вперед, спасены из того пространства, где их характерный облик начал возникать, но еще не проявился во всех подробностях.
У Ротко то же движение еще очевидней. Главной задачей всего, что он делал, было свести материю видимого к тончайшей пленке, сквозь которую прорывается пламя того, что эта пленка скрывает. За серым прямоугольником лежит перламутр, за другим – узким, рыжевато-коричневым – йод моря. И то и другое принадлежит океану.
Ротко был религиозным художником, осознававшим свою религиозность, а вот Курбе – нет. Если рассматривать поверхность вещей как некую границу, то можно сказать, что художники ищут способа ее перейти – перейти, двигаясь из глубины видимого. И это не потому, что все художники – платоники, но потому, что они пристально всматриваются в вещи.
Создание образа начинается с того, что художник подвергает анализу внешнюю сторону вещи и делает пометки. Каждый художник открывает для себя, что рисование, если это не просто забава, – процесс амбивалентный. Рисовать – значит не только изучать и запечатлевать, но также и воспринимать. Когда интенсивность взгляда достигает определенной степени, художник начинает осознавать, что столь же мощная энергия направлена на него самого сквозь поверхность того, что он изучает. Все творчество Джакометти – демонстрация данного тезиса.
Встреча этих двух энергий, их диалог не принимает форму вопросов и ответов. Это ожесточенный и невнятный диалог. Чтобы выдержать его, нужна вера. Это как прокапывать лаз во тьме, подкапываться под очевидное. Великие образы возникают, когда два туннеля встречаются и идеально совпадают. Иногда – если диалог происходит быстро, почти мгновенно, – это как поймать брошенный предмет.
У меня нет объяснения этому ощущению. Просто я уверен, что очень немногие художники станут его отрицать. Это профессиональный секрет.
Акт живописи, когда ее язык не автоматизирован, – это ответ на энергию, которая ощущается как идущая из-за внешней стороны вещей. Что представляет собой эта энергия? Можно ли ее назвать волей видимого к существованию? Именно о такой взаимности писал Майстер Экхарт: «Глаз, коим я вижу Господа, – тот же самый, коим Он видит меня». Симметрия энергий, а не теология дает нам здесь ключ.
Всякий подлинный акт живописи – это результат подчинения подобной воле, так что запечатленное на полотне видимое не просто интерпретируется: ему позволяется активно занять свое место в сообществе написанного. Всякое событие, которое написано по законам подлинной живописи – так что живописный язык не автоматизируется, – входит в сообщество всего, что написано ранее. Картофелины на блюде присоединяются к сообществу любимой женщины, горы, человека на кресте. Это, и только это и есть спасение, которое может предложить живопись. Эта тайна и есть самое близкое к катарсису, что живопись способна породить.
14. Караваджо
(1571–1610)
Каждый рано или поздно обретает покой. Но все возвращаются в мир, и первый дар этого мира – пространство; потом следует второй дар – плоскость стола и кровать. Те, кому повезет, будут спать на ней не в одиночестве.
Даже после великого расставания мы вернемся к тебе на закате дня, спустимся со свободных небес, и ты узнаешь нас по нашей усталости и по тяжести наших голов на твоих телах, в которых мы некогда так нуждались.
Я узнаю тебя, находимся ли мы в одном и том же месте или отделены друг от друга, – я узнаю тебя дважды. Ты в двух лицах.
Когда ты отсутствуешь, ты тем не менее со мной. Твое присутствие чувствуется по-разному, оно состоит из бесконечного числа образов, переходов, значений, известных вещей, примет, но все же целое отмечено твоим отсутствием, в этом смысле оно расплывается. Словно твоя личность стала местом, твои контуры – горизонтами. Я живу в тебе, как живут в стране. Ты повсюду. Но в этой стране мне не встретить тебя лицом к лицу.
Partir est mourir un peu.[37 - Расставание – маленькая смерть (фр.).] Я услышал эти слова в ранней молодости и сразу почувствовал, что в них заключена истина, которую я уже знал. Я вспоминаю их сейчас, поскольку жизнь в тебе, как в стране, единственной стране в мире, где я никогда не столкнусь с тобой лицом к лицу, – это все равно что жить с памятью об умершем. Чего я не знал в молодости, так это того, что от прошлого нельзя избавиться: оно постепенно нарастает вокруг человека, как плацента умирающего.
В стране, которая есть ты, я знаю твои жесты, интонации, каждую деталь твоего тела. Там ты ничуть не менее реальна, но не так свободна, как здесь.
Главная перемена, связанная с тем, что там перед моим взором ты становишься непредсказуемой. Я не знаю, что ты сделаешь в следующую минуту. Я следую за тобой. Ты действуешь. И, глядя на то, что ты делаешь, я снова влюбляюсь.
Однажды ночью в постели ты спросила, кто мой любимый художник. Я чуть замешкался, спешно подыскивая самый бесхитростный, самый искренний ответ. Караваджо. Меня самого удивило, что я назвал именно его. Есть художники более благородные, есть более значительные. Есть художники, которыми я куда больше восхищаюсь, и те, кто заслуживает большего восхищения. Но похоже, нет никого – ведь я ответил почти не раздумывая, – кто был бы мне ближе.
Всего несколько полотен, созданных мною за всю мою несравнимо более скромную жизнь в искусстве, мне хотелось бы увидеть снова. Они написаны в конце 1940-х годов на улицах Ливорно. Город был тогда очень беден, весь в шрамах недавней войны, и там я впервые стал немного понимать изобретательность бедняков. Там я открыл для себя, что не хочу иметь никакого дела с властями предержащими. И отвращение к ним сохранилось у меня на всю жизнь.
И моя привязанность к Караваджо возникла, надо думать, тогда же, в Ливорно. Он был первым художником, который изображал жизнь такой, какой ее чувствует popolaccio – простой люд, низы, отбросы общества. Нигде в европейских языках не сыщешь названия, которое не оскорбляло бы городскую бедноту или не относилось бы к ней покровительственно. Такова природа власти.
Вслед за Караваджо многие художники из века в век, вплоть до наших дней, изображали ту же среду: Брауэр, ван Остаде, Хогарт, Гойя, Жерико, Гуттузо. Однако все они – как бы ни были велики – создавали жанровую живопись, которая призвана показывать других – тех, кому повезло в жизни меньше, чем нам, или тех, чье существование протекает в более опасных, чем у нас, условиях. С Караваджо все иначе: здесь речь идет не о представлении каких-то сцен, а о самом видении. Он не запечатлевал бедняков глазами других, его зрение было таким же, как у самих бедняков.
В книгах по истории искусства Караваджо числится среди великих новаторов: его эффектная манера, кьяроскуро, в будущем послужила уроком для Рембрандта и других мастеров светотени. Разумеется, с точки зрения истории живописи его способ видения мира можно считать очередной ступенью в эволюции европейского искусства. С этой точки зрения, не тот, так другой «Караваджо» – практически неизбежное связующее звено между высоким искусством Контрреформации и «домашней» живописью нарождающейся голландской буржуазии, и значение этого звена – новый вид пространства, определяемый одновременно и тьмой, и светом. (Для Рима и Амстердама вечное проклятие стало делом обыденным.)
Однако для подлинного Караваджо – для мальчика по имени Микеланджело, родившегося в деревне под Бергамо, совсем недалеко от родных мест моих друзей, итальянских лесорубов, – свет и тень, которые он видел в мечтах и наяву, имели особенное, личное значение, обусловленное его желаниями и инстинктом выживания. Именно поэтому, а не по логике истории искусств его живопись оказалась связана с миром изгоев.
Прием кьяроскуро позволил ему избавиться от дневного света. Он чувствовал, что в тени можно скрыться так же, как под кровлей, в четырех стенах. Что бы и где бы он ни писал, в сущности, он всегда изображал интерьеры. Иногда – как, например, в «Бегстве в Египет» или на картине с его любимым Иоанном Крестителем – Караваджо приходилось включать в композицию пейзажный фон. Но эти пейзажи – нечто вроде ковров или драпировок, подвешенных на веревке во внутреннем дворике. Он чувствовал себя как дома – нет, как дома он не чувствовал себя нигде, – он чувствовал себя сравнительно комфортно только внутри.
Его тьма пахнет свечами, перезревшими дынями, мокрым бельем, которое повесят сушиться только назавтра. Это тьма лестничных колодцев, игорных закоулков, дешевых съемных комнат, неожиданных встреч. И обетование – не в том, что? вспыхнет, осветив тьму, но в самой тьме. Убежище, ею предлагаемое, всегда относительно, поскольку кьяроскуро обнажает насилие, муку, тоску, смерть, но обнажает по крайней мере исподтишка. Наряду с дневным светом из его живописи оказались изгнаны дистанция и одиночество – и того и другого боится мир «дна».
Живущие в страхе и в тесноте заболевают боязнью открытых пространств, и сама эта фобия превращает удручающий недостаток свободного места и личного пространства в нечто привычное и оттого надежное. И Караваджо тоже были знакомы эти страхи.
На картине «Призвание апостола Матфея» изображены пятеро мужчин, привычно рассевшихся вокруг стола, рассказывающих друг другу байки и сплетни, хвастающихся тем, что когда-нибудь совершат, подсчитывающих деньги. В комнате полумрак. Вдруг распахивается дверь. Двое вошедших – все еще часть резких звуков и яркого света, которые ворвались в комнату. (Беренсон писал, что Христос – один из вошедших – является как инспектор полиции, намеренный арестовать игроков.)
Двое из товарищей Матфея не поднимают головы. Двое других, помоложе, глядят на незнакомцев со смесью любопытства и высокомерия. Что он говорит, куда он зовет? Это же безумие! (Говорит только один, второй помалкивает: кто он, кто сопровождает, защищает этого худосочного оратора?) А Матфей, сборщик податей, человек с совестью заведомо более нечистой, чем у остальных, и потому самый неблагоразумный из всех, показывает на себя и удивленно спрашивает: «Ты это мне? Мне? Я должен идти за тобой?»
Сколько тысяч решений покинуть, оставить нечто в прошлом символизирует эта рука Христа! Она протянута к тому, кто должен принять решение, но ухватиться за нее нельзя, она словно призрачная. Рука указывает путь, но не обещает опоры. Матфей встанет и последует за этим худым незнакомцем вон из комнаты, пройдет по узким улочкам, покинет знакомую часть города. Он напишет свое Евангелие, будет проповедовать в Эфиопии, на южных берегах Каспия и в Персии. Скорее всего, смерть он примет от руки палача.
Драматичная сцена призвания и принятия решения происходит в комнате с окном, за которым лежит внешний мир. По традиции окно в живописи трактуется либо как источник света, либо как рама, заключающая в себе природу или нравоучительный эпизод. Но с этим окном все иначе. Сквозь него не поступает свет. Оно непрозрачно. Мы ничего не видим. И слава богу, что не видим: то, что находится за окном, должно быть, страшно. Это окно ничего хорошего не сулит.
Караваджо был художником-еретиком: его работы отвергались и осуждались церковью из-за их содержания, хотя некоторые церковники его защищали. Ересь Караваджо заключалась в придании религиозным сюжетам формы народной трагедии. То, что для картины «Смерть Богоматери» он, как все считали, взял в качестве модели утонувшую проститутку, – это еще полдела. Куда важнее было то, что умершая положена так, как только бедняки кладут своих мертвецов для прощания, и оплакивают ее так, как оплакивают бедняки. До сих пор так оплакивают.
«В Маринелле или в Селинунте нет кладбища, поэтому когда кто-нибудь умирает, мы относим его тело на станцию и отправляем в Кастельветрано. Потом мы, рыбаки, собираемся вместе. Выражаем соболезнование семье, которую постигло несчастье. Говорим: „Он был хороший человек. Это большая потеря, ему бы еще жить и жить“. А потом возвращаемся в порт, но не перестаем говорить о покойном и целых три дня не выходим в море. А близкие друзья и родственники носят еду семье покойного не меньше недели».
Другие художники-маньеристы, работавшие в то же время, что и Караваджо, изображали многолюдные динамичные сцены, но в совершенно ином духе. Толпу они воспринимали как знак несчастья, как пожар или наводнение, и в их работах господствовало настроение земного проклятия. Зритель со своей привилегированной позиции смотрел представление космического театра. Тогда как перенаселенные картины Караваджо попросту показывают отдельных людей, живущих бок о бок, сосуществующих в ограниченном пространстве.
Мир «дна» по-своему театрален, но не имеет ничего общего с космическими эффектами, которыми забавляется правящий класс. В театре повседневности все располагается по соседству и все наполнено смыслом. То, во что сейчас играют понарошку, в следующий момент разыгрывается взаправду. Нет охраняющего пространства и нет иерархии интересов. Караваджо постоянно ругали именно за это – за отсутствие иерархии на его картинах, за их всеобъемлющий драматизм, за отсутствие надлежащей дистанции.
Мир «дна» показывает себя, скрываясь. Таков парадокс его социальной атмосферы, такова одна из глубочайших его потребностей. В мире «дна» есть свои герои и злодеи, свои понятия о чести и бесчестье – все это отражается в легендах, историях, повседневных сценах. Последние часто оказываются чем-то вроде репетиций настоящих подвигов. Это сцены, создаваемые под влиянием минуты, в которых люди играют самих себя, доведенных до крайности. Если бы не было таких «представлений», то альтернативный кодекс чести мира «дна» был бы забыт, вернее сказать – общество не замедлило бы покрыть его позором.
Другие электронные книги автора Джон Бёрджер
Другие аудиокниги автора Джон Бёрджер
Поле




 0
0