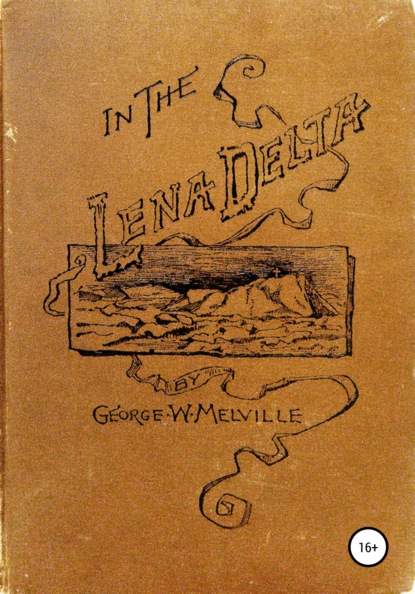По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В дельте Лены
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Несмотря на то, что я хотел держать курс против течения, доводы моего спутника и указанное Афоней направление всё же возобладали, и я попытался идти вдоль того, что я считал юго-западным побережьем главного течения реки. Но опять помешали мели, заставив нас повернуть на восток, в результате мы совсем немного продвинулись на юг. Наконец, оказавшись в бухте, где мы уже были накануне, я увидел два высоких мыса на юге и, полагая, что река проходит между ними, весь день пытался добраться до них. Погода была сырая и ветреная, волнение интенсивное, и куда бы мы не направлялись, через милю-другую натыкались на мель. В два часа дня я решил вернуться в Малый Буор-Хая. Ветер тем временем несколько уменьшился и стал попутным, но глубина была недостаточной, и волны, перехлёстывая через косы и отмели, окатывали нас и замерзали на дне лодки. Люди были измотаны бесконечной греблей, вычерпыванием воды и работой с парусами. Бартлетт на носу лодки, всё время промеряющий дно и кричавший мне показания глубины, промок до нитки, одежда на нём замёрзла и стояла колом, шест от палатки, который он использовал в качестве футштока, представлял собой сплошной кусок льда, а руки его распухли и потрескались так, что на них было страшно смотреть. Тепло и сравнительный комфорт предыдущей ночи избаловали нас и сделали нас более восприимчивыми к холоду и физической боли, поэтому жалоб теперь было больше, чем когда-либо прежде. Мои ноги ниже колен были покрыты болячками и волдырями, причинявшими мне мучительную боль. Лич, Мэнсон и Уилсон, будучи моложе Коула, выполняли команды несколько быстрее, но они были на вахте весь день и теперь были совершенно вымотаны. Я всё время был на шкотах, управляя парусом, и делал это совершенно механически, так как руки мои были лишены всякой чувствительности. Ближе к ночи вызвался порулить Даненхауэр, но ветер и снег слепили его, и он не смог держать курс в соответствии с направлением ветра, который дул ему в щеку (чтобы он лучше чувствовал ветер, я даже поднял вверх уши его шапки). После нескольких опасных перекидываний паруса на фордевинде, я приказал Личу сменить его у румпеля, и решил бросить якорь под прикрытием первой мели, которая нам попадётся, и там ждать рассвета. После пары попыток мы нашли, наконец, подходящее место и остановились в тихой глубокой воде за песчаной косой.
Но как встать на якорь без якоря или даже без какого-либо его подобия?! Единственной возможностью было бы привязать лодку к какому-нибудь столбику или дереву, и даже этого вблизи не наблюдалось. Тогда я приказал Бартлетту забить в илистый грунт три палаточных шеста с медными наконечниками, а швартовый конец привязать к их нижней части, а чтобы они не потерялись, если вдруг будут вырваны из земли, привязать к их вершинам ещё страховочный конец. Таким образом лодка всю ночь противостояла ветру, который временами дул очень сильно. Затем, опустив весла с обоих бортов, чтобы лодка держалась носом против ветра, и оставив одного человека следить за швартовыми, мы, как могли, укрылись на ночь. Сон, конечно, не шёл в голову; тем не менее, накрывшись штормовками, кусками парусины и прорезиненной тканью, которую мы обычно расстилали в палатках, мы попытались уснуть. Но из-за дождя, ветра и мокрого снега было ужасно холодно. Те из нас, кто ещё не имел обморожений, вскоре их получили, а у тех, кто имел, конечности стали ещё хуже – распухли и еле помещались в обуви и перчатках.
На рассвете ветер стих, волнение улеглось, но сами мы представляли собой унылое зрелище. На лицах каждого были написаны все страдания, которые он перенёс этой ночью; верёвки замёрзли и покрылись инеем, а всё в лодке было покрыто снегом толщиной в несколько дюймов. Холмы и отмели, которые несколько часов назад были зелёными и чёрными, теперь сверкали в своём зимнем одеянии; всё вокруг так изменилось, что мы едва могли различить вчерашние ориентиры. Тем не менее, мне казалось простым делом вернуться туда, откуда мы пришли. Мы шли по компасу на юго-восток, соответственно, надо просто идти обратно на северо-запад. Но разнообразие мнений по этому поводу было таким поразительным, что я позволил каждому высказаться по этому поводу. Оживлённое обсуждение продолжалось почти до полудня, когда берег вдруг показался мне очень знакомым, и я решил причалить и приготовить ужин из чая и рыбы. Вскоре у нас ярко пылал костёр, и пока одни готовили ужин, другие, которые особенно яростно спорили о нашем местоположении, пошли на разведку и за первым же мысом обнаружили хижины Малого Буор-Хая. Всё, что заслуживало называться дичью, давно покинуло окружающую нас местность, а с выпадением снега и замерзанием озёр те немногие утки и гуси, которые дождались, наконец, когда поднимется на крыло их запоздалое потомство, теперь летели на юг отдельными парами или небольшими стайками. Только чайки и другие падальщики парили в вышине и с вожделением и надеждой смотрели на наши страдания. Поев, мы двинулись дальше и ближе к вечеру, приблизившись к мысу, с радостью увидели наших туземцев, бегущих нам навстречу. Они помогли нам вытащить лодку на берег через за?берег, образовавшийся за последние дни. Теперь их было четверо, к ним присоединился старик, которого они представили нам, как своего вождя, называя его «староста», «командир», «тятя» и тому подобное. Он стоял пред нами с шапкой в руках, повторяя: «Здрасте, здрасте».
У меня, Лича, Мэнсона и Лаутербаха были так сильно обморожены конечности, что мы передвигались на четвереньках; Бартлетт, Коул, Ньюкомб и другие, хотя и получили серьёзные повреждения, не были такими калеками; в то время как Даненхауэр и Инигин пострадали меньше всего. Туземцы помогли нам добраться до хижины, где у них ярко горел костёр и был хороший запас рыбы и оленины. Увидев в наших руках чаек, которых подстрелил Ньюкомб, они заявили, что они не годятся в пищу, и вместо этого дали нам рыбу. Я никогда не мог понять, почему они не едят чаек, когда им так часто приходится прибегать к еде гораздо более отвратительной. Я помню, что кто-то в кают-компании «Жаннетты» утверждал, что молодые чайки продавались на рынках больших портовых городов Соединённых Штатов и считались большим деликатесом среди местного «высшего общества». И хотя я готов лично заверить, что есть вещи и более неприятные, в чём мы могли удостовериться, путешествуя в этих местах, я всё же предлагаю не есть чаек или других падальщиков, когда доступна лучшая еда.
Я добавил к ужину ещё один чайник чая, который туземцы обожали, а затем принялся рассказывать старику о нашей крайней нужде и страстном желании найти дорогу в Булун или какое-нибудь другое поселение. Он всё понял и объяснил, что после сна мы все отправимся в некую деревню. Я попытался убедить его проводить нас прямо до Булуна, но тут он был согласен со своими молодыми товарищами, что это невозможно из-за нехватки еды и одежды, и быстрого образования льда на реке. Я уже был полон решимости во второй раз применить насилие и во что бы то ни стало добиться своего. После нашей безуспешной попытки найти проход вверх по реке я уже обещал свои людям, что я вернусь, возьму в плен туземцев, захвачу их лодки и заставлю провести нас в Булун. К счастью, необходимость принуждать к послушанию отпала, потому что на следующее утро после завтрака мы отправились в путь. Прежде чем отчалить, надо было проинструктировать старика Василия, чтобы он избегал отмелей, так как наш вельбот имел гораздо большую осадку, чем их небольшие лодки. Бартлетт объяснил суть дела, показав ему насколько ватерлиния нашей лодки выше, чем их. Василий всё понял, и в доказательство этого сделал ножом отметку на своём двухлопастном весле, предварительно измерив им расстояние от земли до указанной ватерлинии на вельботе. Мы оценили такую сообразительность и с тех пор полностью доверяли нашему новому лоцману. Я снова начал разговор за то, чтобы мы поплыли сразу в Булун, но встретил такой же решительный отказ. Туземцы сказали, что тогда холод, лёд и голод неминуемо настигнут нас и нарисовали на снегу схему течения реки с указанием деревень, в которых мы должны будем останавливаться, и закончили нашу дискуссию, показав трагическую сцену смерти. Итак, взяв с Василия обещание, что когда-нибудь мы всё же доберёмся до Булуна, мы наконец отправились в путь.
Некоторое время Василий вёл нас вдоль берега в том направлении, которым мы шли накануне, продолжая двигаться на юго-восток, пока вельботу хватало глубины. Двое молодых туземцев плыли по обе стороны и несколько впереди от лодки старика, отыскивая глубокие места. Но со временем мели стали попадаться всё чаще, и Василий отказался от этого курса, повернув на восток и иногда на северо-восток. Ближе к вечеру он послал другие лодки вперёд, а сам остался с нами, подбадривая нас продвигаться вперёд, то ворча и что-то бормоча себе под нос, то увещевая, но всегда добродушно, в то же время смеясь вместе с нами над той тарабарщиной, которой мы пытались с ним объясняться. Несколько часов мы из последних сил боролись с сильным течением, и уже казалось, что мы никогда не обогнём одну длинную песчаную косу на нашем пути, как вдруг примерно в миле впереди на берегу показался яркий огонь. Это двое других туземцев, ушедшие вперёд, разожгли для нас путеводный огонь – первый с тех пор, как мы покинули Уналашку. Это придало нам столько сил, что вскоре мы уже вытаскивали нашу лодку на пустынный заснеженный берег, за которым виднелась возвышенность, изрезанная оврагами и промоинами.
Для ночлега мы поставили две палатки для себя, а туземцам соорудили укрытие из паруса от вельбота, и с наступлением темноты легли отдыхать. Снег, выпавший за последние дни, послужил нам мягким матрасом, кроме тех мест, где под ним оказались коряги, валявшиеся на берегу. Да ещё наши спальные мешки от частого намокания и замерзания почти лишились меха и так прохудились и заскорузли, что стали почти бесполезны. И всё же мы были безмерно благодарны туземцам и за эти удобства, и за их дружескую заботу и помощь. Чтобы поторопить их, я спрятал небольшой остаток (около двадцати фунтов) пеммикана и стал убеждать их, что у нас совсем не осталось провизии; в то же время попросил их поставить сети и наловить рыбы, а сам в палатках тайком раздал понемногу пеммикана. Старый Василий заглянул во все наши вёдра и котелки, и, не найдя еды, выдал нам из своих запасов несколько маленьких рыбёшек, из которых мы приготовили жидкую уху.
Ночью было очень холодно, яростно дул ветер, поднявшийся с заходом солнца. Большую часть ночи мы поддерживали большой костёр на безопасном расстоянии от палаток, но, тем не менее, дрожали от холода и к утру чувствовали себя совершенно разбитыми – более, чем когда-либо – чтобы справиться с нашими не уменьшающимися трудностями. Пинта горячей ухи и четверть фунта пеммикана каждому (включая туземцев) составили, вместе с чаем, наш завтрак. Палатки, покрытые льдом и снегом и замёрзшие до состояния дерева, были кое-как свёрнуты и уложены в лодку, и мы снова пустились в путь. Выбравшись из мелководья большого залива, мы вышли по извилинам реки в море, обогнули остров к северу от мыса Быковский и снова вошли в реку, проделав хороший дневной путь, и уже в сумерках прибыли к двум заброшенным хижинам на северной стороне главного ответвления Лены на восток, где я впоследствии дважды побывал во время моих вторых поисков Делонга. Одна из хижин была в гораздо лучшей сохранности, чем другая, но и обе вместе не могли укрыть нас всех; поэтому некоторые предпочли поставить для себя палатку. Туземцы поймали пару рыбёшек, к которым Василий нехотя добавил ещё несколько из рундука в своей лодке. Днём Ньюкомб подстрелил пару уток, и я широким жестом подарил их Василию, сказав, что, хотя нам больше нечего есть, мы всё же чувствуем себя обязанными отдать ему всё, что осталось, чтобы он быстрее доставил нас в безопасное место. Моё лукавое великодушие не прошло даром. Он снова заглянул в наши котелки и ящики и, обнаружив, что они так же пусты, пожелал вернуть уток и предложил нам две последние рыбы из своей лодки, заверив меня, что его запасы теперь так же пусты, как и наши.
Некоторые из команды получили обморожения ещё раз и так ослабли, что не вытащили лодку полностью и просто свалили снаряжение на берегу, вне досягаемости воды. Хижины, как обычно, были построены на высоком берегу, и в нашем состоянии было непросто подняться к ним. Я совершенно не чувствовал ног и потому шёл вверх, опирался на старого Василия и Хараная, которые таким же образом помогли Личу и Лаутербаху. Наш ужин, как обычно, состоял из ухи, Бартлетт разлил её поровну по мискам и расставил на земле, каждый мужчина схватил свою, нам с Бартлеттом достались две последние.
Тем временем Василий ощипал уток и сварил суп, которым щедро поделился с нами. Много, много раз после этого я видел, как Василий показывал своим соплеменникам пантомиму, в которой я презентовал ему уток, когда мы сами были полумёртвые от голода, холода и усталости. Так что история с этими двумя утками имела хорошие последствия для моего первого тяжелейшего путешествия в поисках Делонга, а когда я окончательно покидал дельту Лены, я отдал свою немногочисленную оставшуюся рыбу и скромные запасы провизии Василию и его односельчанам.
Заползая на ночь в хижины, мы обязательно снимали обувь, чтобы облегчить наши опухшие, покрытые волдырями и кровоточащие ноги. В эту ночь, после того как я снял мокасины, туземцы наши, один за другим, осмотрели мои ноги и, вдавливая пальцы в бугристую и губчатую плоть, наблюдали, исчезнут ли вмятины. Они долго не проходили. Туземцы, качая головами, устроили консилиум и, по-видимому, пришли к выводу, что, хотя я был в очень плохом состоянии, при данных обстоятельствах сделать для меня они ничего не могут. Меня, однако, больше всего беспокоил страх, что среди нас вот-вот разразится цинга. Из того, что я знал об этой ужасной болезни, мне казалось странным, что мы, пережившие наибольшие трудности из всех известных арктических экспедиций, не были ей подвержены. Мы прошли невредимыми (поскольку случай с Алексеем был всего лишь подозрением) через испытания долгим походом в мокрой одежде, в самом тяжёлом труде при самом скудном питании – таком, при котором гибнут даже китобои, оказавшись вдали от своих кораблей. Всё это и многое другое пережили мои доблестные товарищи; но теперь, хотя язвы, волдыри и деформацию ногтей можно было объяснить обморожением, всё же омертвление и опухоль конечностей я приписывал исключительно цинге. Она же, по-видимому, была и причиной болезненности дёсен, на которую жаловались Даненхауэр и Ньюкомб. И всё же время показало, что я зря беспокоился, несмотря на то, что мы долгое время жили без каких-либо противоцинготных средств.
На следующий день мы рано вышли в путь и то гребли, то поднимали парус, а иногда, когда это было возможно – шли и под вёслами, и под парусом. Наши проводники иногда ставили нас в трудное положение, забывая, что их лодки имеют осадку всего три дюйма, а наш вельбот – двадцать шесть. Но они всегда помнили о нашей слабости и болезнях и делали как можно больше остановок на отдых. К полудню мы оказались в широкой глубокой протоке и резво пошли под вёслами и парусом. Василий отправил обоих своих молодых людей вперёд, а сам остался в нашей лодке, показывая мне, что его руки так устали, что он не может больше грести. Но мне всё же казалось, что он просто хотел задержать нас, пока его товарищи не проведут разведку и не вернутcя, и потому попросил нас, чтобы мы перестали грести и приспустили парус, хотя ветер был попутный. Вскоре показалась довольно большая деревня, но из труб не поднимался дым, а когда мы приблизились, ни один человек, ни собаки не вышли встречать нас на берег. Поначалу это показалось нам странным – это наше скрытное приближение, отсутствие людей и гнетущая тишина. Я даже заподозрил, что туземцы специально ушли вперёд и предупредили людей, чтобы они ушли, но при ближайшем рассмотрении понял, что поселение было покинуто несколько месяцев назад. Затем до меня дошло, что это зимняя деревня, жители которой ещё не вернулись, и что Василий направил молодых людей, чтобы проверить это и остановиться там, если жители там есть, а если нет, то сразу отправиться на юг в другую деревню, которая, как он знал, была населена. Но так как мы проплыли поворот реки, Василий решил остановиться в этом деревне под названием Ары[41 - Ары – деревня и урочище на одноимённом острове в восточной части дельты (72°8'51"с.ш. 129°14'26"в.д.). На картах обозначена также как Ары-Быковское. – прим. перев.]. Мы высадились и заняли одну из хижин. Она была в хорошем состоянии, а оконные проёмы были закрыты от непогоды деревянными щитами. Порывшись в хижинах и складах, мы не нашли там абсолютно ничего съестного. Более преуспел в этом Ньюкомб со своим ружьём, застрелив несколько куропаток, которые тут же пошли в суп. Василий послал одного из товарищей в соседнюю деревню за туземцем, который поведёт нас дальше. Он объяснил, что дальше идти не может и, обнажив свою руку, показал место возле бицепса, где она была пронзена пулей или копьём. Рука от этого была усохшей и почти не работала.
Мы развели костёр и приготовили чай, а во второй половине дня заметили приближающееся лодку и туземную гребную шлюпку. Последняя по форме напоминала вельбот, острая с обоих концов и с гораздо более плоским дном, была обшиты внакрой досками примерно один с четвертью дюйма толщиной, десять дюймов шириной и длиной во весь корпус, скреплёнными нагелями диаметром три восьмых дюйма. Шпангоуты из берёзы или ели были примерно в трёх футах друг от друга, а нос и корма, соединённые с внутренним килем, представляли собой массивные деревянные бруски, вырезанные заподлицо с обшивкой. Работа была выполнена грубо, но прочно; и лодка такого рода, от шести до восьми футов в ширину и от двадцати пяти до тридцати футов в длину весила, вероятно, в три раза больше, чем вельбот тех же размеров, даже если он без железного или медного крепежа. Швы снаружи были законопачены оленьим мхом и тонкими корешками торфяного мха-сфагнума.
Наш друг Харанай был в лодке, а в шлюпке сидели двое мужчин и две женщины, трое из них гребли, а старший мужчина был за рулём. Это, как объяснил мне Василий, был староста деревни. Выглядел он страшно, как старый пират из книжек. Невысокий и коренастый, со сверкавшими в глубине головы, как два маленьких огненных шарика глазами под выгнутыми дугой нависшими бровями. Волосы его были коротко подстрижены, маленькие уши прижаты, рот с твёрдо сжатыми губами простирался от уха до уха над большой квадратной челюстью. Тело этого великана по имени Спиридон опиралось на ноги карлика. Две женщины, сопровождавшие его, одна из которых была миссис Спиридон, а другая – его сестра, потеряли каждая по правому глазу; и, хотя они вели себя более скромно, чем их муж и брат, выглядели так же злодейски. Молодой человек был шумным и бесшабашным юношей, одетым в какое-то тряпьё и лохмотья, и напоминавшим наших многочисленных бездельников из больших городов, которые довольствуются тем, что веселятся и живут за счёт других.
Спиридон с женщинами сразу же удалился в свой дом, а Капитон, юноша, тут же начал брататься с моряками. Василий зашёл к нам, чтобы сказать, что прибыл староста, и в компании с ним и мистером Даненхауэром мы отправились к «большому начальнику». Он был флегматичным и медлительным, и не пытался завязать разговор или вообще стараться быть хоть сколько-нибудь любезным. Принесли большой чайник чая, который я приказал приготовить в нашей хижине, и мы выпили его из глиняных чашек, которые принесли женщины. Затем Спиридон сообщил мне, что Капитон, который был его протеже и хорошим лоцманом, проведёт нас в следующую населённую деревню. Тут Василий объяснил старосте, что нам нечего есть, и перед нашим уходом тот дал нам пять потрошённых гусей. Вскоре мы собрали наши немногочисленные пожитки и, воодушевлённые, отправились в путь; наш добрый друг Василий с шапкой в руках стоял на берегу и кланялся нам на прощанье. Капитон и Харанай сели к нам, а Фёдор поплыл на своей лодке, а время от времени на буксире за нашим вельботом.
Сначала между туземцами не было разногласий относительно курса, которым мы должны следовать; но вскоре мы оказались в месте, где каждый указывал своё направление, и, поскольку Капитон был главным лоцманом, я пошёл в указанную им сторону и вскоре мы оказались в слишком мелком для вельбота месте. Мы этому вовсе не удивились, так как уже не верили, что туземцы когда-нибудь поймут, что вельбот имеет осадку на два фута больше, чем их лодки. Мы попали на мель при попутном ветре и потому были вынуждены сниматься с неё против ветра и течения. Туземцы заверили меня, что мы доберёмся до деревни этой же ночью, но мы настолько задержались в этой извилистой и мелководной протоке, что пришлось снова остановиться и переночевать, что мы и сделали в двух старых хижинах, попавшихся по пути.
Я сварил наших гусей; они оказалось весьма «с душком» и возбудили бы аппетит какого-нибудь самого изощрённого гурмана за пределами арктических регионов, где такое мясо хоть и востребовано, но, скорее, по личным пристрастиям, а не по необходимости; ибо, хотя лёд в Арктике в постоянном изобилии, всё же в летние месяцы настолько тепло, что, если туземцы не построят ледники, дичь, которую они добывают в летнее время, так же легко испортится в устье Лены, как и в Нью-Йорке. Склады и хижины строят на высоких берегах реки, чтобы по возможности избежать наводнений, которые временами заливают всю дельту, так что обычный сибирский ледник здесь невозможен. Затем, опять же, для этих людей это большое и хлопотное дело – выкопать подвал с помощью имеющихся в их распоряжении инструментов, а это только деревянная лопата с окованным железом лезвием. Железо для такой оковки покупается у торговцев, а сама лопата изготавливается чаще всего из ели. Такой инструмент используется всеми туземцами и составляет часть их зимнего снаряжения для очистки от снега их лисьих ловушек. В районе Якутска земля постоянно промерзает на среднюю глубину сорок семь футов[42 - Около 14 метров. На самом деле слой вечной мерзлоты достигает в центральных районах Якутии глубины сотен метров (до 1370 м. в районе верхнего Вилюя). – прим. перев.], и когда нужно вырыть погреб, то сначала на его месте разводят костёр, который оттаивает несколько дюймов земли, её удаляют, снова разводят костёр, оттаивают следующие несколько дюймов и таким образом продолжают до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина. Стенки ямы укрепляют круглыми брёвнами, делают потолок, зимой всё замерзает, как камень, и таким образом получается круглогодичный ледяной погреб.
Этим длинным отступлением я просто хотел сказать, что наши древние и пахучие гуси не хранились в леднике; но так как прошло уже много времени с тех пор, как мы ели приличную еду, и могло пройти ещё больше, прежде чем представится следующая такая возможность, то мы поглотили их и легли спать. На следующее утро было удивительно, как хорошо все чувствовали себя после ночного отдыха. Конечно, тем из нас, у которых ещё не зажили обморожения, лучше не стало и двигаться было всё так же мучительно; но когда мы сидели в лодке, то были бодры и сильны духом, а выше пояса – и телом. Боль в ногах переносились безропотно до конца каждого второго часа, когда надо было сменяться на вёслах. А уж тогда пострадавшие сыпали проклятиями с удвоенной силой, и их реплики не всегда были выдержаны в примирительных и ласковых выражениях. Тем не менее, в целом, каждый был внимателен к удобству других, и было очень мало проявлений неприязни, кроме этих кратковременных и простительных вспышек гнева; а если вспомнить, как переполнена была лодка – по двое мужчин на каждой скамейке, и конечности почти у всех болят, как от огня, – неудивительно, что при каждом резком толчке лодки у кого-нибудь вырывался крик боли.
К полудню мы обогнули длинную песчаную косу и увидели низкий остров, на котором раскинулась деревня, состоящая, вероятно, из дюжины балаганов, чумов и амбаров, а также церкви без шпиля. Фёдор, спеша возвестить о нашем приближении, умчался вперёд, а мы поспешили следом, нетерпеливо вглядываясь в деревню. Вскоре мы увидели дым, вьющийся над хижинами, и все наперебой закричали: «Я вижу человека!.. Вон ещё один!.. Смотрите, собаки!.. Ура! Там женщина!.. Нет, женщины!.. Смотрите, молодые!.. и т.п.» Когда мы приблизились к берегу и стало мелко, от берега отвалила пара лодок, в одном из которых был типичный рыжеволосый русский. Мы все дружно завопили: «Там русский!». Ему это явно понравилось, и он крикнул в ответ: «Русский, русский!». Затем мы засыпали его сотней вопросов на английском, французском, испанском, немецком, шведском и всех остальных ломаных языках, которыми мы хоть немного владели, и даже снизошли до диалекта Инигуина, которому я велел обратиться к молодому человеку на русском, каким он несомненно владел; но это был полный провал, так как Инигуин, кажется, попытался общаться с ним на языке асинибойнов или чинуков.
Глава VIII. В Зимовьелахе
Николай Чагра – Впечатляющая пантомима – «Рыжий Чёрт» – Перезрелые гуси – Религиозные обряды – Описание балагана.
Староста деревни Николай Чагра[43 - Николай Дьяконов (ум. до 1885 г.) – староста 2-го Батулинского наслега. «Чагра» (или «Шагра») – его прозвище. – прим. перев.] показал, где нет мели, и вскоре наша лодка пришвартовалась к берегу. С ясными головами, но кое как держась на ногах, мы все выкарабкались, как могли, на сушу, в основном на четвереньках. Вся деревня, конечно, пришла поприветствовать нас: мужчины, женщины, дети, собаки и все остальные. На берегу было множество лодок, саней и всякого снаряжения, валялись охотничьи и рыболовные снасти; тут же были навесы, на которых вялилась рыба, а также развешаны сети для сушки и ремонта. Когда бо?льшая часть снаряжения была выгружена и лодка надёжно привязана, несколько женщин и детей взялись за сани, на которых я сидел, наблюдая за разгрузкой, и оттащили меня к дому старосты. Лич и Лаутербах, которые тоже не могли самостоятельно передвигаться, следовали за мной на других санях. Николай довольно церемонно провёл нас внутрь, и мы предприняли взаимные попытки завязать разговор, и я попытался сообщить ему о состоянии наших дел. Он разместил меня на почётном месте для гостей, под иконами. Тем временем в дом всей толпой ввалилась остальная команда, вооружённая котелками, чайниками и спальными мешками, к ужасу Николая, который прижал к себе жену и торопливо отвёл её в угол комнаты. Видя его смятение, я сказал мужчинам удалиться, пока я смогу объяснить ему, кто мы такие и чего хотим. Вскоре все снова собрались в хижине. Тут же толпились туземцы, и вскоре все мы были уже в дружеских отношениях и отличном настроении. Немедленно был повешен над огнём котёл и заварен чай. Он был солёным (это был наш чай!), но мы наслаждались им, как и туземцы, для которых это была роскошь в это время, когда торговцев было мало, как, впрочем, и всякая еда, кроме гусиного и оленьего мяса. Жена Николая поставила вариться уху, и вскоре у нас был полный котелок рыбы, сваренной, правда, без соли и каких-либо приправ, но всё равно для нас это было самое вкусное блюдо, которое мы когда-либо ели. Пока готовилась рыба, наш хозяин угостил нас поджаренным оленьим жиром. Всего его было не больше пары унций, он разломал его на кусочки и раздал всем, как леденцы. Некоторые из присутствующих, наиболее впечатлительные, заявили, что это было самое сладкое, что они когда-либо пробовали. Если бы его было достаточно, чтобы всем наесться, мы, возможно, сочли бы это славным пиршеством; но, как бы я ни был голоден, мне показалось, что это всего лишь кусочек поджаренного на грязной сковороде прогорклого оленьего жира с прилипшими волосками оленьей шерсти.
Я съел кусочек размером с ноготь мизинца, и больше мне не хотелось; но я заметил, что некоторые были не прочь получить и вторую, и третью порцию. На протяжении всей экспедиции я никогда не терял вкуса к хорошей еде, когда она была. На борту «Жаннетты» я ел механически – по долгу службы; ел, чтобы поддерживать силы; ибо, хотя наш корабль был лучше всех, когда-либо пересекавших Полярный круг, снабжён провизией, всё же рацион питания был настолько однообразен, что многие из нас в конце концов возненавидели сам вид и запах консервов, которые в начале путешествия считались самыми вкусными. Это подействовало на нас так же, как куропатка на человека, который обещал есть их по одной штуке каждый день в течение месяца, но я сомневаюсь, что была бы съедена хотя бы дюжина.
Пока готовился ужин, я принялся рассказывать Николаю историю нашего кораблекрушения. Ефим Копылов, русский ссыльный, явно более образованный, чем местные жители, принял в беседе живейшее участие. Красным и синим цветным карандашом я изобразил на листке бумаги американский флаг. Ефим тут же воскликнул: «Ага, американский!», а затем объяснил, что служил солдатом на укреплениях Владивостока и видел много американских судов. Но чтобы якуты поняли, я нарисовал судно, которое Ефим назвал шлюпкой, а туземцам сказал: «большая лодка». Затем, вспомнив якутское слово мус, обозначающее лёд, я объяснил, что он раздавил судно, и оно затонуло. Ефим понял это сразу, но туземцы были не так сообразительны, и после долгих споров между ними я воспользовался большим куском дерева, назвав его «шлюпкой». На шлюпку я поместил четыре палочки поменьше – «маленькие лодочки», и тридцать три совсем маленьких кусочков в качестве команды. Затем я стал покачивать стол, показывая волнующееся море, которое они назвали байхал (море), и показал, как мус байхал (морской лёд) сдавил корабль. Затем, сильно взволновав стол, я высыпал лодки и людей с корабля и бросил последний вместе с маленькой лодкой под стол, чтобы представить, как он ушёл под лёд. Все прекрасно поняли мою пантомиму, и охи, ахи и вздохи мужчин и женщин выразили их печаль и сожаление. Затем я отсчитал одиннадцать палочек в качестве своей команды и посадил их на борт одной из трёх оставшихся лодок; двум другим было назначено тринадцать и девятнадцать палочек соответственно. Они плыли все вместе много дней и ночей, а затем налетела ужасная пурга (я сильно дунул и заревел), байхал заволновался (я закачал стол), перевернул две лодки и утопил их (я швырнул их на пол). Но одна маленькая лодка осталась, и с одиннадцатью палочками (я со своей командой) пришвартовалась, наконец, в Зимовьелахе, так называли эту деревню[44 - Зимовьелах («место, где [было] зимовье», якут.) – бывшее (существовало до 1930-х годов) селение на одноимённом острове напротив мыса Быковский, в 7? километрах от него на NNO, через Быковскую протоку. – прим. перев.].
Женщины были очень тронуты этой историей; смотря на наши обмороженные конечности, они сочувственно качали головами и даже плакали над нашими страданиями. После ужина Николай дал каждому из нас по листку табака – роскошный подарок для тех, кто к нему пристрастился. Я не курил, но я слышал, как наши курильщики говорили между собой, что это была худшая дрянь, которую они когда-либо курили, включая спитой чай и кофейную гущу, которые они употребляли для этого в походе. Поэтому мы завели обычай сушить нашу чайную заварку для тех, кто хотел курить, к большому удивлению местных жителей, которые свой табак смешивали с примерно таким же количеством коры или древесины. Наши большие трубки тоже вызвали у них удивление, так как их были очень маленькими и по форме напоминали японские курительные трубки, в чашечке которых помещался шарик табака размером с горошину. Покурив, мы улеглись, чтобы хорошенько выспаться, для этого дом затемнили досками с внутренней стороны окон со льдом вместо стекла. Некоторые из нас улеглись на лежанки, другие растянулись в своих спальных мешках на полу и вскоре все мирно захрапели. Однако те из нас, чьи конечности были обморожены, не находили покоя, ибо каждый удар сердца интенсивно и болезненно проталкивал кровь по нашей распухшей плоти. В сумерках мы все то ли проснулись сами, то ли были разбужены туземцами, готовившими нам ужин. Неизменный чай был передан по кругу, а миссис Чагра со своими подругами поставили вариться большой котёл с традиционными гусями, которые с древних времён верно служат туземцам, поставляя им на стол своё многочисленное потомство. Их забивают летом, когда они ещё не оперились после линьки, и подвешивают парами, связав головами, на шестах, на недоступной для собак и лис высоте. Поскольку их как не ощипывают, так и не потрошат, внутренние органы несчастных естественным образом опускаются вниз. Так они и замерзают, а когда их оттаивают для готовки, то обычно нет необходимости вскрывать их, так как все эти внутренности выпадают из птиц сами по себе – не очень приятное зрелище! Тем не менее гусиное мясо мы ели с удовольствием.
Перед тем как лечь спать, Николай взял несколько маленьких восковых свечей и расставил их перед иконами. Я говорю во множественном числе, потому что у него был ряд их на полочке в северо-западном углу дома. Это были изображения из латуни, квадратные, размером от одного до четырёх с половиной дюймов; некоторые были просто портретами отдельных святых, на других изображены группы из трёх и более фигур, а также медальоны, кресты с распятиями и без, и тому подобное. Всё это продают якутам православные священники. Хозяин дома зажёг свечи, и все туземцы, старые и молодые, с женщинами позади, подходя по очереди, совершили свои молитвы, очевидно, с некоторыми дополнениями по поводу нашего благополучия и безопасности. Служба состояла из разнообразных коленопреклонений, поклонов и крёстных знамений, с длинными паузами между ними, во время которых они опускали глаза долу, как будто в глубокой медитации, и время от времени безмолвно падали ниц, целовали пол и касались его лбом.
Когда всё закончилось, люди отступили, как бы пропуская нас вперёд, и, поклонившись, махнул нам рукой, приглашая на богослужение. Мне показалось, что он немного растерялся, что мы не приняли его приглашение, и поэтому я, чтобы не обидеть хозяина дома, попросил свою команду выполнить всё, что он просит. Джек Коул, чьё хорошее настроение всегда было искренним и несколько излишним, заорал во весь голос, как будто звал на палубу вахту: «Давайте, ребята, идите и помолитесь!».
После чего, сопровождаемый почти всей нашей командой, взял на себя инициативу в проведении совершенно оригинальной церемонии. Затем Николай погасил свечи, и мы легли; некоторые из нас, как и прежде, на рундуках по периметру комнаты, а остальные использовали пол в качестве общей кровати с местными, включая наших лоцманов и русского Ефима Копылова, который, по-видимому, уже присоединился к нам в качестве проводника, советника и друга. Очевидно, он считал себя намного выше туземцев, хотя временами зависел от них в еде, крове и одежде; тем не менее он, как это обычно делает белый человек, принял значительный вид, и туземцы были вынуждены подчиняться ему.
Описание хижины Николая Чагры, лучшей в деревне Зимовьелах, станет хорошим примером лучших постоянных жилищ такого рода, широко известных в дельте Лены и во всех районах Якутской области, как балаганы или юрты.
Основная или жилая часть здания имеет прямоугольную форму и построена из тёсаного дерева, размеры основания составляют примерно двадцать четыре на шестнадцать футов. Бревна ставятся торцом в землю без лежней, все четыре стороны наклонены внутрь примерно на десять градусов от перпендикуляра; или, если высота хижины внутри составляет, скажем, восемь футов, то отвес от верха стены укажет на полу примерно на два фута от стены. Брёвна аккуратно обтёсаны и выровнены до семи дюймов в ширину, толщина варьируется от семи до семнадцати дюймов, и уложены с удивительно малыми зазорами, если учесть примитивные инструменты туземцев. Они состоят только из долота, острого топора с довольно короткой ручкой и изогнутого скобеля с двумя ручками; пила им неизвестна.
Горизонтальные балки укладываются поверх наклонных стен, и на них, в свою очередь, вдоль длинной стороны и посередине между передней и задней стенами кладётся балка толщиной семь дюймов и шириной двенадцать дюймов. Эту балку поддерживает столб в центре балагана, а что касается крыши, то она делается из такого же тёсаного бруса, как и стены. Она опирается на центральную балку спереди и сзади и, таким образом, придаёт крыше небольшой наклон в обе стороны. Все швы заделаны оленьим мхом. В торцевой стене проделана низкая дверь высотой три и шириной два фута, а всю постройку опоясывает земляная насыпь высотой примерно два фута, чтобы не пропускать холодный воздух. В стенах вырезаны по два квадратные окна размером восемнадцать дюймов, и иногда такое же окно делается на противоположной входу стене. Камин с дымоходом расположен посередине между центральной балкой крыши и дверью и обращён внутрь. Он сделан высотой шестнадцать-двадцать дюймов и шириной и глубиной четыре фута, в задней стенке находится дымоход, сплетённый из прутьев и жердей, он поддерживается двумя подкосами. Они также служат опорами для небольшой каминной полки и на них же держится деревянный крюк, на который туземцы вешают над огнём свои большие чайники. Дымоход и камин обмазаны глиной и со временем обжигаются до полного затвердения. Ящик вокруг камина заполнен землёй, его стенки либо скреплены между собой, либо, что бывает чаще, стенки поддерживаются восемью прочными кольями, вбитыми в землю.
В добротных, правильно построенных юртах пол покрыт досками, их делают из брёвен, раскалывая их деревянными клиньями. Внутри такое жилище устроено следующим образом: низкий ларь-рундук высотой примерно восемнадцать дюймов, проходит вдоль всех стен помещения, кроме той, в которой прорезана дверь. Он около двух с половиной футов в ширину и днём используется как скамейка, а ночью превращается в спальные места, отделённые друг от друга перегородками, обычно высотой в три-четыре фута, но иногда достигающими потолка. У стены, противоположной двери, находятся две койки, а по обеим сторонам – по три, всего восемь спальных мест. Некоторые койки делаются шире или для двух спящих – тогда к ним добавляется доска на кожаных петлях, которая ночью поддерживается подпорками, а днём опускается. Расположение хижин по сторонам света не определяется каким-либо правилом, иногда они стоят задней стеной к преобладающему ветру; хотя часто эта разумная предосторожность не соблюдается. В одной и той же деревне все жилища могут быть расположены в разных направлениях. Однако спальные места в юртах распределяются между обитателями одинаково во всей Северо-Восточной Сибири. Если смотреть от двери, то дальний правый угол неизменно занимают хозяин и его жена; противоположный левый угол всегда отделён как гостевая комната, а над ним находится полка с иконами. Три спальных места, расположенные вдоль правой стороны, предназначены для ближайших родственников, женатые сыновья и их жены находятся рядом или рядом со своими родителями в зависимости от возраста или других условий. Слева места ближайших родственников начинаются от гостевой комнаты, начиная со старшей тёти или дяди и заканчивая у двери не родственником или воспитанником. Во всех хижинах есть небольшие промежутки в четыре-пять футов между последними рундуками с обеих сторон и стеной, в которой дверь. Справа в этом пространстве хранятся котелки, чайники и другая кухонная утварь; слева – небольшой запас сухих дров для растопки и плохой погоды. Перед камином на ремнях подвешена лёгкая полка из жердей и дощечек, которая тянется поперёк всего помещения. На неё кладут замороженные продукты для оттаивания и рыбу для собак. Последнее практикуется всегда, когда есть возможность; собак в холодную или плохую погоду кормят горячей пищей. Узкие полки над рундуками для мелких украшений; шкатулка для хранения ценных вещей, таких как иголки и нитки; чайная чашка или какой-нибудь другой красивый предмет, а также несколько небольших, грубо сколоченных столов составляют остальное убранство жилища. Среди туземцев распространены пуховые подушки и постельное белье из шкур, а матрас делается из двух, трёх или стольких оленьих шкур, сколько позволяет достаток в доме. Почти в каждой хижине я видел одного-двух стариков или старух, которые занимали угол возле двери; эта «бабушка», как правило, слепая, всегда несчастная, бедная, оборванная и грязная, питается она теми немногими остатками пищи, которые находит в отбросах домашнего хозяйства. Я так и не смог узнать, был ли такой персонаж родителем хозяина или хозяйки, только замечал, что это всегда самый старый и бедный. И эти пожилые пенсионеры любого пола постоянно работают, слепые или нет, изготавливая и ремонтируя сети из конского волоса. Слепота, надо сказать – это болезнь, распространённая среди жителей всего этого региона. Доктор Капелло, главный хирург Якутского округа под командованием генерала Черняева[45 - Георгий Фёдорович Черняев – генерал-майор, якутский губернатор (1876 – 1885). – прим. перев.], сообщил мне, что сорок процентов всех местных жителей к северу от Якутска полностью слепы, а шестьдесят процентов частично слепы или потеряли один глаз, и я не могу вспомнить, посещал ли я в этих местах какое-нибудь жилище, в которой хотя бы один обитатель не страдал каким-либо заболеванием глаз. Среди них в ужасной степени преобладает сифилис; и это из-за способа умывания туземцев, который заключается в том, что они набирают в рот воды, струйкой выпускают её в ладони и моют лицо, при этом инфекция из больных ртов попадает в глаза. Слепяще-яркий снег, грязь и дымная атмосфера жилищ – всё это порождает и усугубляет этот ужасный недуг.
Когда деревянная основа юрты построена, вокруг неё примерно в двух футах от стен в землю забивается сплошной ряд брёвен высотой три-четыре фута. Промежуток между стенами и брёвнами заполняется землёй и в течение лета утаптывается ногами; и, наконец, слой почвы и тундрового дёрна толщиной в фут укладывается на стены и крышу хижины, хорошо уплотняется и утаптывается. Балаган теперь готов; по форме он представляет собой усечённую пирамиду с прямоугольным основанием, а по внешнему виду – просто земляной холм, в котором на большом расстоянии узнать юрту можно только по дыму из трубы. Со стороны двери к юрте пристраивается внешнее помещение, обычно такой же ширины, но не такое высокое, и примерно вдвое или более короткое. Под прямым углом к нему находится ещё меньшее и более хлипкое сооружение, достаточно, однако, прочное, чтобы выдерживать ветер и снег.
Эти три помещения являются постоянными и представляют собой собственно жилье, но с приближением зимы возводится ещё лёгкое временное строение из шестов. Его разбирают с приходом весны, и убирают до следующего сезона. Другое подобное сооружение – зимний домик для собак или сук с щенками, в котором их кормят из деревянного корытца. Эти два типа строений строятся только тогда, когда уже выпал снег, он набрасывается на них деревянными лопатами, а позже снегопад заполняет оставшиеся щели.
Первый внешний пристрой к юрте используется в качестве общей кладовой. В нём хранится всякая меховая одежда, рыболовные снасти, собачья упряжь и санное снаряжение, а также здесь оставляют свою верхнюю одежду гости. Он также служит летней верандой, иногда в нём хранится рыба и тёша[46 - Копчёные или солёные рыбные брюшки. – прим. перев.], которую продают русским. Меньшая пристройка, вход в которую делается через дверь на петлях, используется в качестве склада провизии, в нём хранятся зимние запасы оленины, рыбы и гусей, а также меха, предназначенные для торговли. В эти помещения не проникает свет, разве что, возможно, через ледяное окно в потолке, которое всегда заморожено. В отличие от основной юрты, где окна застеклены полупрозрачным льдом, который заготавливают осенью на всю зиму. Сквозь него поступает достаточное количество света, хотя, конечно, детально через них ничего не рассмотришь. Тепло внутри помещения подтаивает такие окна, а каждое утро их чистят специальным железным инструментом, так как ночью, когда огонь в очаге гаснет, на внутренней поверхности ледяного стекла от дыхания спящих образуется слой инея. Я сам видел, как сорок человек спали в юрте, размеры которой были шестнадцать на двадцать четыре фута и семь футов в высоту. Дымоход на ночь всегда закрывается, чтобы предотвратить утечку тепла. Льдины медленно тают, пока, наконец, не наступает время заменить их свежим льдом. Остекление окон делается просто. Когда водоёмы с пресной водой замерзают на глубину шести дюймов, из них вырезаются плиты льда и переносятся на крыши домов, подальше от собак. Так что зимой, когда окно требует нового остекления, старый лёд выбивается изнутри, и на его место вставляется свежий кусок льда нужного размера; щели замазываются снаружи мокрым снегом, всё это немедленно замерзает, и ледяное «стекло» размером восемнадцать на восемнадцать дюймов и толщиной шесть дюймов, устанавливается, таким образом, за несколько минут. Перед тем как лечь спать, в оконных проёмах устанавливаются специальные доски, чтобы защитить лёд от тепла в помещении. Интересно наблюдать за постепенным разрушением льда от тёплого воздуха, которое определяется расположением камина, глубиной оконных ниш и положением коек.
Таково общее описание жилища Николая Чагры и, с некоторыми вариациями, и той хижины, в которой позднее мы провели тридцать дней после нашего непредвиденного возвращения в Зимовьелах.
Итак, возвращаемся к событиям тех дней. Мы проснулись на следующее утро (28 сентября) хорошо выспавшиеся, ободрились холодным умыванием и позавтракали варёной рыбой и традиционным чаем. День был ненастный, но я сказал Николаю, что мы должны немедленно отправиться в Булун. Он бурно протестовал, говоря, что плохая погода, снег и лёд, несомненно, приведут к нашей гибели. Выбравшись на улицу, я взглянул на погоду. Дул сильный ветер, по небу неслись тяжёлые облака, предвещая снежную бурю. Так что ничего не оставалось делать, кроме как ждать затишья, и оно наступило раньше, чем я ожидал. В десять часов солнце уже просвечивало сквозь облака, ветер стих до умеренного, и вскоре я усадил Николая и двух наших лоцманов в их лодки, а Ефима «Рыжего Чёрта» в наш вельбот. Николай выдал нам пять дюжин рыб, и, помимо того, положил кусок оленины в свою лодку, но, как он сказал мне, чтобы добраться до Булуна, потребуется пятнадцать дней, я возразил, что запаса рыбы недостаточно. Он показал на сети в трёх лодках, показывая, что мы будет ловить рыбу по пути, и я успокоился, вспомнив хорошие уловы старого Василия. Перед стартом я максимально облегчил вельбот, оставив Николаю одну палатку с шестами, пустой бочонок из-под спирта (перелив драгоценную жидкость в резиновые бутыли, которые мы первоначально использовали для воды и лимонного сока), большой топор и некоторые другие предметы. Наконец, подождав, когда туземцы расцелуются на прощание с родственниками и поднесут пожертвования своим идолам, мы доковыляли до реки и заползли в вельбот. Лич, чьи ноги были обморожены хуже всех, попросил оставить его, уверяя, что ему лучше остаться в Зимовьелахе, чем рисковать, отправляясь в путь. Он и Лаутербах потеряли всякое присутствие духа, а больше всего меня удивил внезапный переход Лича от его обычной жизнерадостности к унынию. Конечно, я не стал слушать его уговоры, и он с неохотой сел в лодку вместе с остальными.
Глава IX. Жизнь в сибирской деревне
Снова неудача – «Американский Балаган» – Ссора со старостой – Ловля рыбы – Охота на оленей и гусей.
После сердечных пожеланий доброго пути от жителей деревни и слёзных увещеваний миссис Чагра, мы отправились в путь – на вёслах и под парусом – во главе с лодками проводников. Вскоре мы встретили молодой лёд, плывущий плотными массами, ветер усилился так, что лодка стала почти неуправляемой. Наши лоцманы повернули, чтобы обогнуть мыс, и мы оказались прямо против ветра, что в нашем немощном состоянии было непростой проблемой. Лодка была загружена до предела и часто садилась на мель, несколько раз при сильном волнении мы едва не опрокинулись. Тут уже наши туземцы испугались надвигающегося льда и, видя, как быстро нам приходится вычерпывать воду и нашу неспособность продвигаться более вперёд, знаками показали нам поворачивать назад. Они уже покинули мелководье, вышли на фарватер и направились домой. Как бы я ни стремился добраться до Булуна, сейчас крайне важно было быть осторожным в своих действиях и не рисковать жизнями тех, кто был вверен моей заботе, ибо, если мы вмёрзнем в лёд между Зимовьелахом и Булуном, большинство из нас погибнет от холода и голода, так как только двое-трое в отряде могли ходить, и даже их трудоспособность была весьма сомнительной. Кроме того, путешествовать самостоятельно, без туземцев, как мы убедились, было почти невозможно.
Итак, мы повернули назад и меньше чем через час снова были в деревне. Жители вышли поприветствовать нас, и, когда мы, наконец, вскарабкались на крутой берег, а лодка была разгружена, туземцы стали убеждать меня вытащить её на сушу. Сначала я отказывался это делать, всё ещё надеясь добраться до Булуна на лодке и опасаясь, что из-за неосторожного обращения они могут повредить её, так как она и так была в плачевном состоянии, всё щелястая и расшатанная. Тем не менее, поняв из их объяснений и энергичных пантомимы, что они боялись, что лёд и ветер унесут её в море, я, в конце концов, согласился, и последующие события подтвердили правильность их совета. Мы с Личом и Лаутербахом, из-за нашей немощи, сидели на санях, а когда всё закончилось, нас всех отвели в хижину некоего Гаврилы Пасхина, охотника на оленей, – временно, пока для нас не приведут в порядок одну пустующую хижину, в которую мы вскоре и переехали. И как раз во время переезда в это новое жилище, я, к своему большому огорчению, обнаружил, что Николай Чагра забрал себе сумку, в которой были шестьдесят рыб для нашего путешествия. И теперь в плане продовольствия мы стали зависимы от щедрости местных жителей.
Наш балаган, хотя и прохладный и с дымящим камином, был в приличном состоянии. Я распределил места для людей как можно более равномерно и установил такие правила нашей жизни, которые казались мне необходимыми для их здоровья и удобства. Из семи двухместных коек пять были заняты двумя мужчинами каждая. Даненхауэр и я спали поодиночке на оставшихся двух. С добавлением Рыжего Чёрта отряд насчитывал теперь двенадцать человек. Я определил людей на две ежедневные вахты для заготовки дров и воды или льда, которых на острове было в изобилии. О том, чтобы Лич выполнял какие-либо обязанности, не могло быть и речи, и я также отстранил от работ Даненхауэра и Ньюкомба, поскольку они ничего или почти ничего не могли делать, кроме необходимых упражнений. На кухне работали люди, которые лучше всего могли ходить и носить дрова: стюард Чарли Тонг Синг исполнял эти обязанности в первую неделю, далее его сменили Мэнсон, Уилсон и другие. Я собрал команду и напомнил им об обстоятельствах, в которых мы оказались. Так как после долгого путешествия мы лишились почти всей одежды и теперь полностью зависели от туземцев и, поскольку мы, очевидно, останемся здесь на какое-то время, необходимость проявлять мудрость и вести себя мирно должны быть очевидны для всех. Также, после всех наших лишений, среди нас возникла опасность цинги и других болезней. Единственным способом бороться с этим было жить так, как мы жили на корабле – в добром и весёлом общении, в тепле и сухости, насколько это возможно, постоянно тренируясь, но не утомляя себя; а когда река замёрзнет, мы сразу же предпримем попытку связаться с Булуном.
Николай Чагра ежедневно приносил нам четыре рыбы общим весом около шестнадцати фунтов, и из них мы готовили «длинную» уху, то есть пожиже, чтобы надолго хватило. Я всё ещё придерживался своей старой привычки разливать содержимое котла по мискам поровну, чтобы было справедливо; хотя иногда было забавно видеть, как два человека хватают одну и ту же миску и тянут её каждый к себе, пока другой не уступит; или наблюдать за тем, как те, чей голод пересиливал гордость, глотая слюну, жадными глазами смотрели на миски в процессе наполнения, подбираясь всё время к той, которая казалось им самой большой, а при команде «Разбирай!» торжествующе хватали её. Ефим ел свою уху вместе с нами, и так мы вели сравнительно счастливую жизнь в нашем «Американском балагане». Кроме мелких размолвок, возникающих из-за споров, в которых, как правило, было больше слов, чем аргументов, между членами экипажа практически не возникало ссор. А их дискуссии обычно заканчивались взрывом хохота по поводу какой-нибудь удачной шутки одного из спорщиков.
Ефим учил нас русскому и якутскому и выступал в качестве переводчика. Мужчины в свободное время играли в самодельные шахматы или чинили свою одежду. В первую ночь в нашей новой хижине я составил письмо офицеру, командующему округом, в котором изложил обстоятельства, приведшие нас в Зимовьелах, и просил его переслать копию моего письма американскому послу в Санкт-Петербурге. Копии были написаны на французском, немецком и шведском языках; в ним приложены в качестве доказательства нашей личности несколько старых писем и конвертов, принадлежащих членам экипажа. Всё было упаковано в пакет и надёжно зашито в мешок из промасленной ткани, вырезанной из старой одежды. Мистер Даненхауэр и я пошли к старосте и убедили его в важности немедленной отправки посылки коменданту в Булуне. Он понял и пообещал отправить её как можно скорее, а чтобы побудить его к действию, посылка была зашита в его присутствии его женой. Затем он сказал нам, что бухту можно будет безопасно пересечь через десять или пятнадцать дней. Ночью выпал небольшой снег, а река, насколько хватало глаз, покрылась льдом, кроме середины фарватера и ещё в некоторых местах. Теперь я понял, почему туземцы так хотели, чтобы мы вытащили вельбот на берег. Я предполагал, что они боялись шторма, но это было из-за опасения, что лодка вмёрзнет, а затем шторм расколет лёд и унесёт её в море.
Так что ничего другого теперь не оставалось делать, как дожидаться полного замерзания залива. Миссис Чагра накормила нас рыбой, и мы поплелись в нашу хижину.
В то время положение наше было очень неопределённым. Мы ещё не совсем изучили нравы туземцев, о которых известно и написано очень мало. На «Жаннетте» была записки о русском офицере, который в сопровождении своей жены и более тридцати казаков пытался перезимовать в устье Лены. У них было достаточно продовольствия и хорошие отношения с туземцами, но вместе со всей своей партией он умер от цинги[47 - Речь идёт, очевидно, об отряде Василия Васильевича Про?нчищева (1702-1736) – морского офицера, исследователя Арктики. Этот отряд был частью Великой Северной экспедиции (1733-1743) под руководством В.Беринга. На самом деле никто в отряде не умирал, тем более от цинги, а от случайной травмы умер только сам Прончищев, а позднее по неизвестной причине – и его жена Татьяна. Но действительно, долгое время, до вскрытия могилы Прончищева в 1999 году, считалось, что он умер от цинги. – прим. перев.]. Каковы же тогда были перспективы для нас, чудом спасшихся, и которые теперь, совершенно измученные, травмированные и больные, жили на тухлых гусях и очень ограниченном рыбном рационе? Мы, конечно, могли бы прожить зиму в Зимовьелахе, если чудесным образом избежим цинги, но я был уверен, что тогда среди нас либо разразится брюшной тиф, либо случится какое-нибудь отравление.
У нас было очень мало вещей, на которые мы могли бы обменять что-нибудь у туземцев, да и у них, на самом деле, почти ничего не было. Наша одежда износилась до крайней степени, мы чинили её, пришивая заплату на заплате. Погружение наших распухших конечностей в тёплую воду оказалось приятным, хотя и временным облегчением от боли. И тем не менее, обморожение и язвы быстро заживали, опухоли спадали, мы набирались сил и здоровья – все, кроме Лича, с пальцев ног которого сошла плоть, обнажив кости. По-видимому, началась гангрена, и, если его раны не обрабатывались в течение дня, запах становился невыносимым. Бартлетт был его постоянным сиделкой; ежедневно кипятил чайник с водой, в которой промывал раны, и с помощью складного ножа мастерски срезал сгнившую плоть. Лич, казалось, был болен всем телом. Он совсем пал духом и стал ко всему равнодушен. Хотя в очаге постоянно горел яркий огонь, а он сидел к нему так близко, что одежда начинала тлеть, он всё жаловался на холод, а когда ему сказали, что он подпалил куртку, отвечал, что ему всё равно, он получит другую куртку. Судя по всему, ему стоило немалых усилий терпеть любезное внимание «доктора» Бартлетта.
Так проходили наши дни. Гуси, которых мы ели каждый день, были заготовлены летом во время гнездования и, как следствие, были необычайно худые и столь же жёсткие. Всё же, несмотря на это, можно считать, что наша еда была приемлемой. Как я уже упоминал, гуси помогают туземцам пережить трудные времена, которые случаются между уходом оленя и наступлением сезона рыбалки. Тогда их снова достают из хранилищ и употребляют в пищу, хотя вкус их оказывается не совсем приятным.
Ежедневной обязанностью Бартлетта было получать у Николая Чагры наш дневной рацион из четырёх гусей и четырёх рыб, и мы жили в хороших отношениях с нашими неприметными соседями, пока однажды утром, отправившись, как обычно, по своим обязанностям, Бартлетт не был удивлён, когда Чагра вручил ему три вместо четырёх рыб на завтрак. Конечно, он возразил, и тогда Чагра, после долгих разговоров и жестикуляции, в гневе бросил попавшимся под руку полупротухшим гусём в Бартлетта, который вслед за этим, в хорошем американском стиле, бросился на тут же раскаявшегося старосту и погнался за ним по деревне. Так мы узнали о том, что рыбы, да и вообще любой пищи, в деревне было очень мало, и существовала опасность полного прекращения нашего снабжения. Ефим предостерегал нас от слишком щедрого обмена нашего небольшого запаса вещей на еду; но больше всего я боялся, что туземцы, будучи в своих привычках вполне кочевниками, могут, ничего нам не говоря, сложить свои чумы, как арабы, и так же тихо ускользнуть ночью, оставив нас наедине со своими проблемами. В конце концов, обмениваясь или нет, мы будем зависеть от них в провизии, и когда она закончится, они, конечно, не будут сидеть на месте, а двинутся куда-нибудь, может, поселятся у своих более удачливых соседей, предложив им свою помощь в ловле рыбы и починке сетей.
Тем временем Рыжий Чёрт продолжал обучать нас тайнам русского и якутского языков, с которыми мы теперь все более или менее познакомились. Инигуин, наш североамериканский индеец из Нортон-Саунда, вызвал у местных жителей неподдельный интерес и попал в ещё бо?льшую милость, когда стало известно, что он тоже кочевник, как и они. Они называли себя тунгусами, и мы сообщили им, что Инигуин – это американский тунгус. Вскоре он стал посещать своих меднолицых братьев и сестёр, которые начали чинить его мокасины и одежду, и, наконец, стало известно, что Инигин нашёл себе возлюбленную, которую он, смущаясь, представил нам: «Он очень хороший маленький старушка».