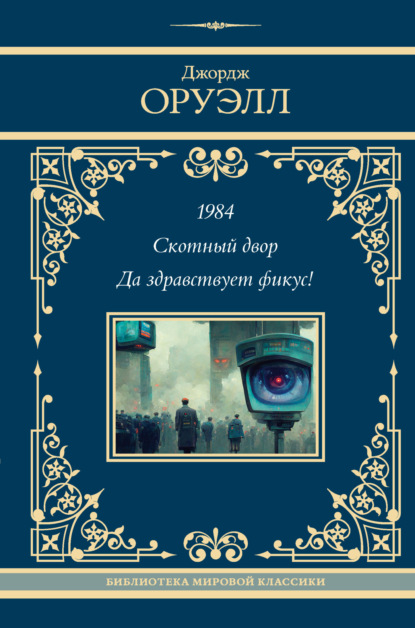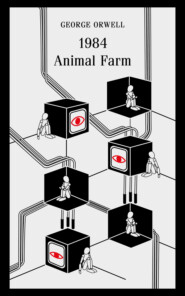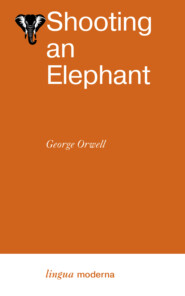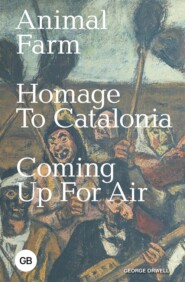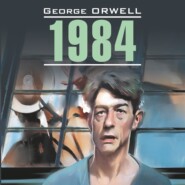По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984. Скотный двор. Да здравствует фикус!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1984. Скотный двор. Да здравствует фикус!
Джордж Оруэлл
«1984» – своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века – «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» или доведенное до абсолюта «общество идеи»? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы…
«Скотный двор» – притча, полная юмора и сарказма. Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного общества? Конечно, да. Но… каким увидят это общество его «граждане» – животные, обреченные на бойню?
«Да здравствует фикус!» – горький, ироничный роман, во многом автобиографичный.
Главный герой – Гордон Комсток, непризнанный поэт, писатель-неудачник, вынужденный служить в рекламном агентстве, чтобы заработать на жизнь. У него настоящий талант к сочинению слоганов, но его работа внушает ему отвращение, представляется карикатурой на литературное творчество. Он презирает материальные ценности и пошлость обыденного уклада жизни, символом которого становится фикус на окне. Во всех своих неудачах он винит деньги, но гордая бедность лишь ведет его в глубины депрессии…
Комстоку необходимо понять, что кроме высокого искусства существуют и простые радости, а в стремлении заработать деньги нет ничего постыдного. Что же спасет его?
Джордж Оруэлл
1984. Скотный двор. Да здравствует фикус!
© Школа перевода В. Баканова, 2022
© Перевод. С. Таск, 2015
© Перевод. В. Домитеева, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
1984
Часть первая
I
Стоял ясный и холодный апрельский день, часы били тринадцать, когда Уинстон Смит, горбясь и тыкаясь подбородком в грудь в попытке укрыться от пронизывающего ветра, спешно скользнул в стеклянные двери жилкомплекса «Дворец Победы». Спешка вышла неловкой, и завиток колкой пыли прорвался внутрь вслед за ним.
В вестибюле воняло вареной капустой и старыми половиками. В одном углу к стене прилеплен цветной плакат, чересчур большой для помещений. На нем просто огромадное, больше метра в ширину, лицо сурового красавца лет сорока пяти с густыми черными усами. Уинстон направился к лестнице, не надеясь на лифт. Тот и в лучшие времена работал редко, а сейчас в светлое время суток электричество вообще отключали в целях экономии: близилась Неделя ненависти. До квартиры надо было одолеть семь лестничных пролетов, и Уинстон поднимался медленно, останавливался, переводя дух, на каждой площадке: ему было уже тридцать девять, да и варикозная язва на правой лодыжке давала о себе знать. На каждой площадке со стены напротив лифта взирало огромадное лицо. Изображение было из тех портретов, взгляд глаз на которых неотрывно следовал за тобой, куда ни двинься. Надпись внизу гласила: «Большой Брат следит за тобой».
Внутри квартиры звучный голос зачитывал какие-то цифры, вроде бы данные о производстве чугуна. Голос лился из вправленной в стену справа от входа прямоугольной металлической пластины, похожей на тусклое зеркало. Уинстон повернул регулятор, стало потише, хотя слова все еще доносились довольно отчетливо. Агрегат, звавшийся телеэкраном, можно было приглушить, но не выключить. Уинстон перешел к окну, невысокий и щуплый, в синем комбинезоне члена Партии, который лишь подчеркивал его худобу. У него были светлые волосы и раскрасневшееся лицо, кожа шершавилась от грубого, дешевого мыла, бритья тупыми лезвиями и недавно закончившейся морозной зимы.
Снаружи, несмотря на закрытое окно, тянуло холодом. Ветер кружил по улице пыль и обрывки бумаги. На ярко-голубом небе сияло солнце, и все же город казался лишенным цвета, не считая расклеенных повсюду плакатов. Усатое лицо взирало с каждого заметного угла. На фасаде дома напротив раскинулась надпись: «Большой Брат следит за тобой» – и взгляд темных глаз забирался Уинстону прямо в душу. Дальше по улице на уровне первого этажа судорожно хлопал на ветру еще один плакат, то открывая, то закрывая слово «ангсоц». Вдалеке между крышами скользил вертолет, то зависая, как трупная муха, то стремительно уносясь прочь по дуге. Это полицейский патруль бдительно заглядывал в окна граждан. Впрочем, патрулей можно не опасаться. Другое дело полиция помыслов…
За спиной Уинстона голос с телеэкрана вещал о чугуне и перевыполнении Девятой трехлетки. Агрегат одновременно работал на передачу и прием сигнала. Он различал любой звук громче тихого шепота и вдобавок транслировал изображение из комнаты, если ты попадал в зону обзора. Понять, наблюдают за тобой или нет, невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому принципу полиция помыслов подключается к твоему телеэкрану. Не исключено, что следят за всеми круглосуточно. В любом случае, могли подключиться когда угодно. Приходилось жить… да что там, ты всегда жил по привычке, давно ставшей инстинктом… исходя из предположения, что любой твой звук слышат и любое движение, кроме как в темноте, тщательно изучают.
Уинстон держался к телеэкрану спиной. Так безопаснее, хотя он прекрасно знал, что даже спина может выдать. Над тусклым от копоти пейзажем возвышалось трехсотметровое белое здание министерства правды – его место работы. Вот он, подумал Уинстон с глухим отвращением, вот он, Лондон, главный город Авиабазы-1, третьей по населенности провинции Океании. Уинстон пытался извлечь из памяти хоть какое-нибудь воспоминание о Лондоне своего детства. Всегда ли здесь было так? Всегда ли панораму города составляли гниющие домишки девятнадцатого века, подпертые деревянными балками, с заколоченными фанерой окнами, с крышами из рифленого железа, с расползающимися во все стороны стенами палисадов? А места бомбежек, где в воздухе кружит асбестовая пыль и руины покрываются кипреем, а проломы среди домов мгновенно зарастают убогими деревянными лачугами, похожими на курятники? Без толку. Ему не вспомнить ничего: от детства остались лишь ярко освещенные картинки, вырванные из чего-то целого, большей частью невнятные.
Здание министерства правды (миниправ на новослове[1 - Новослов – официальный язык Океании. Сведения о его структуре и этимологии см. в Приложении. (Примеч. авт.)]) разительно отличалось от других за окном. Громадина пирамиды из сверкающего белого бетона возносилась ввысь ступенчатыми террасами. С той точки, где стоял Уинстон, на стене высотки отчетливо читались выведенные изящными буквами три лозунга Партии:
ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА
Говорили, что в министерстве правды три тысячи кабинетов над землей и столько же в подземных этажах. По Лондону стояли еще три здания того же вида и размера. Они разительно выделялись на фоне окружающей архитектуры, и с крыши «Дворца Победы» было видно все четыре разом. В них располагались четыре министерства, составляющие правительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, зрелищами, образованием и искусством. Министерство мира ведало военными делами. Министерство любви обеспечивало закон и порядок. Министерство благоденствия решало экономические вопросы. На новослове их названия звучали как миниправ, минимир, минилюб и миниблаг.
Самое жуткое – министерство любви, здание без единого окна. Уинстон никогда там не бывал, даже не подходил ближе чем на полкилометра. Просто так в министерство не попасть, только по долгу службы, да и то миновав настоящий лабиринт из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Улицы, ведущие к внешней полосе заграждений, патрулировали похожие на горилл охранники в черной униформе, вооруженные резиновыми дубинками.
Уинстон резко отвернулся от окна, придав лицу подобающее перед телеэкраном выражение сдержанного оптимизма, и прошел в крошечную кухню. Покинув министерство так рано, он пожертвовал обедом в столовой, хотя и знал, что дома из еды остался лишь ломоть черного хлеба, да и тот на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой наклейкой «Джин Победа». В нос ударил отвратный, маслянистый запах, как от китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и выпил залпом, как лекарство.
Лицо его побагровело, глаза увлажнились. На вкус как азотная кислота, а проглотишь – будто резиновой дубинкой по затылку огрели. Впрочем, вскоре жжение в животе прошло, и Уинстон повеселел. Он достал из смятой пачки «Победа» папиросу, по рассеянности держа ее вертикально, и табак мигом высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Уинстон вернулся в гостиную и присел за стол слева от телеэкрана. Из ящика он вынул перьевую ручку, чернила и толстый, в четверть листа альбом для записей с красным корешком и обложкой под мрамор.
По неясной причине телеэкран в гостиной был установлен не как положено. Обычно его монтировали с торца, чтобы просматривалось все помещение, но здесь он висел на длинной стене, напротив окна. Сбоку находилось небольшое углубление, где сейчас затаился Уинстон,?– вероятно, спроектированное для книжных полок. Сидя в нише и не высовываясь, Уинстон не попадал в поле обзора телеэкрана. Конечно, его могло быть слышно, зато не видно. Отчасти из-за нестандартной планировки квартиры он и задумал то, за что готовился сейчас взяться.
Впрочем, на эту мысль его навела и удивительно красивая, чуть пожелтевшая от времени книга, которую он достал из ящика. Гладкую кремовую бумагу лет сорок как сняли с производства. Уинстон подозревал, что книга еще старше. Он заметил ее в витрине захудалой лавки старьевщика, бродя по трущобам пролов, и тут же загорелся. Членам Партии не полагалось отовариваться в обычных магазинах (так сказать, «приобретать товары на свободном рынке»), но иногда на это смотрели сквозь пальцы: иначе всякими мелочами вроде шнурков или бритвенных лезвий разжиться не получалось. Уинстон оглянулся по сторонам, заскочил в лавку и купил книгу за два с половиной доллара. Он еще и сам не знал, зачем она ему нужна. Поспешно сунув добычу в портфель, он отправился домой. Даже с чистыми страницами книга изрядно компрометировала своего обладателя.
Дело в том, что Уинстон собрался вести дневник. Законом это не запрещалось (в Океании не запрещалось ровным счетом ничего, поскольку никаких законов давно не было), однако если б дневник нашли, ему грозила бы смерть или в лучшем случае лет двадцать пять в исправительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в держатель и облизнул, чтобы удалить смазку. Ручки давно вышли из употребления – их даже для подписи почти не использовали, и Уинстон раздобыл свою украдкой и не без труда; ему казалось, что на красивой бумаге следует писать настоящими чернилами, а не корябать впопыхах химическим карандашом. Вообще-то держать перо он не привык. На работе велась диктовка в речеписец, который по понятным причинам тут совершенно не годился. Уинстон макнул перо в чернила и замер, чувствуя невольный трепет. Стоит коснуться бумаги пером, и возврата не будет. Маленькими корявыми буквами он вывел:
4 апреля 1984 года
Откинулся на стуле. Уинстона охватило чувство полнейшей беспомощности. Прежде всего он вовсе не был уверен, что ныне шел именно 1984 год. Ему тридцать девять лет, родился в сорок четвертом или сорок пятом, но определить дату без погрешности в год или два теперь никому не по силам.
Для кого же его дневник? Уинстон внезапно задумался. Для грядущих поколений, для тех, кто еще не родился? Мысли зависли над сомнительной датой, потом наскочили с размаху на слово «двоемыслие». Впервые до него дошла грандиозность поставленной задачи. Как общаться с будущим? В силу объективных причин это невозможно. Либо оно похоже на настоящее и тогда пропустит его слова мимо ушей, либо вовсе непохоже, и тогда рисковать вообще не имеет смысла.
Он посидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкран переключился на бравурный военный марш. У Уинстона возникло чувство, что он не только утратил способность выражать свои мысли, но вообще позабыл, о чем собирался писать. Он готовился к этому неделями, и ему не приходило в голову, что одним мужеством здесь не обойдешься. Водить пером по бумаге несложно. Просто берешь и переносишь на нее нескончаемый внутренний монолог, который ведешь годами. Впрочем, на данный момент иссяк даже он. Вдобавок отчаянно зачесалась язва на правой ноге. Уинстон побоялся ее трогать, чтобы снова не воспалилась. Бежали секунды. Он не замечал ничего, кроме пустой страницы перед собой, зуда в лодыжке, грохота марша и легкого опьянения.
Внезапно Уинстон торопливо застрочил мелким, похожим на детский почерком, едва сознавая, что выходит из-под пера. Строки гуляли по странице то вверх, то вниз, постепенно исчезли заглавные буквы, а следом и знаки препинания:
4 апреля 1984 года. Вчера вечером в кино. Фильмы только про войну. Один очень хорош: там бомбили корабль, набитый беженцами, где-то в Средиземном море. Публика восторгалась кадрами расстрела невероятно огромного толстяка, пытавшегося вплавь удрать от охотившегося за ним вертолета; сначала видишь, как он, будто чудище морское, барахтается в воде, потом видишь его в перекрестье прицела вертолетного пулемета, потом в нем наделали дырок, море вокруг порозовело, и толстяк вдруг камнем пошел ко дну, будто в пробоины от пуль хлынула вода, публика покатывалась от хохота, пока он тонул. потом показали спасательную шлюпку, полную детей, а над ней кружил вертолет. на носу шлюпки сидит средних лет женщина, должно быть, еврейка, с трехлетним малышом на руках. карапуз визжит от страха, прячет голову у нее между грудей будто старается вглубь зарыться, а женщина его обнимает и утешает хотя сама посинела от страха, все время укрывает ребенка как может будто ей удастся защитить его от пуль. потом вертолет всаживает 20-килограммовую бомбу шикарный взрыв и шлюпка разлетается в щепки. и тут дивный кадр: детская рука летит вверх вверх вверх прямо в небо наверное камера на носу вертолета засняла и с мест отведенных партийцам бурные аплодисменты зато женщина в части зала для пролов внезапно поднимает крик и вопит не фиг такое показывать в зале дети нипочем нельзя при детях такое показывать пока полиция ее не выводит сомневаюсь что ей всерьез достанется никого не волнует что пролы говорят типичная реакция пролов они никогда…
Уинстон перестал писать, с непривычки руку свело судорогой. Он понятия не имел, зачем выплеснул на бумагу эту чушь. Самое удивительное, что, пока писал, в памяти всплыл другой случай, причем настолько четко, что хоть бери и записывай. Похоже, как раз из-за того-то случая Уинстон и решил вдруг сегодня вернуться домой и засесть за дневник.
Случилось это утром в министерстве, если только про такое призрачное можно сказать, что оно случилось.
Было около одиннадцати, и сотрудники департамента документации, где работал Уинстон, готовились к Двухминутке ненависти: тащили стулья из своих клетушек и рассаживались в центре холла напротив большого телеэкрана. Уинстон занял место примерно посередине, и тут неожиданно подошли еще двое. Он узнал их лица, хотя знаком с ними не был.
Первой шла темноволосая девушка из департамента беллетристики, имени ее Уинстон не знал, но она часто попадалась ему в коридоре с перепачканными маслом руками и гаечным ключом: скорее всего занималась техобслуживанием аппаратов для написания романов. На вид дерзкая, лет двадцати семи, волосы густые, на лице веснушки, стремительная и спортивная. Поверх комбинезона носит обернутый в несколько раз узкий алый пояс, атрибут Юношеской антисекс-лиги, стянутый в талии ровно настолько, чтобы намекнуть, сколь точены девичьи бедра. Уинстон невзлюбил девушку с первого взгляда, и не без причины: от нее так и веяло здоровым духом спортивных состязаний, ледяного душа, пеших походов и ярой приверженности идеям Партии. Уинстон терпеть не мог почти всех женщин, тем более юных и смазливых. Именно из женщин получались самые фанатичные приверженцы Партии: они слепо верили лозунгам, с готовностью шпионили и доносили, вынюхивали инакомыслящих. Эта же показалась Уинстону особенно опасной. Однажды в коридоре девица бросила быстрый косой взгляд, вонзившийся Уинстону прямо в душу и наполнивший его беспросветным ужасом. Вдруг она агент полиции помыслов? Уинстон сомневался и все же испытывал в ее присутствии непонятную тревогу, смешанную со страхом и жгучей неприязнью.
За нею следовал член Центра Партии по имени О’Брайен, занимающий пост настолько важный и высокий, что Уинстон имел о нем лишь смутные представления. Завидев особу в черном комбинезоне, сидевшие полукругом люди мгновенно умолкли. О’Брайен был крупным, дородным мужчиной с толстой шеей и жестким, насмешливым лицом. Несмотря на брутальную внешность, он обладал определенным шармом и имел привычку поправлять очки на носу совершенно обезоруживающим жестом, делавшим его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагающего собеседнику понюшку табаку (если вдруг кто-то еще мыслит подобными образами). Лет за десять Уинстон видел О’Брайена с десяток раз. Его тянуло к О’Брайену, и не только из-за контраста между обходительными манерами партийца и обликом боксера-тяжеловеса. Уинстон втайне верил – точнее, надеялся,?– что политические взгляды О’Брайена не вполне ортодоксальны. Впрочем, могло статься, что на его лице проступало вовсе не инакомыслие, а природная острота ума. В любом случае, О’Брайен производил впечатление человека, с кем можно, если обмануть телеэкран, поговорить с глазу на глаз. Подтвердить свою догадку Уинстон даже не пытался… да и как это сделать?
О’Брайен бросил взгляд на наручные часы, увидел, что почти одиннадцать ноль-ноль, и решил задержаться на Двухминутку ненависти в департаменте документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, в паре стульев от него. Между ними сидела маленькая песочная блондинка, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка устроилась прямо позади него.
Телеэкран пульнул по залу жутким лязгом, потом заскрежетало, словно пришел в движение огромный несмазанный механизм. От этих звуков у всех присутствующих свело зубы и волосы встали дыбом. Пошла Ненависть.
Как обычно, на экране возникло лицо Эммануэля Гольдштейна, врага народа. Раздались протестующие фырканья. Маленькая блондинка взвизгнула от ужаса и отвращения. Гольдштейн был отступником и изменником, который давным-давно, никто уже и не помнил когда, занимал один из ключевых постов в Партии, чуть ли не наравне с Большим Братом, потом занялся контрреволюционной деятельностью, получил смертный приговор, непонятно как совершил побег и исчез. Программы Двухминуток ненависти менялись ежедневно, но не было ни одной, где Гольдштейн не был бы главной фигурой. Он был первородным изменником, первейшим осквернителем чистоты Партии. Все преступления против Партии, все предательства, диверсии, любое инакомыслие и уклонизм прорастали непосредственно из его учения. Отыскать его никак не удавалось: он то ли вынашивал свои заговоры где-то за границей, под защитой иностранных покровителей, то ли, если верить слухам, затаился в тайном логове в самой Океании.
У Уинстона перехватило дыхание. Внешность Гольдштейна всегда вызывала в нем болезненную смесь чувств. Постное еврейское лицо в пышном ореоле седых волос, козлиная бородка…?– лицо умное и при том какое-то врожденно мерзкое, со стариковской придурью, проступавшей в манере носить очочки на самом кончике длинного тонкого носа. Оно походило на овечью морду, да и блеющий голос был ему под стать. Как обычно, Гольдштейн принялся злобно глумиться над доктриной Партии, причем его грязные инсинуации звучали настолько чудовищно, что не обманули бы и младенца. Впрочем, правдоподобия им хватало, и это наполняло слушателей тревогой, как бы другие, менее здравомыслящие, им не вняли. Гольдштейн оскорблял Большого Брата, клеймил диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, истерично вопил, что идеалы революции преданы,?– и все это скороговоркой, с использованием многосоставных слов, пародируя манеру речи партийных ораторов, он даже вставлял в речь привычные обороты новослова, причем гораздо чаще, чем любой член Партии. При этом, дабы никто не усомнился в подлинной сущности того, что скрывается за лживыми, трескучими фразами Гольдштейна, на заднем плане маршировали бесчисленные шеренги евразийской армии, ряд за рядом шагали могучие азиаты с бесстрастными лицами, и глухой грохот солдатских сапог служил фоном блеянию Гольдштейна.
С начала Ненависти прошло каких-нибудь полминуты, а половина зрителей уже не могла сдерживать негодующих возгласов. Смотреть на самодовольную овечью морду на фоне ужасающей мощи евразийской армии было невыносимо, к тому же сам вид Гольдштейна и даже мысль о нем рефлекторно вызывали страх и гнев. Он стал объектом общественной ненависти гораздо более постоянным, чем Евразия или Востазия, поскольку Океания поочередно воевала с одной сверхдержавой и находилась в состоянии мира с другой. Гольдштейна ненавидели и презирали все, каждый день и по тысяче раз на дню с трибун, с телеэкранов, со страниц газет и книг его теории опровергали, разносили в пух и прах, высмеивали, выводили на чистую воду, но, как ни странно, влияние его не уменьшалось. Всегда находились простофили, только и ждавшие, чтобы он их совратил. Не проходило и дня, чтобы полиция помыслов не разоблачила новых шпионов и диверсантов, которые действовали по его указке. Он командовал огромной призрачной армией, подпольной сетью заговорщиков, стремившихся к свержению власти. Звалась она, по слухам, Братством. Еще ходили слухи об ужасной книге, средоточии всех ересей, написанной самим Гольдштейном, которую тайно передавали из рук в руки. Названия у нее не было. Люди, если вообще отваживались заговорить об этом, так и называли – Книга. Кроме неясных слухов мало что удавалось узнать: рядовые члены Партии старались вообще не упоминать в разговорах ни Братство, ни Книгу.
На второй минуте ненависть вылилась в исступление. Люди вскакивали с мест и орали во всю глотку, пытаясь заглушить бесившее их блеяние с экрана. Маленькая блондинка от натуги стала малиновой и разевала рот, как выброшенная на берег рыба. Грузное лицо О’Брайена налилось краской. Он сидел очень прямо, мощная грудь вздымалась и вздрагивала, словно он пытался устоять в полосе прибоя. Темноволосая позади Уинстона сорвалась в крик: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – и вдруг схватила тяжелый «Словник новослова» и швырнула в экран. Книга ударила Гольдштейна по носу и отскочила, а голос неумолимо продолжал вещать… В редкий момент просветления Уинстон поймал себя на том, что кричит вместе со всеми и яростно колотит ногами по нижней перекладине стула.
Джордж Оруэлл
«1984» – своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века – «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» или доведенное до абсолюта «общество идеи»? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы…
«Скотный двор» – притча, полная юмора и сарказма. Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного общества? Конечно, да. Но… каким увидят это общество его «граждане» – животные, обреченные на бойню?
«Да здравствует фикус!» – горький, ироничный роман, во многом автобиографичный.
Главный герой – Гордон Комсток, непризнанный поэт, писатель-неудачник, вынужденный служить в рекламном агентстве, чтобы заработать на жизнь. У него настоящий талант к сочинению слоганов, но его работа внушает ему отвращение, представляется карикатурой на литературное творчество. Он презирает материальные ценности и пошлость обыденного уклада жизни, символом которого становится фикус на окне. Во всех своих неудачах он винит деньги, но гордая бедность лишь ведет его в глубины депрессии…
Комстоку необходимо понять, что кроме высокого искусства существуют и простые радости, а в стремлении заработать деньги нет ничего постыдного. Что же спасет его?
Джордж Оруэлл
1984. Скотный двор. Да здравствует фикус!
© Школа перевода В. Баканова, 2022
© Перевод. С. Таск, 2015
© Перевод. В. Домитеева, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
1984
Часть первая
I
Стоял ясный и холодный апрельский день, часы били тринадцать, когда Уинстон Смит, горбясь и тыкаясь подбородком в грудь в попытке укрыться от пронизывающего ветра, спешно скользнул в стеклянные двери жилкомплекса «Дворец Победы». Спешка вышла неловкой, и завиток колкой пыли прорвался внутрь вслед за ним.
В вестибюле воняло вареной капустой и старыми половиками. В одном углу к стене прилеплен цветной плакат, чересчур большой для помещений. На нем просто огромадное, больше метра в ширину, лицо сурового красавца лет сорока пяти с густыми черными усами. Уинстон направился к лестнице, не надеясь на лифт. Тот и в лучшие времена работал редко, а сейчас в светлое время суток электричество вообще отключали в целях экономии: близилась Неделя ненависти. До квартиры надо было одолеть семь лестничных пролетов, и Уинстон поднимался медленно, останавливался, переводя дух, на каждой площадке: ему было уже тридцать девять, да и варикозная язва на правой лодыжке давала о себе знать. На каждой площадке со стены напротив лифта взирало огромадное лицо. Изображение было из тех портретов, взгляд глаз на которых неотрывно следовал за тобой, куда ни двинься. Надпись внизу гласила: «Большой Брат следит за тобой».
Внутри квартиры звучный голос зачитывал какие-то цифры, вроде бы данные о производстве чугуна. Голос лился из вправленной в стену справа от входа прямоугольной металлической пластины, похожей на тусклое зеркало. Уинстон повернул регулятор, стало потише, хотя слова все еще доносились довольно отчетливо. Агрегат, звавшийся телеэкраном, можно было приглушить, но не выключить. Уинстон перешел к окну, невысокий и щуплый, в синем комбинезоне члена Партии, который лишь подчеркивал его худобу. У него были светлые волосы и раскрасневшееся лицо, кожа шершавилась от грубого, дешевого мыла, бритья тупыми лезвиями и недавно закончившейся морозной зимы.
Снаружи, несмотря на закрытое окно, тянуло холодом. Ветер кружил по улице пыль и обрывки бумаги. На ярко-голубом небе сияло солнце, и все же город казался лишенным цвета, не считая расклеенных повсюду плакатов. Усатое лицо взирало с каждого заметного угла. На фасаде дома напротив раскинулась надпись: «Большой Брат следит за тобой» – и взгляд темных глаз забирался Уинстону прямо в душу. Дальше по улице на уровне первого этажа судорожно хлопал на ветру еще один плакат, то открывая, то закрывая слово «ангсоц». Вдалеке между крышами скользил вертолет, то зависая, как трупная муха, то стремительно уносясь прочь по дуге. Это полицейский патруль бдительно заглядывал в окна граждан. Впрочем, патрулей можно не опасаться. Другое дело полиция помыслов…
За спиной Уинстона голос с телеэкрана вещал о чугуне и перевыполнении Девятой трехлетки. Агрегат одновременно работал на передачу и прием сигнала. Он различал любой звук громче тихого шепота и вдобавок транслировал изображение из комнаты, если ты попадал в зону обзора. Понять, наблюдают за тобой или нет, невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому принципу полиция помыслов подключается к твоему телеэкрану. Не исключено, что следят за всеми круглосуточно. В любом случае, могли подключиться когда угодно. Приходилось жить… да что там, ты всегда жил по привычке, давно ставшей инстинктом… исходя из предположения, что любой твой звук слышат и любое движение, кроме как в темноте, тщательно изучают.
Уинстон держался к телеэкрану спиной. Так безопаснее, хотя он прекрасно знал, что даже спина может выдать. Над тусклым от копоти пейзажем возвышалось трехсотметровое белое здание министерства правды – его место работы. Вот он, подумал Уинстон с глухим отвращением, вот он, Лондон, главный город Авиабазы-1, третьей по населенности провинции Океании. Уинстон пытался извлечь из памяти хоть какое-нибудь воспоминание о Лондоне своего детства. Всегда ли здесь было так? Всегда ли панораму города составляли гниющие домишки девятнадцатого века, подпертые деревянными балками, с заколоченными фанерой окнами, с крышами из рифленого железа, с расползающимися во все стороны стенами палисадов? А места бомбежек, где в воздухе кружит асбестовая пыль и руины покрываются кипреем, а проломы среди домов мгновенно зарастают убогими деревянными лачугами, похожими на курятники? Без толку. Ему не вспомнить ничего: от детства остались лишь ярко освещенные картинки, вырванные из чего-то целого, большей частью невнятные.
Здание министерства правды (миниправ на новослове[1 - Новослов – официальный язык Океании. Сведения о его структуре и этимологии см. в Приложении. (Примеч. авт.)]) разительно отличалось от других за окном. Громадина пирамиды из сверкающего белого бетона возносилась ввысь ступенчатыми террасами. С той точки, где стоял Уинстон, на стене высотки отчетливо читались выведенные изящными буквами три лозунга Партии:
ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА
Говорили, что в министерстве правды три тысячи кабинетов над землей и столько же в подземных этажах. По Лондону стояли еще три здания того же вида и размера. Они разительно выделялись на фоне окружающей архитектуры, и с крыши «Дворца Победы» было видно все четыре разом. В них располагались четыре министерства, составляющие правительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, зрелищами, образованием и искусством. Министерство мира ведало военными делами. Министерство любви обеспечивало закон и порядок. Министерство благоденствия решало экономические вопросы. На новослове их названия звучали как миниправ, минимир, минилюб и миниблаг.
Самое жуткое – министерство любви, здание без единого окна. Уинстон никогда там не бывал, даже не подходил ближе чем на полкилометра. Просто так в министерство не попасть, только по долгу службы, да и то миновав настоящий лабиринт из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Улицы, ведущие к внешней полосе заграждений, патрулировали похожие на горилл охранники в черной униформе, вооруженные резиновыми дубинками.
Уинстон резко отвернулся от окна, придав лицу подобающее перед телеэкраном выражение сдержанного оптимизма, и прошел в крошечную кухню. Покинув министерство так рано, он пожертвовал обедом в столовой, хотя и знал, что дома из еды остался лишь ломоть черного хлеба, да и тот на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой наклейкой «Джин Победа». В нос ударил отвратный, маслянистый запах, как от китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и выпил залпом, как лекарство.
Лицо его побагровело, глаза увлажнились. На вкус как азотная кислота, а проглотишь – будто резиновой дубинкой по затылку огрели. Впрочем, вскоре жжение в животе прошло, и Уинстон повеселел. Он достал из смятой пачки «Победа» папиросу, по рассеянности держа ее вертикально, и табак мигом высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Уинстон вернулся в гостиную и присел за стол слева от телеэкрана. Из ящика он вынул перьевую ручку, чернила и толстый, в четверть листа альбом для записей с красным корешком и обложкой под мрамор.
По неясной причине телеэкран в гостиной был установлен не как положено. Обычно его монтировали с торца, чтобы просматривалось все помещение, но здесь он висел на длинной стене, напротив окна. Сбоку находилось небольшое углубление, где сейчас затаился Уинстон,?– вероятно, спроектированное для книжных полок. Сидя в нише и не высовываясь, Уинстон не попадал в поле обзора телеэкрана. Конечно, его могло быть слышно, зато не видно. Отчасти из-за нестандартной планировки квартиры он и задумал то, за что готовился сейчас взяться.
Впрочем, на эту мысль его навела и удивительно красивая, чуть пожелтевшая от времени книга, которую он достал из ящика. Гладкую кремовую бумагу лет сорок как сняли с производства. Уинстон подозревал, что книга еще старше. Он заметил ее в витрине захудалой лавки старьевщика, бродя по трущобам пролов, и тут же загорелся. Членам Партии не полагалось отовариваться в обычных магазинах (так сказать, «приобретать товары на свободном рынке»), но иногда на это смотрели сквозь пальцы: иначе всякими мелочами вроде шнурков или бритвенных лезвий разжиться не получалось. Уинстон оглянулся по сторонам, заскочил в лавку и купил книгу за два с половиной доллара. Он еще и сам не знал, зачем она ему нужна. Поспешно сунув добычу в портфель, он отправился домой. Даже с чистыми страницами книга изрядно компрометировала своего обладателя.
Дело в том, что Уинстон собрался вести дневник. Законом это не запрещалось (в Океании не запрещалось ровным счетом ничего, поскольку никаких законов давно не было), однако если б дневник нашли, ему грозила бы смерть или в лучшем случае лет двадцать пять в исправительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в держатель и облизнул, чтобы удалить смазку. Ручки давно вышли из употребления – их даже для подписи почти не использовали, и Уинстон раздобыл свою украдкой и не без труда; ему казалось, что на красивой бумаге следует писать настоящими чернилами, а не корябать впопыхах химическим карандашом. Вообще-то держать перо он не привык. На работе велась диктовка в речеписец, который по понятным причинам тут совершенно не годился. Уинстон макнул перо в чернила и замер, чувствуя невольный трепет. Стоит коснуться бумаги пером, и возврата не будет. Маленькими корявыми буквами он вывел:
4 апреля 1984 года
Откинулся на стуле. Уинстона охватило чувство полнейшей беспомощности. Прежде всего он вовсе не был уверен, что ныне шел именно 1984 год. Ему тридцать девять лет, родился в сорок четвертом или сорок пятом, но определить дату без погрешности в год или два теперь никому не по силам.
Для кого же его дневник? Уинстон внезапно задумался. Для грядущих поколений, для тех, кто еще не родился? Мысли зависли над сомнительной датой, потом наскочили с размаху на слово «двоемыслие». Впервые до него дошла грандиозность поставленной задачи. Как общаться с будущим? В силу объективных причин это невозможно. Либо оно похоже на настоящее и тогда пропустит его слова мимо ушей, либо вовсе непохоже, и тогда рисковать вообще не имеет смысла.
Он посидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкран переключился на бравурный военный марш. У Уинстона возникло чувство, что он не только утратил способность выражать свои мысли, но вообще позабыл, о чем собирался писать. Он готовился к этому неделями, и ему не приходило в голову, что одним мужеством здесь не обойдешься. Водить пером по бумаге несложно. Просто берешь и переносишь на нее нескончаемый внутренний монолог, который ведешь годами. Впрочем, на данный момент иссяк даже он. Вдобавок отчаянно зачесалась язва на правой ноге. Уинстон побоялся ее трогать, чтобы снова не воспалилась. Бежали секунды. Он не замечал ничего, кроме пустой страницы перед собой, зуда в лодыжке, грохота марша и легкого опьянения.
Внезапно Уинстон торопливо застрочил мелким, похожим на детский почерком, едва сознавая, что выходит из-под пера. Строки гуляли по странице то вверх, то вниз, постепенно исчезли заглавные буквы, а следом и знаки препинания:
4 апреля 1984 года. Вчера вечером в кино. Фильмы только про войну. Один очень хорош: там бомбили корабль, набитый беженцами, где-то в Средиземном море. Публика восторгалась кадрами расстрела невероятно огромного толстяка, пытавшегося вплавь удрать от охотившегося за ним вертолета; сначала видишь, как он, будто чудище морское, барахтается в воде, потом видишь его в перекрестье прицела вертолетного пулемета, потом в нем наделали дырок, море вокруг порозовело, и толстяк вдруг камнем пошел ко дну, будто в пробоины от пуль хлынула вода, публика покатывалась от хохота, пока он тонул. потом показали спасательную шлюпку, полную детей, а над ней кружил вертолет. на носу шлюпки сидит средних лет женщина, должно быть, еврейка, с трехлетним малышом на руках. карапуз визжит от страха, прячет голову у нее между грудей будто старается вглубь зарыться, а женщина его обнимает и утешает хотя сама посинела от страха, все время укрывает ребенка как может будто ей удастся защитить его от пуль. потом вертолет всаживает 20-килограммовую бомбу шикарный взрыв и шлюпка разлетается в щепки. и тут дивный кадр: детская рука летит вверх вверх вверх прямо в небо наверное камера на носу вертолета засняла и с мест отведенных партийцам бурные аплодисменты зато женщина в части зала для пролов внезапно поднимает крик и вопит не фиг такое показывать в зале дети нипочем нельзя при детях такое показывать пока полиция ее не выводит сомневаюсь что ей всерьез достанется никого не волнует что пролы говорят типичная реакция пролов они никогда…
Уинстон перестал писать, с непривычки руку свело судорогой. Он понятия не имел, зачем выплеснул на бумагу эту чушь. Самое удивительное, что, пока писал, в памяти всплыл другой случай, причем настолько четко, что хоть бери и записывай. Похоже, как раз из-за того-то случая Уинстон и решил вдруг сегодня вернуться домой и засесть за дневник.
Случилось это утром в министерстве, если только про такое призрачное можно сказать, что оно случилось.
Было около одиннадцати, и сотрудники департамента документации, где работал Уинстон, готовились к Двухминутке ненависти: тащили стулья из своих клетушек и рассаживались в центре холла напротив большого телеэкрана. Уинстон занял место примерно посередине, и тут неожиданно подошли еще двое. Он узнал их лица, хотя знаком с ними не был.
Первой шла темноволосая девушка из департамента беллетристики, имени ее Уинстон не знал, но она часто попадалась ему в коридоре с перепачканными маслом руками и гаечным ключом: скорее всего занималась техобслуживанием аппаратов для написания романов. На вид дерзкая, лет двадцати семи, волосы густые, на лице веснушки, стремительная и спортивная. Поверх комбинезона носит обернутый в несколько раз узкий алый пояс, атрибут Юношеской антисекс-лиги, стянутый в талии ровно настолько, чтобы намекнуть, сколь точены девичьи бедра. Уинстон невзлюбил девушку с первого взгляда, и не без причины: от нее так и веяло здоровым духом спортивных состязаний, ледяного душа, пеших походов и ярой приверженности идеям Партии. Уинстон терпеть не мог почти всех женщин, тем более юных и смазливых. Именно из женщин получались самые фанатичные приверженцы Партии: они слепо верили лозунгам, с готовностью шпионили и доносили, вынюхивали инакомыслящих. Эта же показалась Уинстону особенно опасной. Однажды в коридоре девица бросила быстрый косой взгляд, вонзившийся Уинстону прямо в душу и наполнивший его беспросветным ужасом. Вдруг она агент полиции помыслов? Уинстон сомневался и все же испытывал в ее присутствии непонятную тревогу, смешанную со страхом и жгучей неприязнью.
За нею следовал член Центра Партии по имени О’Брайен, занимающий пост настолько важный и высокий, что Уинстон имел о нем лишь смутные представления. Завидев особу в черном комбинезоне, сидевшие полукругом люди мгновенно умолкли. О’Брайен был крупным, дородным мужчиной с толстой шеей и жестким, насмешливым лицом. Несмотря на брутальную внешность, он обладал определенным шармом и имел привычку поправлять очки на носу совершенно обезоруживающим жестом, делавшим его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагающего собеседнику понюшку табаку (если вдруг кто-то еще мыслит подобными образами). Лет за десять Уинстон видел О’Брайена с десяток раз. Его тянуло к О’Брайену, и не только из-за контраста между обходительными манерами партийца и обликом боксера-тяжеловеса. Уинстон втайне верил – точнее, надеялся,?– что политические взгляды О’Брайена не вполне ортодоксальны. Впрочем, могло статься, что на его лице проступало вовсе не инакомыслие, а природная острота ума. В любом случае, О’Брайен производил впечатление человека, с кем можно, если обмануть телеэкран, поговорить с глазу на глаз. Подтвердить свою догадку Уинстон даже не пытался… да и как это сделать?
О’Брайен бросил взгляд на наручные часы, увидел, что почти одиннадцать ноль-ноль, и решил задержаться на Двухминутку ненависти в департаменте документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, в паре стульев от него. Между ними сидела маленькая песочная блондинка, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка устроилась прямо позади него.
Телеэкран пульнул по залу жутким лязгом, потом заскрежетало, словно пришел в движение огромный несмазанный механизм. От этих звуков у всех присутствующих свело зубы и волосы встали дыбом. Пошла Ненависть.
Как обычно, на экране возникло лицо Эммануэля Гольдштейна, врага народа. Раздались протестующие фырканья. Маленькая блондинка взвизгнула от ужаса и отвращения. Гольдштейн был отступником и изменником, который давным-давно, никто уже и не помнил когда, занимал один из ключевых постов в Партии, чуть ли не наравне с Большим Братом, потом занялся контрреволюционной деятельностью, получил смертный приговор, непонятно как совершил побег и исчез. Программы Двухминуток ненависти менялись ежедневно, но не было ни одной, где Гольдштейн не был бы главной фигурой. Он был первородным изменником, первейшим осквернителем чистоты Партии. Все преступления против Партии, все предательства, диверсии, любое инакомыслие и уклонизм прорастали непосредственно из его учения. Отыскать его никак не удавалось: он то ли вынашивал свои заговоры где-то за границей, под защитой иностранных покровителей, то ли, если верить слухам, затаился в тайном логове в самой Океании.
У Уинстона перехватило дыхание. Внешность Гольдштейна всегда вызывала в нем болезненную смесь чувств. Постное еврейское лицо в пышном ореоле седых волос, козлиная бородка…?– лицо умное и при том какое-то врожденно мерзкое, со стариковской придурью, проступавшей в манере носить очочки на самом кончике длинного тонкого носа. Оно походило на овечью морду, да и блеющий голос был ему под стать. Как обычно, Гольдштейн принялся злобно глумиться над доктриной Партии, причем его грязные инсинуации звучали настолько чудовищно, что не обманули бы и младенца. Впрочем, правдоподобия им хватало, и это наполняло слушателей тревогой, как бы другие, менее здравомыслящие, им не вняли. Гольдштейн оскорблял Большого Брата, клеймил диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, истерично вопил, что идеалы революции преданы,?– и все это скороговоркой, с использованием многосоставных слов, пародируя манеру речи партийных ораторов, он даже вставлял в речь привычные обороты новослова, причем гораздо чаще, чем любой член Партии. При этом, дабы никто не усомнился в подлинной сущности того, что скрывается за лживыми, трескучими фразами Гольдштейна, на заднем плане маршировали бесчисленные шеренги евразийской армии, ряд за рядом шагали могучие азиаты с бесстрастными лицами, и глухой грохот солдатских сапог служил фоном блеянию Гольдштейна.
С начала Ненависти прошло каких-нибудь полминуты, а половина зрителей уже не могла сдерживать негодующих возгласов. Смотреть на самодовольную овечью морду на фоне ужасающей мощи евразийской армии было невыносимо, к тому же сам вид Гольдштейна и даже мысль о нем рефлекторно вызывали страх и гнев. Он стал объектом общественной ненависти гораздо более постоянным, чем Евразия или Востазия, поскольку Океания поочередно воевала с одной сверхдержавой и находилась в состоянии мира с другой. Гольдштейна ненавидели и презирали все, каждый день и по тысяче раз на дню с трибун, с телеэкранов, со страниц газет и книг его теории опровергали, разносили в пух и прах, высмеивали, выводили на чистую воду, но, как ни странно, влияние его не уменьшалось. Всегда находились простофили, только и ждавшие, чтобы он их совратил. Не проходило и дня, чтобы полиция помыслов не разоблачила новых шпионов и диверсантов, которые действовали по его указке. Он командовал огромной призрачной армией, подпольной сетью заговорщиков, стремившихся к свержению власти. Звалась она, по слухам, Братством. Еще ходили слухи об ужасной книге, средоточии всех ересей, написанной самим Гольдштейном, которую тайно передавали из рук в руки. Названия у нее не было. Люди, если вообще отваживались заговорить об этом, так и называли – Книга. Кроме неясных слухов мало что удавалось узнать: рядовые члены Партии старались вообще не упоминать в разговорах ни Братство, ни Книгу.
На второй минуте ненависть вылилась в исступление. Люди вскакивали с мест и орали во всю глотку, пытаясь заглушить бесившее их блеяние с экрана. Маленькая блондинка от натуги стала малиновой и разевала рот, как выброшенная на берег рыба. Грузное лицо О’Брайена налилось краской. Он сидел очень прямо, мощная грудь вздымалась и вздрагивала, словно он пытался устоять в полосе прибоя. Темноволосая позади Уинстона сорвалась в крик: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – и вдруг схватила тяжелый «Словник новослова» и швырнула в экран. Книга ударила Гольдштейна по носу и отскочила, а голос неумолимо продолжал вещать… В редкий момент просветления Уинстон поймал себя на том, что кричит вместе со всеми и яростно колотит ногами по нижней перекладине стула.