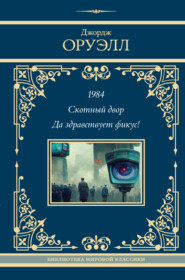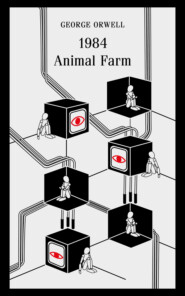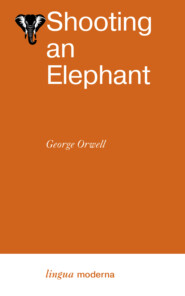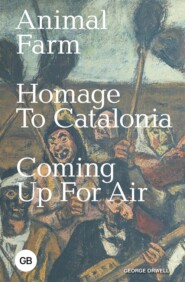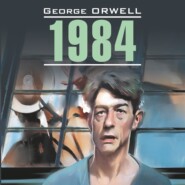По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения. 1984. Скотный двор. Воспоминания о войне в Испании. Иллюстрированное издание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Целью Партии было не просто помешать мужчинам и женщинам построить отношения, которые она не могла бы контролировать. Ее истинная, негласная цель заключалась в том, чтобы лишить половой акт какого-либо удовольствия. Не столько любовь была врагом, сколько эротизм, как в браке, так и вне него. Все браки между членами Партии должны были быть одобрены комитетом, созданным именно для этой цели. И, хотя эта причина никогда официально не оглашалась, в разрешении всегда отказывали, если соответствующая пара производила впечатление такой, где между партнерами существует физическое влечение. Единственной признанной целью брака было зачать детей для их будущей службы на благо Партии и государства. Половой акт должен был рассматриваться как слегка отвратительная незначительная процедура вроде клизмы. Это опять-таки никогда не говорилось прямо, а косвенным путем вкладывалось в сознание каждого члена Партии с самого детства. Для этого и существовали такие организации, как Молодежная антисексуальная лига, которые выступали за полное целомудрие для обоих полов. Все дети должны были быть рождены путем искусственного оплодотворения («ископлод» на новоязе) и воспитываться в государственных учреждениях. Уинстон понимал, что все это было не всерьез, но каким-то образом это прекрасно соответствовало общей партийной идеологии. Партия пыталась убить сексуальный инстинкт или, если его нельзя было убить, извратить, сделать чем-то грязным и постыдным. Он не знал, почему это было так, но почему-то это казалось ему логичным и естественным. Что касается женщин, то усилия Партии в этом плане оказались весьма успешными.
Он снова подумал о Кэтрин. Должно быть, девять, десять, почти одиннадцать лет прошло с тех пор, как они расстались. Он на удивление редко о ней думал. Бывало, он вообще забывал, что когда-либо был женат. Они были вместе около пятнадцати месяцев. Вообще Партия не разрешала развод, но позволяла жить отдельно в случаях, когда у пары не было детей.
Кэтрин была высокой светловолосой девушкой, стройной и грациозной. У нее были правильные тонкие черты лица, и внешность ее можно было бы назвать благородной, пока не становилось понятно, что за этим красивым лицом прячется лишь полнейшая пустота. В самом начале их семейной жизни он понял – хотя, возможно, только потому, что узнал ее ближе, чем остальные люди, – что у нее, пожалуй, самый глупый, извращенный и пустой ум, с которым он когда-либо сталкивался. Все мысли в ее голове сводились к партийным лозунгам, и она проглатывала и верила в любой бред, если он исходил от Партии. «Заевшая пластинка» – вот как он прозвал ее в собственном сознании. И даже с этим он мог бы мириться, если бы не одно – секс.
Как только он прикасался к ней, она, казалось, вздрагивала и застывала. Обнимать ее было все равно, что обнимать бревно. И что было еще более странно, даже когда она прижимала его к себе, ему казалось, что она одновременно отталкивает его изо всех сил. Все ее тело будто деревенело. Она лежала с закрытыми глазами, она не сопротивлялась, но и не помогала. Было такое впечатление, что она просто подчиняется партийному правилу или указанию. Это было крайне неловко, а через некоторое время стало просто невыносимым. Но даже тогда он готов был жить с ней, если бы они просто договорились хранить целомудрие, и на этом все. Но, как ни странно, от этой идеи отказалась сама Кэтрин. Она сказала, что они должны произвести на свет ребенка. Так что этот спектакль абсурда продолжался регулярно, раз в неделю, когда это было возможно. Она даже напоминала ему об этом по утрам как о чем-то, что нужно было сделать этим вечером и о чем нельзя забывать. У нее было два названия для этого. Одно – «зачать ребенка», а второе – «наш долг перед Партией» (да, она действительно использовала эту фразу). Вскоре у него появилось прямо-таки чувство страха перед предстоящим занятием. Но, к счастью, ребенка зачать никак не удавалось, и в конце концов она согласилась бросить попытки, и вскоре после этого они расстались.
Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:
«Она бросилась на кровать и тут же, без всякой предварительной подготовки, самым грубым и вульгарным образом, вы можете себе представить, задрала юбку. Я…»
Он увидел себя стоящим там в тусклом свете лампы, с запахом клопов и дешевых духов в ноздрях, он чувствовал бессилие и негодование, которые даже в тот момент смешивались с мыслью о белом теле Кэтрин, застывшем навеки под гипнотической силой Партии. Неужели так будет всегда? Почему у него не может быть собственной женщины вместо этих мерзких сношений раз в несколько лет? Но настоящие романтические отношения были событием почти немыслимым. Все партийные женщины были одинаковые. Целомудрие укоренилось в них так же глубоко, как и партийная преданность. Благодаря тщательной ранней подготовке, обливаниям ледяной водой, ахинее, которую вколачивали в их головы в школе и в Отряде юных разведчиков, а потом и в Молодежной лиге, благодаря лекциям, парадам, песням, лозунгам и маршам естественные чувства и эмоции были вытеснены из них. Его разум подсказывал ему, что должны быть исключения, но его сердце уже не верило этому. Все они были неприступны, как и требовала Партия. Но больше, чем быть любимым, ему хотелось сломать эту стену добродетели, даже если это было бы всего один раз за всю его жизнь. Полноценный половой акт считался бунтом. Влечение считалось преступлением. Даже возбудить Кэтрин, если бы он смог этого добиться, считалось бы совращением, хотя она была его женой.
Но остальную часть истории нужно было записать. Поэтому он продолжил:
«Я включил лампу. Когда я увидел ее при свете…»
После темноты улицы даже слабый свет парафиновой лампы казался слишком ярким. Наконец-то перед ним была настоящая женщина. Он сделал шаг к ней и остановился, его переполняли похоть и ужас. Он прекрасно осознавал риск, на который пошел, приехав сюда. Вполне возможно, что патрули схватят его на выходе. Если уж на то пошло, они могли уже поджидать за дверью. Если он уйдет, даже не сделав того, ради чего пришел сюда…
Нужно было все это записать, ему нужно было во всем признаться. При свете лампы он неожиданно для себя понял, что женщина старая. Макияж был нанесен на ее лицо так густо, что казалось, вся эта фарфоровая маска вот-вот треснет. Ее волосы были седыми, но поистине ужасной деталью было то, что когда ее рот приоткрылся, там не было ничего, кроме зияющей черной бездны. У нее совсем не было зубов.
Он нервно написал дрожащим почерком:
«Когда я увидел ее при свете, она была совсем старой женщиной, лет пятидесяти по крайней мере. Но это меня не остановило, и я сделал то, зачем туда пришел».
Он снова нажал пальцами на веки. Наконец-то он это записал, но это не подействовало, терапия не сработала. Желание выкрикивать грязные ругательства во весь голос сейчас было как никогда сильным.
Глава 7
Уинстон писал, что если и есть надежда, то только на пролов.
«Только на них вся надежда, потому что только среди них, в этой огромной игнорируемой массе, которая, к слову, составляла 85 % населения Океании, может когда-нибудь появиться сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя было свергнуть изнутри. Ее враги, если таковые были, не имели возможности сгруппироваться или даже идентифицировать друг друга. Даже если легендарное Братство и существовало, то было очень маловероятно, что его члены когда-либо собирались в количестве большем, чем двое или трое. Для них взгляд глаза в глаза, легкое изменение тона голоса, опрокинутое шепотом слово уже было проявлением бунта. Но пролы, если бы только они могли каким-то образом осознать свою силу, не нуждались бы в заговоре. Им нужно было только встать и встряхнуться, как лошадь, стряхивающая с себя мух. Если бы они захотели, они могли бы уже завтра утром разнести Партию на кусочки. Конечно, рано или поздно им должно прийти это в голову! И все же…!»
Он вспомнил, как однажды шел по многолюдной улице, и ужасный крик сотен женских голосов донесся из переулка впереди. Это был грозный вопль гнева и отчаяния, гортанное, громкое «О-о-о-о!», которое гудело, как сигнал приближающегося поезда. Его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Началось! – подумал он. – Бунт! Пролы наконец-то вырвались на свободу!» Когда он добрался до места, то увидел толпу из двухсот или трехсот женщин, толкающихся возле прилавков на рынке, с такими трагическими лицами, как будто они были обреченными пассажирами тонущего корабля. Но в этот момент всеобщее отчаяние переросло во множество индивидуальных ссор. Оказалось, что в одном из прилавков продавались жестяные кастрюли. Они были жалкие и хлипкие, но достать хоть какие-то кастрюли всегда было трудно. Теперь же их запас вообще неожиданно закончился. Счастливые обладательницы последних экземпляров, которых сейчас во всю толкали и пинали, пытались убежать со своими кастрюлями, в то время как десятки других женщин шумели вокруг прилавка, обвиняя продавца в предвзятом отношении и в том, что где-то в запасе у него остались еще кастрюли. Раздался новый взрыв криков. Две полные женщины, одна с распущенными волосами, схватились за одну кастрюлю и начали тянуть ее из стороны в сторону. Через некоторое время ручки кастрюли просто оторвались. Уинстон с отвращением смотрел на них. И все же всего на мгновение какая-то почти устрашающая сила была в этом крике пары сотен человек! Почему они никогда не кричали так же о чем-нибудь важном?
Он написал:
«Пока они не станут сознательными, они никогда не восстанут, и пока они не восстанут, они не смогут стать сознательными».
Это, подумал он, могло бы стать цитатой, достойной одного из партийных учебников. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от неволи. До революции капиталисты ужасно притесняли их, морили голодом и пороли, женщин заставляли работать на угольных шахтах (на самом деле женщины все еще работали на угольных шахтах), детей продавали на фабрики в возрасте шести лет. Но в то же время, придерживаясь принципов двоемыслия, Партия утверждала, что пролы по природе низшие существа и их нужно держать в подчинении, как животных, путем применения нескольких простых правил. В действительности о пролах было известно очень мало. Да и никому это не было интересно. Пока они продолжали работать и размножаться, другие их занятия не имели значения. Предоставленные самим себе, как рогатый скот, брошенный на равнинах Аргентины, они вернулись к образу жизни, который казался им естественным, своего рода запрограммированным на генном уровне. Они рождались и росли в сточной канаве, шли на работу в двенадцать лет, проходили через короткий период расцвета красоты и сексуального желания, выходили замуж в двадцать, начинали увядать в тридцать и умирали по большей части в шестьдесят. Тяжелый физический труд, забота о доме и детях, мелкие ссоры с соседями, фильмы, футбол, пиво и, прежде всего, азартные игры были границами их сознания. Удержать их под контролем было несложно. Несколько агентов Полиции мыслей постоянно внедрялись в их ряды, распространяя ложные слухи, выявляя и устраняя тех немногих, которые были признаны потенциально опасными. Но никаких попыток внушать им идеологию Партии не предпринималось. Развивать политические интересы у пролов было нежелательно. Все, что от них требовалось, – это примитивный патриотизм, к которому можно было прибегать всякий раз, когда необходимо было заставить их согласиться на более продолжительный рабочий день или укороченный паек. И даже когда они становились недовольными, что все же происходило время от времени, их недовольство ни к чему не приводило, потому что, не имея общих глобальных идей, они могли сосредоточиться только на конкретных мелких жалобах. Большее зло неизменно ускользало от их внимания. Подавляющее большинство пролов не имело в домах телеэкранов. Даже гражданская полиция их особо не трогала. В Лондоне было огромное количество преступников: воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и мошенников всех мастей, но поскольку все они тоже были пролами, это не имело значения. Во всех вопросах нравственности им разрешалось следовать кодексу своих предков. Сексуальное пуританство Партии им не навязывалось. Беспорядочные половые связи оставались безнаказанными, развод разрешался. В этом отношении даже религиозное поклонение было бы разрешено, если бы пролы проявляли хоть какие-то признаки желания или необходимости в нем. Они не вызывали подозрений. Как гласил партийный лозунг, «пролы и животные – существа, свободные от обязательств».
Уинстон наклонился и осторожно почесал варикозную язву. Она снова начала зудеть. Как бы там ни было, ты всегда возвращался к тому, что невозможно было узнать, какой на самом деле была жизнь до революции. Он достал из ящика экземпляр учебника по истории для детей, который позаимствовал у миссис Парсонс, и начал переписывать отрывок в дневник:
«В старые времена, до славной революции, Лондон не был тем красивым городом, которым мы знаем его сегодня. Это было темное, грязное, жалкое место, где почти никому не хватало еды и где у сотен, а то и тысяч бедняков не было обуви на ногах, у них даже крыши над головой не было. Детям не старше вас приходилось работать по двенадцать часов в день на жестоких хозяев, которые пороли их плетками, если те работали слишком медленно, и кормили их только черствыми корками хлебы и водой.
И среди всей этой ужасной бедности было всего несколько больших роскошных домов, где жили богатые люди, у которых было по тридцать слуг, удовлетворявших все их прихоти. Этих богатых людей называли капиталистами. Это были толстые уродливые люди со злыми лицами, как изображено на картинке на следующей странице. Вы можете видеть, что капиталист одет в длинное черное пальто, которое звалось сюртуком, и странную лаковую шляпу в форме дымохода, которую называли цилиндром. Это была униформа капиталистов, и больше никому не разрешалось ее носить. Капиталисты владели всем в мире, а все остальные были их рабами. Им принадлежали вся земля, все дома, все фабрики и все деньги мира. Если кто-то их не слушался, они могли бросить их в тюрьму, лишить работы и заморить голодом. Когда любой обычный человек говорил с капиталистом, он должен был съежиться и поклониться ему, снять фуражку и обращаться к нему «сэр». Главного капиталиста называли королем, и…»
О чем говорилось в учебнике дальше, он знал. Там были упоминания о епископах в балахонах с батистовыми рукавами, о судьях в горностаевых накидках, о позорном столбе, биржах ценных бумаг, однообразном механическом труде, плетях для наказаний, расточительных приемах у лорда-мэра города и привычке падать в ноги главе церкви и целовать ему ботинки. Также существовало так называемое правило jus primae noctis, о котором, вероятно, не упоминалось бы в учебниках для детей. Это был закон, по которому каждый капиталист имел право спать с любой женщиной, работающей на одной из его фабрик.
И вот как определить, насколько эти утверждения лживы? Может, это правда, что средний человек сейчас живет лучше, чем до революции. Единственным свидетельством обратного был безмолвный протест в его собственном теле, инстинктивное ощущение, что условия, в которых он живет, невыносимы и что когда-то все было совсем по-другому. Ему пришло в голову, что настоящей характерной чертой современной жизни была даже не столько ее жестокость и чувство полной незащищенности, сколько ее пустота, тусклость и вялость. Окружающая жизнь не имела ничего общего с той ложью, которая вливалась вам в уши с телеэкранов, и жизнь эта была максимально далека от тех идеалов, которые пропагандировала Партия. Даже для члена Партии большая часть жизни проходит однообразно и не имеет никакого отношения к политической деятельности: ему приходится протирать штаны на скучной работе, бороться за место в метро, штопать рваный носок, выпрашивать таблетку сахарина, сохранять недокуренный окурок на потом. Идеал, созданный Партией, представлял собой нечто огромное, ужасное и сверкающее – мир стали и бетона, чудовищных машин и ужасающего оружия, нация воинов и фанатиков, которые маршируют вперед в совершенном мысленном единстве и выкрикивают одни и те же лозунги, работают без отдыха, сражаются, побеждают, преследуют, триста миллионов человек с одинаковым выражением лица. Реальность же представляла собой разваливающиеся грязные города, в которых недокормленные люди ходили в рваных ботинках и жили в залатанных домах девятнадцатого века, где всегда воняло вареной капустой и грязными уборными. Перед его глазами возникла картина Лондона, огромного, разрушенного и заваленного мусором, а ко всему этому прибавился образ миссис Парсонс, женщины с морщинистым лицом и тонкими волосами, которая беспомощно возится с забитой канализацией.
Он наклонился и снова почесал лодыжку. Круглосуточно телеэкраны забивали вам голову статистикой, показывающей, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, лучшие дома, лучший отдых, что они живут дольше, работают меньше, здоровее, сильнее, счастливее, умнее и образованнее, чем люди пятьдесят лет назад. Ни одно слово из этого нельзя было ни доказать, ни опровергнуть. Партия утверждала, например, что сегодня сорок процентов взрослых пролов грамотны. До революции, говорили, их было только пятнадцать процентов. Партия утверждала, что уровень младенческой смертности сейчас составляет всего 160 на тысячу, тогда как до революции он был 300. И так далее. Это было похоже на уравнение с двумя неизвестными. Вполне возможно, что буквально каждое слово в учебниках истории, даже то, что принимается на веру без всяких вопросов, было чистой воды фантазией. Возможно, никогда и не существовало такого закона, как jus primae noctis, или такого существа, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.
Все растворилось в тумане неизвестности. Прошлое было стерто, сам факт стирания забыт, а ложь стала правдой. Всего лишь раз в жизни он обладал конкретным и безошибочным доказательством фальсификации. Он держал его в руках целых тридцать секунд. Должно быть, это было в 1973 году, во всяком случае, это было примерно в то время, когда они с Кэтрин расстались. Но по-настоящему важной была дата на семь или восемь лет раньше.
На самом деле история началась в середине шестидесятых, в период больших чисток, в ходе которых прежние лидеры революции были уничтожены раз и навсегда. К 1970 году никого из них не осталось, кроме самого Большого Брата. Все остальные к тому времени были разоблачены как предатели и контрреволюционеры. Гольдштейн сбежал и скрывался (где именно, никто не знал), несколько остальных просто исчезли, ну, а большинство было казнено после зрелищных публичных процессов, на которых они признались в своих преступлениях. Среди последних выживших были трое мужчин – Джонс, Ааронсон и Рузерфорд. Эти трое были арестованы, вроде бы в 1965 году. Часто бывало, что люди исчезали на год, а то и больше, так что никто не знал, живы они или мертвы, а затем внезапно появлялись на горизонте, чтобы публично изобличить себя. Они признались в шпионаже и заговоре с врагом (на тот момент врагом тоже была Евразия), хищении государственных средств, убийствах различных доверенных членов Партии, интригах против Партии и Большого Брата, которые начались задолго до революции, в актах саботажа, в результате которых погибли сотни тысяч человек. Признавшись во всем этом, они были помилованы, снова зачислены в ряды Партии и назначены на должности, которые лишь на первый взгляд казались важными, но на самом деле вообще не предполагали никакой деятельности. Все трое написали длинные жалкие и унизительные статьи в «Таймс», анализируя причины своего отступничества и обещая исправить положение.
Через некоторое время после их освобождения Уинстон действительно видел всех троих в кафе «Каштан». Он вспомнил, с каким ужасом и очарованием наблюдал за ними краем глаза. Это были люди намного старше него, реликты древнего мира, едва ли не последние великие свидетели героического прошлого Партии. Они все еще излучали легкую ауру подпольной борьбы и гражданской войны. У него было ощущение, хотя уже тогда факты и даты становились размытыми, что он знал их имена задолго до появления Большого Брата. Но также они были преступниками, врагами, отступниками, обреченными на вымирание в течение года или двух. Ни одному из тех, кто однажды попал в руки Полиции мыслей, в конце концов не удалось спастись. Это были ходячие трупы, ожидающие отправки в могилу.
За ближайшими к ним столиками никого не было. Было неразумно даже просто находиться рядом с такими людьми. Они сидели в тишине, склонившись над рюмками с джином, приправленным настойкой гвоздики – фирменным напитком кафе. Из всех троих именно Рузерфорд произвел на Уинстона наибольшее впечатление. Когда-то он был известным карикатуристом, чьи резкие и безжалостные иллюстрации помогали поддерживать общественный запал во время революции. Даже сейчас, спустя много лет, его карикатуры периодически появлялись в «Таймс». Хотя они были на удивление безжизненными и неубедительными, жалкая имитация его прежнего стиля. Их темой всегда были пережитки старых времен – многоквартирные дома, голодающие дети, уличные схватки и сражения, капиталисты в цилиндрах, которые, даже стоя на баррикадах, казалось, все еще цеплялись за свои цилиндры, бесконечные тщетные попытки удержаться за прошлое. Рузерфорд был устрашающего вида человеком с гривой сальных седых волос, морщинистым лицом и толстыми губами. В свое время он, должно быть, был чрезвычайно силен, но теперь его огромное тело было сгорбленным, дряблым и растолстевшим. Казалось, он разрушался на глазах, как гора во время оползня.
Было пятнадцать часов. В такое время на улицах всегда было пусто. Уинстон уже не мог вспомнить, как он оказался в кафе в такое время. Там почти никого не было. С телеэкранов доносилась резкая металлическая музыка. Трое мужчин сидели в углу зала почти неподвижно, они не разговаривали друг с другом. Официант без команды принес им очередные стаканы джина. Рядом с ними на столе стояла шахматная доска с расставленными фигурами, которые так никто и не сдвинул с места. А потом, примерно на полминуты, что-то случилось с телеэкранами. Мелодия, которую они играли, изменилась, и тон музыки тоже. То, что тогда произошло, трудно описать словами. Прозвучала странная, трескучая, ревущая, насмешливая нота, в уме Уинстон назвал ее «желтой нотой». И тут голос с телеэкрана пропел:
Под густой листвой каштана
Предал я, и предал ты.
Врут они, и мы солгали
В тени густой каштановой листвы.
Трое мужчин не пошевелились. Но когда Уинстон снова взглянул на осунувшееся лицо Рузерфорда, он увидел, что его глаза были полны слез. И тогда он впервые заметил, с некой внутренней дрожью, хотя тогда он еще не понимал причину этой дрожи, что и у Ааронсона, и у Рузерфорда были сломаны носы.
Чуть позже всех троих снова арестовали. Выяснилось, что с момента освобождения они участвовали в новых заговорах. На втором суде они снова сознались во всех своих старых преступлениях, а также в целом ряде новых. Они были казнены, и их судьба была записана в партийных историях как наглядное предупреждение будущим поколениям. Примерно через пять лет после этого, в 1973 году, Уинстон разворачивал пачку документов, которая только что вывалилась из пневмопочты на его стол, и наткнулся на клочок бумаги, который, очевидно, случайно смешался с документами, а потом про него просто забыли. Когда он разгладил листок, то увидел, что это была половина страницы, вырванная из выпуска газеты «Таймс» примерно десятилетней давности, это была верхняя половина страницы, так что на ней была указана дата. Там была фотография участников какого-то партийного мероприятия в Нью-Йорке. В середине группы стояли Джонс, Ааронсон и Рузерфорд. Их нельзя было ни с кем спутать, да и их имена были подписаны внизу.
Дело в том, что на обоих процессах все трое признались, что именно в этот день находились на территории Евразии. Они прилетели с секретного аэродрома в Канаде прямиком в Сибирь, где встречались с представителями Евразийского генерального штаба для передачи важных военных тайн. Эта дата хорошо запомнилась Уинстону, потому что это был день летнего солнцестояния. Вывод был только один: признания были ложью.
Конечно, это само по себе не было открытием. Даже в то время Уинстон понимал, что люди, которые были уничтожены в ходе чисток, на самом деле не совершали преступлений, в которых их обвиняли. Но это! Это уже были конкретные доказательства! В его руках сейчас находился реальный фрагмент упраздненного прошлого, как ископаемая кость, которая обнаруживается не в том пласте и разрушает геологическую теорию. Этого было достаточно, чтобы сравнять Партию с землей, если бы эта фотография каким-то образом могла быть опубликована и о факте такой фальсификации стало известно во всем мире.
Он сразу приступил к работе. Как только он понял, что это была за фотография и что она значила, он накрыл ее другим листом бумаги. К счастью, когда он развернул ее, она оказалась перевернутой вверх ногами относительно телеэкрана.
Он положил блокнот на колено и отодвинулся на стуле так, чтобы быть как можно дальше от телеэкрана. Сохранять выражение лица было несложно, и даже дыхание можно было контролировать, если хорошенько постараться, но вы не можете контролировать биение своего сердца, а телеэкран был достаточно чувствительным прибором, чтобы уловить его ритм. Он просидел так минут десять, как ему показалось, и все это время его мучил страх, что какая-нибудь случайность выдаст его, например, внезапный сквозняк, который сдует этот листок с его стола. Затем, не разворачивая листок снова, он бросил газетную фотографию в дыру памяти вместе с другой макулатурой. Скорее всего, уже через минуту она превратилась в горстку пепла.
Это случилось десять или одиннадцать лет назад. Сегодня он, наверное, сохранил бы этот клочок бумаги. Странно, но факт, что он держал тогда в руках ту фотографию, казался ему значимым даже сейчас, несмотря на то, что и сама фотография, и событие, которое она зафиксировала, были всего лишь воспоминаниями. Но значило ли это, что Партия уже не так хорошо контролировала прошлое, раз в его руки попало доказательство события, которое действительно произошло (пусть даже это доказательство уже уничтожено)?
Но сегодня, если предположить, что ту фотографию можно каким-то образом воскресить из пепла, она может уже даже не быть доказательством. В то время, когда он сделал свое открытие, Океания уже не вела войну с Евразией, и должно быть, трое мертвецов предали свою страну уже в интересах Остазии. С тех пор ситуация несколько раз менялась. Скорее всего, признания неоднократно переписывались до тех пор, пока исходные факты и даты полностью не утратили своего значения. Прошлое постоянно менялось. И самым ужасным было то, что он не мог понять, зачем нужен весь этот тотальный обман. Непосредственные преимущества фальсификации прошлого были очевидны, но конечный мотив оставался непонятным. Он снова взял перо и написал:
«Я понимаю КАК, но я не понимаю ЗАЧЕМ».
Сколько же раз он задавался вопросом, не был ли он сумасшедшим. Возможно, сумасшедших было просто меньшинство. Когда-то признаком безумства была вера в то, что Земля вращается вокруг Солнца. Сегодня это была вера в то, прошлое нельзя изменить. Если он один в это верит, то значит ли это, что он сумасшедший? Но мысль о том, что он мог быть сумасшедшим, не очень его беспокоила, больше его ужасала мысль о том, что он мог ошибаться.
Он взял детский учебник по истории и посмотрел на портрет Большого Брата, который был изображен на обложке. Гипнотические глаза смотрели на него. Было такое чувство, будто на вас давит какая-то чудовищная сила, она проникает вовнутрь вашего черепа, сжимает ваш мозг, запугивает вас до такой степени, что вы готовы отказаться от ваших убеждений и не доверять вашим собственным ощущениям. В конце концов, если Партия утверждает, что два плюс два равно пять, вы должны этому верить. Рано или поздно они неизбежно об этом заявят, такова была логика их политики. Их философия отрицала не только достоверность собственных ощущений, но и само существование внешней реальности. Самым большим бредом считался здравый смысл. И ужасно было не то, что тебя убьют за то, что ты думаешь иначе, а то, что они могут быть правы. В конце концов, откуда мы знаем, что два плюс два равно четыре? Или что сила тяжести работает? Или что прошлое неизменно? Если и прошлое, и внешний мир существуют только в сознании, а сознанием можно управлять – что же тогда?
Ну уж нет! Внезапно его переполнила отвага. Почему-то перед глазами всплыло лицо О’Брайена. Даже больше, чем раньше, он был уверен, что О’Брайен на его стороне. Он писал дневник для О’Брайена, да, для него. Конечно, это было похоже на бесконечное письмо, которое никто никогда не прочтет, но оно было адресовано конкретному человеку, и от этого Уинстон решил отталкиваться.
Партия велела вам не доверять тому, что вы видите и слышите. Таково было ее окончательное исамое главное требование. Его сердце сжалось, когда он подумал о той чудовищной силе, которой он пытается противостоять, о том, с какой легкостью любой партийный умник может победить его в споре, приводя какие-то вычурные аргументы, которые он даже не будет в силах понять, не то чтобы парировать. И все же он был прав! Они были неправы, а он был прав. Очевидное и правдивое, пусть и кажущееся глупым, нужно защищать. Правда правдива – вот за что надо держаться! Реальный мир существует, его законы неизменны. Камни твердые, вода мокрая, предметы без опоры притягиваются к центру земли. Представляя, что он разговаривает с О’Брайеном, а также что он излагает ему важную аксиому, он написал:
«Свобода – это свобода утверждать, что два плюс два равно четыре. Если можно это, все остальное тоже последует».
Глава 8