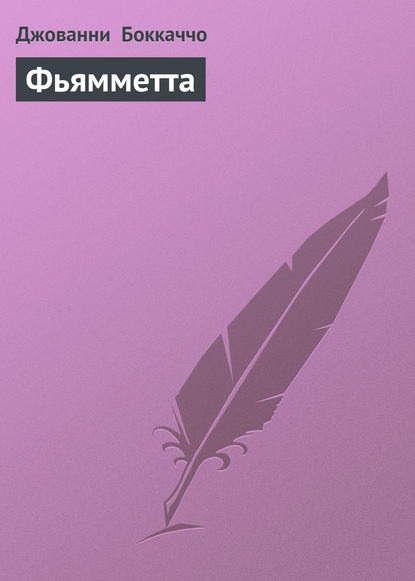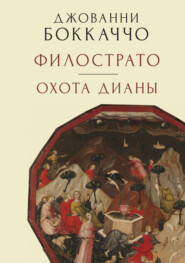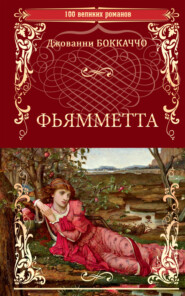По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фьямметта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. Следующего, который играл копьем, закинув щит за спину, а на белокурых волосах имел тонкую золотую сетку, полученную может быть от своей дамы, он сравнивал с Протесилаем
; следующего с веселой шапочкой на голове, смуглого, с большой бородой и диким видом называл Пирром
; того, кто был кроток видом, очень белокур и расчесан, более других украшен, – он считал троянским Парисом, а может быть Менелаем
. Мне нет надобности продолжать свое перечисление; в длинном ряде он находил Агамемнона
, Аякса
, Улисса, Диомеда и всех достойных похвал героев греческих, фригийских[118 - Из мифов о собственно фригийских божествах и героях пользовались популярностью рассказы о богине Кибеле, царях Гордие и Мидасе.] и латинских[119 - Т. е. относящихся к древнеримской мифологии. Между тем среди перечисленных Боккаччо нет ни одного героя, известного лишь по древнеримским мифам.]. И эти уподобления[120 - Все эти имена почерпнуты Боккаччо не из Гомера, а из средневековых романов о Троянской войне, в частности из знаменитого «Романа о Трое» (1165–1170) Бенуа де Сен-Мора.] он делал не голословно, но доказательствами подтверждал свои положения, из качеств названных лиц выводя правильность сравнения, так что столь же приятно было слушать его рассуждения, как и любоваться на тех самых, о которых он говорил.
Веселые ряды, проехав раза три, чтоб показаться зрителям, начинали свое состязание; поднявшись на стременах, покрывшись щитами, опустив острия копий почти до земли, все одинаково, они неслись на конях быстрее ветра; крики зрителей, звуки труб и других инструментов побуждали их скакать все быстрее и энергичнее. И не раз они справедливо считались достойными похвалы в сердцах зрителей. Сколько я видела женщин в радости, у которых участвовали в состязании то муж, то возлюбленный, то близкий родственник! Даже посторонние веселились. Одна я печально взирала (хотя видела моего мужа и родственников), не видя Панфило и вспоминая, что он – далеко. Не удивительно ли, госпожи, что что бы я ни видела, все меня печалило и ничто не могло развеселить? При таком зрелище не почувствовали бы радости даже души, томящиеся в преисподней? Конечно, думаю, почувствовали бы. Они, заслушавшись Орфеевой
кифары, на время забывают муки[121 - Навеяно чтением Вергилия («Георгики», IV, 471): // Тронуты пением тем…], а я при звуках стольких инструментов, среди такого ликования не только позабыть, но слабое от скорби облегченье получить была не в силах.
И хоть иногда на подобных праздниках я скрывала под личиной свою печаль и удерживалась от вздохов, однако потом, ночью, одна оставшись, вознаграждала себя слезами, которые тем обильнее лила, чем больше днем скрывала вздохов; вспоминая о празднестве, видя их суетность, скорее вредную, нежели полезную, как я по опыту отлично видела, иногда ушедши домой по окончании праздника, я справедливо нападала на светские условности, так говоря:
«Как счастлив тот
, кто в уединенной вилле под открытым небом живет невинно[122 - Помимо Вергилия и Лукана, самим Боккаччо указанных в примечаниях как источники этого места книги, можно назвать прославление Золотого века в «Метаморфозах» Овидия (I, 89-112) и слова Ипполита в «Федре» Сенеки (531–533): // Нет жизни беспорочней и свободней // И больше близкой к нравам древних лет, // Чем та, что любит лес, презревши город.]! Кто думает только о капканах для диких зверей, о силках для глупых птичек; печаль не может поразить его душу, а телесную усталость он врачует отдыхом на свежей траве, переходя то на берег быстрого ручья, то в тень тенистой рощи, где заливаются нежными песнями жалостные пташки, а ветки, трепетно колеблемые легким ветром, как будто слушают их пение. Если бы, судьба, мне суждена была подобная жизнь, мне, для которой твои желаемые всеми щедроты несут пагубное волнение! Увы, к чему мне высокие дворцы, богатые постели, многочисленная челядь, когда душа моя, исполненная тоски, летит в неведомую страну к Панфило и нет отдохновения усталым членам?
О, что милее, что насладительнее, как бродить с спокойной и свободной душою вдоль бегущих речек и под кустами спать сном легким, что безмятежно навевает струящиеся волны сладким журчаньем[123 - Ср. Сенека, «Федра» (560–563): // То попирает // Прибрежный дерн, вкушая легкий сон, // Баюкаем журчанием ручья, // Бегущего среди цветов весенних.]? Такой сон, даруемый без спора бедным обитателям деревни, насколько желаннее сна горожан, которые, окруженные большими изысканными удобствами, то городскими заботами, то шумом беспокойным слуг бывают пробуждаемы. Если те ощущают голод, его удовлетворяют яблоки, сорванные в лесу, а молодая трава, сама собой растущая по небольшим холмам, в свою очередь представляет для них вкусную пищу[124 - Ср. Сенека, «Федра» (504–566): // Плоды деревьев утоляют голод, // И ягоды с терновника дают // Закуску легкую.]. Для утоления жажды как сладко пригоршней зачерпнуть речной или ключевой воды[125 - Ср. Сенека, «Федра» (568–569): // …как сладко // Зачерпывать рукою из ключа!]! Несчастные заботы светских людей[126 - Навеяно большим рассуждением Лукана («Фарсалия», IV, 373–384).], для пропитания которых природа должна искать и приготовлять наиболее изысканные продукты! Мы думаем бесконечным множеством яств пользоваться для насыщения, не рассчитывая, что тайные свойства их служат скорее к разрушению, чем к сохранению нашего организма; делая для хитрых напитков золотые и драгоценные чаши, часто пьем холодный яд[127 - Ср. Сенека, «Тиэст» (536–537): // …но яд // Мы пьем из кубка золотого.], а если не яд, то любовный напиток; и кто с излишней уверенностью этому предается, часто того постигает несчастная жизнь либо постыдная смерть. Часто же пьющие делаются хуже безумцев. Тому товарищами служат сатиры
, фавны, дриады, наяды и нимфы, тот не ведает, что такое Венера и ее сын двоевидный
, а если и знает, то полагает ее грубой и непривлекательной.
О, если бы была божья милость, чтобы и я никогда ее не знавала и встретила ее простою, находясь в простом обществе! Тогда далеко были бы от меня неизлечимые заботы, которыми томлюсь я, и душа моя, пребывая в святой неприкосновенности, небрегла бы светскими праздниками, что как ветер летящий, а созерцая их, не тосковала бы как теперь. Сельский житель не заботится ни о высоких башнях, ни о домах, ни о челяди, ни о нежных пажах, ни о блестящих одеждах, ни о быстрых конях, ни о тысяче других вещей, на что уходит лучшая часть жизни. Не преследуемый злыми людьми, он спокойно живет в уединении; не ища сомнительных отдохновений в высоких палатах, находит их на воздухе и свете, всю жизнь свою провожая под открытым небом. О, как нынче мало знают и избегают подобной жизни, меж тем как к ней-то, как наиболее драгоценной, и нужно бы стремиться. Я полагаю, что такова именно и была первоначальная жизнь, когда боги не покидали людей[128 - Ср. Сенека, «Федра» (573–577): // Ищет он // Лишь воздуха и света и живет // В присутствии небес. Так верно жил // Счастливый род полубогов в начале // Веков.]. О, нет лучше жизни, более свободной, более невинной, нежели та, что вели первобытные люди и которую теперь ведут те, что, покинув города, живут в лесах! Как счастлив был бы мир, если бы Юпитер не низверг Сатурна и если бы золотой век еще царил непорочными законами! Тогда бы все мы жили, как в первом веке. Никто из следовавших первобытным уставам не был бы воспламенен слепым огнем болезненной любви, как то со мною сталось; никто из жителей горных склонов не подчинен ничьей власти, ни народу, что как ветер, ни неверной черни, ни губительной зависти[129 - Ср. Сенека, «Федра» (536–538): // Не знает он ни мнения народа, // Ни зависти отравы, ни успеха // Минутного у суетной толпы. // «Тиэст» (419–423): // Тот есть царь, кто оставил страх, // Кто не знает страстей в груди, // Кто презрел и тщеславие, // И толпы переменчивой // Неустойчивую любовь.], ни хрупкой милости Фортуны, которой слишком доверяясь, вот я теперь среди воды от жажды умираю. При скромной доле достигается глубокий покой, а при высокой немалых усилий стоит поддерживать существование. Кто стремится к высокому положению или желает стремиться, тот гоняется за призрачными почестями преходящих богатств; часто фальшивым людям нравятся громкие имена; но кто живет свободным от страха и надежды, тот не знает неправедных укусов черной зависти; кто обитает в уединенном месте, тот не знает ни ненависти, ни безнадежной любви, ни грехов городского населения, не сомневается, как искушенный человек, не хочет разносить ложных известий, чтобы уловить в их сети людей простодушных; другие же, хотя и стоят на высоте, всего боятся, даже ножа, что носят у собственного пояса.[130 - Ср. Сенека, «Тиэст» (529–531): // Когда я был поставлен высоко, // Боялся я всегда и трепетал // Пред собственным мечом.]
Как хорошо ничему не противиться и, лежа на земле, безопасно собирать себе пищу! Редко, почти никогда, большие грехи посещают малые хижины. В том веке не было никакой заботы о золоте, никакие священные камни не разделяли одного поля от другого; смелые корабли не рассекали моря; каждый знал только свой берег, ни высокие частоколы, ни глубокие рвы, ни высокие стены не окружали тогдашних городов[131 - Ср. у Сенеки («Федра. 577–590); ср. также описание Золотого века у Овидия («Метаморфозы», I, 89-112).], не было изобретено ни смертоносного оружия, ни всаднических затей, ни стенобитных орудий; а если случалась небольшая распря, сражались голыми руками и обращали в оружие древесные суки и камни. Не было еще тонких и мягких кизиловых копий с железным наконечником, ни острых пик, мечи не опоясывали никого и косматые гребни не украшали блестящих шлемов[132 - Это также заимствовано у Сенеки («Федра», 596–601).]; но что лучше всего, не был рожден еще Купидон, так что целомудренные груди, впоследствии пронзенные пернатым летуном, могли пребывать в покое.
Ах, если б дано мне было жить в те времена, когда люди, довольствуясь немногим, знали лишь спасительную страсть! Если бы из всех тогдашних благ мне было уступлено одно – не знать печальной любви и стольких вздохов, как теперь я знаю, то и тогда сочла бы я себя более счастливой, нежели живя в наше время, исполненное таких наслаждений, очарований и прелестей. Увы, как нечестивая алчность, безмерный гнев, дух, пораженный несносным сладострастием, нарушают первоначальные договоры природы с людьми, столь святые, столь удобопереносимые! Явилась жажда господства, грех кровавый, и меньший сделался добычей большего; явился Сарданапал
, первый придавший Венере изысканные формы (хотя Семирамида ей придавала распущенные), а также Церере и Вакху; явился воинствующий Марс, нашедший тысячу искусных средств для убийства; вся земля была запятнана кровью и море покраснело. Тогда, несомненно, во все дома вошли тягчайшие грехи, и вскоре ни одно преступленье не осталось без примера; убит брат братом, сыном отец, отцом сын, муж убит по вине жены, нечестивые матери часто умерщвляют собственных детищ[133 - Ср. Сенека, «Федра» (608–611): // …от брата падал брат, // Отец – от сына, убивался муж // Рукой жены и погибали дети // От матерей безбожных.], не говорю о суровости мачех к пасынкам, что можно ежедневно наблюдать. И привели с собою богатство, скупость, гордость, роскошь и все другие грехи, – и с ними вместе вошла в мир водительница всех зол, искусница в грехах – разнузданная любовь, через которую многие многолюдные города пали
, пожарища дымятся и бесконечные кровавые ведутся войны. О, пусть будут обойдены молчанием другие, еще худшие ее действия и те, что сделали меня примером ее жестокости, столь сильно меня поразившей, что ни к чему другому я не могу направить мысли».
Так рассуждая, иногда я думала, что содеянное мною – тяжко перед господом; но страданья, невыносимо тяжелые для меня, облегчили несколько мою скорбь, так как главной виновницей была не я, почти невинная, то и кара, понесенная за другого (хотя, я думаю, никому не доставалось такой тяжелой), как не я единственная и не первая терпела, придавала мне силу ее переносить; и часто я молила небо положить конец моим мученьям либо смертью, либо возвращением Панфило.
Вот какое утешенье, как видите, судьба дала мне в горькой жизни; не думайте, что это утешенье прогоняло печаль, как всякое другое; нет, оно только иногда прекращало слезы, переставая оказывать мне свои благодеяния. Продолжая рассказ о своих муках, скажу, что, прежде бывши прекраснейшей меж своих горожанок, я не пропускала ни одной праздничной службы, которая считалась не пышною, если меня не бывало; продолжать этот обычай меня уговаривали мои служанки и, приготовляя, по старой привычке, мне наряды, случалось, говорили:
«Госпожа, оденься, настал престольный праздник, только тебя ждут для полного торжества».
Случалось, вспоминаю, что в бешенстве я к ним обращалась, как укушенный вепрь на свору собак, и отвечала резким и взволнованным голосом:
«Прочь вы, отребье! убрать эти тряпки! короткой юбки достаточно, чтоб прикрыть унылое тело[134 - Так и Федра отказывается носить роскошные одежды и украшения. Ср. Сенека. «Федра», 418–424.], и если вам дорога моя милость, не заикаться мне о храмовых праздниках».
Часто я слышала, эти храмы посещались больше, чтобы посмотреть на меня, чем из благочестия, и, не видя меня, знатные люди уходили недовольными, говоря, что без меня праздник не в праздник. Но, несмотря на мои отказы, иногда приходилось мне посещать храмы в обществе моих подруг, но тогда я одевалась просто, в будничное платье, и там избегала почетных мест, а становилась в толпу женщин и на скромные места; там слушая то одну, то другую, со скрытою печалью, кое-как проводила время службы. Сколько раз я слышала совсем близко от себя:
«Что за чудо, как изменилась эта госпожа, редкое украшенье нашего города! Что за божественный дух на нее нашел! Где пышные одежды? Где гордая осанка? Куда девалась дивная ее красота?»
Если бы можно было, ответила бы я на это:
«Все это и драгоценнейшее еще унес Панфило с собою, уезжая».
Но, окруженная женщинами, я принуждена была с деланным лицом отвечать на их колкие расспросы; одна из них так ко мне обратилась:
«Фьямметта, и я, и другие дамы, мы крайне изумляемся, не зная, что тебя Заставило оставить драгоценные платья, дорогие уборы и прочие вещи, соответствующие твоей юности; такая молодая, как ты, не должна бы еще так одеваться; или ты думаешь, оставя их теперь, впоследствии опять к ним вернуться? Поступай сообразно возрасту. Почтенная одежда, что ты надела, от тебя не уйдет; ты видишь, мы и старше тебя, но искусно, нарядно и пышно одеты; и ты должна была бы так же делать».
Ей и другим, ожидавшим моего ответа, я отвечала смиренным голосом:
«Приходите ли вы в храм, госпожи мои, чтобы нравиться людям или господу богу? Если затем, чтобы угодить богу, ему достаточно души, украшенной добродетелями, а плоть хотя бы облечена была власяницею; а если сюда приходят, чтобы понравиться людям, то, так как большинство, ослепленное лож– ною видимостью, по внешности судит, я признаюсь, что необходимы те украшения, что носите вы и я носила прежде. Но я об этом не пекусь и даже, сожалея о прежней суетности, хочу ее загладить перед господом, делаясь презренной в ваших глазах».
Тут насильно выжатые слезы, как искренние, смочили мне печальное лицо, и про себя я начала шептать:
«Господь сердцеведец, не вмени мне в грех неверные речи, ибо, как видишь ты, не для того, чтобы обмануть, а чтобы скрыть свои мученья, я принуждена была их сказать, скорей поставь мне это в заслугу, что я твоим созданьям подаю не дурной пример, но хороший; мне очень трудно лгать, я с трудом это переношу, но я больше не в силах».
Сколько раз, госпожи мои, окружавшие меня женщины от этого обмана проливали слезы, говоря, что вот я из пустейшей сделалась святою! Часто я слышала такое мнение, что я так взыскана господом богом, что ни в одной моей просьбе не может быть отказано небом; и благочестивые люди меня посещали, как святую, не зная, какой печальный лик скрываю я и как мои желанья расходятся со словами. Обманчивый свет, насколько больше значат для тебя притворные лица, чем справедливые души, когда дела неизвестны! Я, грешница из грешниц, скорбящая о пагубной любви, считалась святою лишь потому, что скрываю скорбь свою почтенными словами; но, видит бог, если бы не было опасности, я тотчас бы открыла глаза обманутым и объявила бы настоящую причину своей печали, но это было невозможно.
После того как я ответила на первый вопрос, другая соседка, видя, что я перестала плакать, спросила:
«Фьямметта, куда девалась твоя прелестная красота? Где прекрасный цвет лица? Отчего ты так бледна? Почему твои глаза, прежде, что утренние звезды, теперь так впали и окаймлены синими кругами? Отчего золотистые косы, прежде мастерски уложенные, теперь едва заплетены небрежно? Скажи, ты так всех удивляешь».
На это ей я коротко ответила:
«Очевидно, что земная красота – хрупкий цветок, увядает со дня на день; кто ей доверится, увидит ее погибшей. Кто мне ее дал, вложивши тайное желанье отречься от нее, как взял ее, так может и вернуть, когда ему угодно».
После этих слов, не в силах будучи сдерживать слез, закрылась я покрывалом и горько заплакала; и так про себя я сетовала:
«О, красота, непрочный дар, скоро преходящий, скорей приходишь и уходишь, нежели весенние цветы и листья цветут под благостью Овна
, а летний зной настанет – и увянут; который же сберегся летом, того осень не пощадит. Так ты, о красота, часто в цветущих днях случайно погибнешь, а если юность пощадит тебя, то зрелый возраст уж не защитит! Ты, красота, текуча, как воды, что никогда не возвращаются к своим источникам, и не разумен тот, кто полагается на столь хрупкий дар[135 - Эти мысли о быстротечности и недолговечности красоты являются повторением слов Хора из «Федры» Сенеки (ст. 845–854).]. Как я, несчастная, тебя любила, тобою дорожила, тебя холила! Теперь заслуженно тебя я проклинаю. Ты – первая причина моей гибели, ты завладела душою моего возлюбленного, а удержать его была не в силах или вернуть его назад, когда он уехал. Не было бы тебя, я бы не приглянулась Панфило; а не приглянулась бы я ему, он бы не старался мне понравиться; а не понравился бы он мне, как нравится теперь, я бы не мучилась. Итак, в тебе причина и корень всех моих бед. Блаженны те, что лишены тебя, хотя бы их упрекали в грубости! Они хранят святые законы целомудрия и могут жить без ран, свободными от власти Амура деспота; ты причиняешь нам непрерывное опустошение, заставляя нарушать то, что мы должны были бы блюсти как драгоценность. Блаженный Спурина
, достойный вечной славы, который, зная твои последствия, в цветущей юности своего собственною жестокою рукою от тебя избавился, выбрав лучше добродетелью привлечь к себе сердца мудрых, чем желанною красою покорять сладострастных дев. О, отчего я не поступила так же? Далеки были бы от меня печали, скорби, слезы и жизнь могла бы оставаться по-прежнему достойной похвалы.
Тут снова приступили ко мне женщины, упрекая за чрезмерные слезы: «Фьямметта, что с тобою? Или ты отчаиваешься в милосердии божьем? Ты думаешь, что он не простит твоих маленьких грехов без подобных рыданий? Так ты скорей добьешься смерти, чем прощенья. Встань, утри глаза, сейчас будет вознесенье даров верховному владыке Юпитеру нашими жрецами».
От их слов я удерживала слезы, поднимала голову, но не оборачивала ее как прежде, твердо зная, что моего Панфило здесь нет, не обращая внимания, смотрит ли на меня кто или нет и что обо мне думают соседи; но погрузив свой дух в мысли о том, кто для спасенья мира продал себя[136 - Т. е. Иисус Христос.], молилась жалобно за моего Панфило и за его возвращение, так говоря:
«Ты, высший управитель неба, судья всего мира, положи предел моим тяжким мукам и прекрати мои горести[137 - С такими же словами обращается к Юпитеру герой трагедии Сенеки «Геркулес неистовый» (ст. 205–209).]. Взгляни, ни дня не проведу я в некое; всегда конец одного бедствия служит для меня началом другого. Меня, которая бессознательно оскорбила тебя, украшаясь в юности более чем было нужно, и считала себя уже счастливой, не зная будущих бедствий, ты наказал, подчинив неразрушимой любви, и такое горе все наполняешь новыми заботами; наконец, разлученная с тем, кого люблю больше всего, я подвергаю свою жизнь бесконечным опасностям. О, если когда-нибудь внемлешь ты несчастным, склони свой дух, милостивый слух к моим мольбам и, невзирая на многие против тебя проступки, вспомни, кроткий, то немногое добро, что я когда-нибудь делала, и ради него услышь мои просьбы и молитвы; тебе это нетрудно, а мне будет большая радость. Я ничего не прошу, ничего не ищу, как только, чтобы мой Панфило ко мне вернулся. Я знаю, что перед тобою, справедливым судьею, эта молитва покажется неправедною!
Но и твоя праведность должна предпочесть меньшее зло большему. Ты, кому все открыто, знаешь, что никак не может выйти у меня из сердца милый возлюбленный и прошлое счастье, память об этом такую боль мне причиняет, что, если бы не надежда на тебя, не покидавшая меня, давно я наложила бы на себя руки.
Итак, если меньше зла обладать моим возлюбленным, как я им прежде обладала, чем погубить вместе с телом печальную душу, то верни его, отдай его мне! Пусть тебе дороже будут грешники живые, еще могущие познать, чем мертвые без надежды на искупление; пусть угоднее тебе будет потерять часть твоего создания, чем целиком! Если это невозможно исполнить, пошли последний конец всем скорбям раньше, чем я, понуждаемая горькой мукой, не решусь самовольно прийти к нему. Пусть летят к тебе мольбы мои, если же они не могут тронуть тебя, пусть тронут того из небожителей, кто на земле испытал, как я, любовный пламень; примите мои мольбы и за меня принесите их тому, кто от меня их не принимает, чтобы в радости могла я жить здесь на земле сначала, потом у вас и чтобы было ясно, что пристало грешникам грешнику прощать и помогать».
Засим я возложила на алтарь ладан душистый и жертвы, чтобы действительней были мои мольбы о спасении Панфило, и по окончании богослужения с другими женщинами направилась к своему печальному дому.
Глава шестая