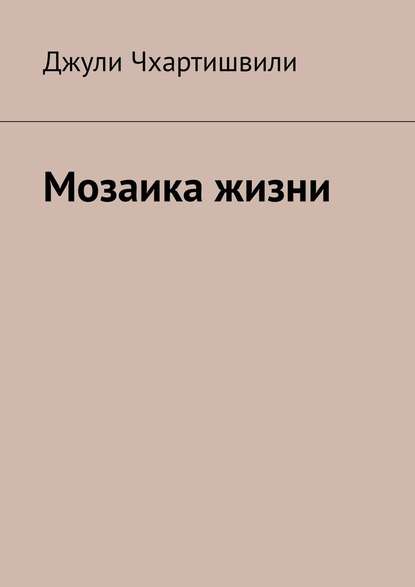По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мозаика жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Постепенно я втягивалась и в арифметику. Здесь тоже велика роль мамы. Как-то она даже мне, пятилетней, подбросила таблицу умножения. Очень было интересно. Хотя, огромные счёты, на которых мама пыталась меня учить, очень не понравились.
Но вернусь к войне. Не помню когда, то ли в 41-ом или в 42-ом, к нам из Баку переехала мама бабушки, моя прабабушка. Ей тогда было 60. Тихая, спокойная, очень выдержанная. Тогда в Тбилиси организовывали бомбоубежища, но их было мало и, в случае бомбардировок, в них планировалось пропускать малых и старых. Наше бомбоубежище располагалось в подвале церкви, которая возвышалась перед нашим домом. Из нашей семьи им могли пользоваться только я и прабабушка. Остальные готовились тушить зажигательные бомбы и помогать пострадавшим. Раза два в Тбилиси объявлялась воздушная тревога, но мы с бабушкой отказались идти в бомбоубежище. Это были одиночные самолёты-разведчики противника, которые на большой высоте пролетали над Тбилиси. Тут же включались мощные прожектора, которые начинали шарить по тёмному небу и, наконец, два прожектора «ловили» серебряный самолётик. Вместе они пересекались и вели его долго-долго, пока самолёт не вылетал за пределы Тбилиси. Я как зачарованная, видимо по малости лет, не представляющая всей опасности происходящего, смотрела на это зрелище. У меня был страх, но зрелище мне казалось очень красивым. Ещё не доросла до понимания всей окружающей меня реальности. Сейчас, когда в кино я вижу аналогичные кадры, то я думаю, что в действительности всё выглядело более живописно и выпукло, что ли.
Другой раз тревога застала нас в «Доме ударников», куда мы с мамой пришли ночевать в субботу на воскресенье. Нам очень хорошо было у бабушки, но всё равно мы скучали по нашему дому, нашей комнатке. Услышав противный вой, мы с мамой кинулись по лестнице вниз, в бомбоубежище, в подвал нашего дома. Мимо, расталкивая нас, промчалась соседка по нашей коммунальной квартире, Эрмоне, которая высоко держа руку, несла надетое на вешалку, только что приобретённое новое платье. Но бомбёжка в Тбилиси, к счастью, так и не случилась, и на следующий день весь наш многоэтажный 5-ти подъездный дом смеялся, пересказывая друг другу, как Эрмоне спасала единственную свою ценность – новое платье на вешалке, чтобы платье не помялось.
Мои ожидания прихода из работы мамы на первых ступеньках Петхаинского подъема привели к одному, очень значимому инциденту.
Спустившись к переулку, ведущему от улицы Энгельса к лестнице, я уселась на аккуратно обточенные крупные камни, обрамляющие лестницу на этом участке с двух сторон. Было чуть больше 6-ти часов вечера. Вокруг никого не было. Жарко. Вдруг я заметила на противоположной стороне сторублёвку, лежащую аккуратно на камне. Я кинулась и подняла её. Очень обрадовалась. А вокруг опять никого нет. А я знаю, что у нас в семье всегда туго с деньгами. Покрутилась там минуту-две, помахала деньгой и побежала домой. Взлетела по лестнице и ворвалась в комнату, где за швейной машинкой сидела бабушка, и торжественно положила перед ней сторублёвку. «Это что?» – неожиданно очень холодным голосом спросила бабушка. Захлёбываясь от волнения, я рассказала всё подробно. «Это деньги твои?» – тем же голосом спросила бабушка. Тут я заметила, что она не разделяет моей радости. «Возьми (деньги) и положи туда, откуда взяла. Не свои деньги никогда не бери. Придёт их хозяин и возьмёт». Меня как окатило холодной водой. Мне стало плохо и стыдно. Что-то внутри меня сопротивлялось, но я молча взяла деньги, отнесла их, положила и быстро ушла, чтобы их не забрали при мне. Я была уверена, что это будет не хозяин, а случайный прохожий. После этого случая я не могу прикасаться не к моим деньгам. У меня возникает ощущение, что я могу обжечь руку. А ведь тогда мне было всего 5 лет.
Тогда же случилось ещё одно событие. В детстве я почему-то очень плохо кушала. Заложив кусочек еды за одну щёку, я могла обнаружить его, не проглоченным, через некоторое время за другой щекой. Очень не любила глотать. Была худющая. И, несмотря на это, помню диалог.
– Бабушка: «Когда кушаешь, никогда не держи открытым рот. Жуй с закрытым ртом»
– Мама, усталым голосом: «Мама, да пусть кушает как хочет, лишь бы что-нибудь съела!»
Сейчас, глядя на меня, трудно поверить, что меня дразнили за худобу, а мама водила к врачам: «что не так, что делать?» Врачи успокаивали её, «девочка здорова, потерпите, скоро начнёт полнеть». Так всё и случилось. Были периоды в моей жизни, даже слишком. Трудно в жизни найти равновесное состояние.
А со мной в этот период случилась неприятность. Кто-то принёс вкуснейшую селёдку. Я её ела, по-моему, в первый раз в моей жизни. Съев кусочек, не смогла остановиться. Ела жадно, забыв все наставления бабушки. Ночью я не могла заснуть. Что-то очень кололо в горле. Утром, когда все разошлись по делам, я уговорила бабушку отвести меня в поликлинику. Бабушка не хотела, она заглянула в горло – ничего не видно, наверное, царапина. «Заживёт» – уговаривала она, «а у меня столько дел. Обед, стирка…» Но я настояла и бабушка, ворча, повела меня в поликлинику. Заглянув в моё горло поглубже, врач охнула. Там торчала, широким концом и закрывала глотку, воткнутая в горло, кость селёдки. И я услышала, как фельдшерица, готовя какие-то инструменты, пробормотала: «Ну, вот, теперь будет рёв». Это было сказано очень кстати, потому что я тут же дала себе слово – не плакать! И не издала ни одного звука. Говоря правду, замечу, что врач очень ловко, быстро и безболезненно достала рыбью кость, длиной 5—6 см, и 0,5см шириной в самом широком месте. Половина кости была окровавлена. Бабушке дали валерианку. Домой мы шли молча. Я чувствовала себя счастливой, а бабушка задним числом переживала произошедшее и свою «невнимательность».
Проходило время, менялась ситуация на фронте. Начались салюты. Для дома, в котором мы жили, настали трудные времена. Батарея, которая производила салют с так называемой Комсомольской аллеи (горы, нависающей над центральной и старой частью города), была расположена в точности над нашим домом. К тому же, первые салюты проводились боевыми снарядами. На крышу нашего дома и во двор сыпались осколки и даже гильзы, ещё что-то. Мы, дети, утром собирали осколки. Старая полуржавая крыша плохо выдерживала такой натиск. Дедушка бегал в домоуправление. Оттуда присылали рабочих, которые латали тряпьём и мазутом пробоины на крыше. Точка была поставлена, когда какой-то горячий осколок упал на ногу гостьи, пришедшей к соседям с первого этажа нашего дворика. Так как такой салют ей был неведом, она выскочила радостно приветствовать его. Зрелище с нашей высоты действительно было изумительно красивое, но пришлось вызывать скорую помощь. Всё это дошло, наконец, и до артиллеристов, которые располагались над нами, и нам стало жить поспокойнее.
В эти дни произошло ещё одно событие, взбудоражившее весь двор. Ночью увели тётю Наташу. Она, милая тётя Наташа, очень добрая и приветливая женщина, работающая где-то медсестрой, была, оказывается, гречанкой. Оказывается, взрослые знали, а я – нет. Почему её из-за этого увели, я не совсем понимала. Но особенно я пожалела её, когда бабушка вернулась с вокзала, где она проводила тётю Наташу. Как она узнала, откуда и когда её направляют?! Тогда у меня не возникали эти вопросы. Теперь – да. Она смогла увидеть её и даже передала свёрток чего-то съестного. И оба плакали. Дома бабушка уже не плакала, но ходила очень нервно и говорила, что-то не очень мне понятное. Дедушка вышел на общий балкон и наблюдал, не слушает ли бабушку ещё кто-нибудь.
Бабушка, в общем, была молчаливой особой, но иногда она меня удивляла своими умозаключениями. Например, в дни празднования 50-летия Октябрьской революции, она задумчиво сказала: «Это надо же, обманывая народ, они смогли просуществовать целых 50 лет». Или, однажды, придя домой после работы, я услышала от неё упрёк: «Какие у тебя дети советские». «А какие должны быть?! Что случилось?» Оказывается, придя домой из школы, они на вопрос бабушки, какую рыбу хотите кушать, отварную осетрину или жареный хек, дружно ответили – хек. Бабушка искренне была возмущена. Дать предпочтение хеку!!!
История с бабушкиной соседкой тоже получила своеобразное продолжение. Комнату тёти Наташи получила проводница Люба. Беленькая, пухленькая, голубоглазая, молодая. Была осень. Последняя военная осень. Почему-то в нашей семье было весело. Иногда и во время войны выпадали такие вечера. Сестры мамы весело дразнили меня. Они говорили, что ноги у меня – макароны, а руки – вермишельки. Щекотали меня. Я весело хохотала. Вдруг нам показалось, что мы услышали женский крик. Все сразу замолкли. Тишина. Мы хотели продолжить наши забавы, но весёлое настроение куда-то исчезло.
Через некоторое время со двора стали слышаться крики. Кричала соседка, очень интеллигентная немолодая Саша Немсадзе. Все высыпали наружу. Задыхаясь от ужаса и слёз, тётя Саша рассказала, что она сидела на стульчике перед своей квартирой и увидела, как пришёл любовник Любы – начальник поездной бригады. Он и Люба начали скандалить, и через несколько минут он выскочил во двор и побежал по лестнице вниз, размахивая окровавленным ножом. Тётя Саша стала звать Любу и, не получив ответа, приоткрыла её дверь. Люба лежала мёртвая в луже крови. На следующее утро труп Любы, покрытый простынёй, на которой местами проступала кровь, унесли, и я это видела, стоя на балконе, своими глазами. Потом тётя Саша присутствовала на суде и, придя с его заседаний, собирала весь двор и объясняла случившееся.
Оказывается, Люба болела страшной болезнью, сифилисом, в очень серьёзной форме. В тот вечер начальник поезда даже нашёл какую-то медицинскую карточку, удостоверяющую это. А у начальника родился сын, который заболел, и врачи выяснили, что болела и его жена и сам начальник, заразившись от Любы. И это всё выстраивалось у меня в голове и, хотя я не знала, что такое «любовник», «сифилис» и, вообще, откуда берутся дети, схема всего была ясна. Хотя всё это я слушала, в общем, урывками и вопросов не задавала. Чувствовала, что это неудобно, вызовет неловкость, и ответа я не получу. Но схема мне была ясна, потому и вопросов особенно у меня не было. Детали меня как-то не интересовали. Вот так растёт ребёнок, загружаясь опытом окружающей его жизни.
А потом было безмерное счастье – кончилась война.
5. Керчь, заводской двор, пляж, война
Мне всегда хотелось побывать в тех местах, где воевал мой папа. Прикоснуться как-то к тому, что на грани жизни и смерти. Почувствовать энергетику своего отца, такую добрую, неторопливую, вдумчивую. Когда я была в Польше и побывала в Кракове, я подумала, что в Польше я хотела бы жить в Кракове. И всегда хотела побывать в Керчи. Керченскую часть войны, с самого её начала, папа мне рассказывал, и сегодня этот рассказ представляется мне в виде ясной и чёткой картины.
Первые месяцы войны, наши отступают. Папина часть окопалась у края большого заводского двора завода им. Кирова или Карпова (не помню) в Керчи. В здании завода уже немцы. За спиной у наших солдат – полоса пляжа и море. Чёрное море. Над позицией наших солдат низко пролетают немецкие самолёты. Просто расстреливают наших солдат. Наших самолётов не видно. Прошёл слух, что отдан приказ «отступать». Кто как может. Но куда? За спиной море. Любое движение по линии окопов пресекается выстрелами из заводского здания и сверху, с самолётов. «Не верь» – говорил мне отец, «что снаряд дважды не попадает в одно и то же место. Попадает, даже трижды». Немцы не торопились. Они понимали, что оставшейся горсточке солдат никуда не деться. Наши понимали, что это последний день. Завтра – смерть или плен. Папа набрасывает последнее послание маме. «Я не буду уничтожать партбилет и последний патрон в пистолете – мой. Не верь, если скажут, что я попал в плен. Джулю отдай в русскую школу…» Эту записку он передал маме потом при первой встрече. Напряжение нарастало. У некоторых не выдерживали нервы. Пулемётчик, лежащий рядом с отцом, вдруг вскочил и с криком «а-а-а» побежал по заводскому двору. Его тут же расстреляли. Стреляли с двух сторон. Наступила ночь. Вдруг папа услышал лёгкий шум со стороны моря и тихий голос: «Хлопцы, тихо перебирайтесь сюда». Старик-украинец подплыл к ним на своей лодке. Папа и находящиеся вокруг солдаты тихо перебрались в лодку, и старик вывез их в расположение советских войск.
В каком-то из городов Северного Кавказа (не помню в каком), был назначен сбор тех, кто смог выбраться и не попасть в плен. «Тогда немцы в плен не очень брали» – рассказывал папа, «если узнавали, что член партии или офицер, расстреливали на месте». И вот собралась большая толпа, отступивших, так сказать, неорганизованно, советских солдат. У офицеров сорваны ими же погоны. У членов партии где-то выброшены, на случай попадания в плен, партбилеты. Только у моего отца сохранился партбилет, заботливо обёрнутый в какую-то бумажку. Генерал, который беседовал с каждым и направлял поступающих в ту или иную часть, вывел отца перед толпой и продемонстрировал его и его партбилет. И ещё папе дали единственный за время войны двухнедельный отпуск.
И вот как-то утром я проснулась, у бабушки, мне 5 лет, дверь на балкон открыта и вдруг поверх перил балкона начала появляться голова папы. Боже, какая это была радость! Но, исходя из того количества дней, которые ему понадобились для того, чтобы добраться до Тбилиси, папа выехал через два дня, чтобы вовремя приехать в назначенную ему часть. В следующий раз мы его увидели уже в 1946 году.
А вот в Керчь я так и не выбралась.
В тот приезд папа отдал ту записку, о которой я писала в начале главы, маме, а потом никогда не ездил отдыхать на море. Видимо, оно ему напоминало о самых страшных днях жизни.
Керченская эпопея принесла отцу первую награду – «Медаль за отвагу». В начале войны не многих награждали. У папы было несколько наград. Каких? Я не помню. Они все затерялись в жизненных передрягах. Я тогда была ещё очень мала. Но помню ещё наградной пистолет, на котором была прикреплена небольшая металлическая пластина, на которой было выгравировано, что папа награждён им Верховным командованием.
Сандрик нашёл в Интернете сведения о том, что первую награду отец получил в 1942 году. В графе «описание подвига» сказано, что, будучи в Керчи в мае 1942 года, во время боевых действий он выполнял производственные задания (ремонт вооружения) на 250—300%, обучил этому 12 человек, личным примером воодушевлял бойцов своей бригады и под сильнейшим артиллерийским и миномётным огнём произвел полный подрыв склада боеприпасов и военного имущества, каковое через несколько минут могло оказаться в руках у врага.
А за что он получил именной пистолет? Папа, видимо, дал подписку о неразглашении (я так предполагаю), тогда это было в духе времени. Только где-то в подсознании помню какой-то обрывок разговора с капитаном Анисимовым, из которого мне запомнилось, что немцы модернизировали своё оружие, а отец обнаружил и как-то использовал это.
После смерти отца мама, которая очень боялась всякого огнестрельного оружия, отнесла и сдала в милицию этот пистолет и ещё охотничье ружьё отца. Я тогда училась в Москве и очень огорчилась. Я считала, что всё это должно было остаться дома. Но было поздно.
Сейчас весна. Скоро день победы. За несколько дней раньше мой младшенький, Дато, будет просить меня не плакать 9-го мая. А я не могу, потому что 9-го мая я целый день плачу. Не могу остановиться. Для моего поколения это часть нашей биографии. Для идущих после нас – это уже факт истории.
6. Рассказ капитана Анисимова
Часть, в которой служил мой отец, отвели с передовой на отдых. Дело было на Украине (или в Украине?). А папа всегда очень любил сапожничать. Это было его большое хобби. У нас дома стоял большой шкаф, в котором очень-очень аккуратно и продумано расположены были разнообразные сапожные инструменты, с помощью которых мой отец каждое воскресенье с видимым удовольствием ремонтировал обувь домашних. Итак, недалеко от передовой папа сел во дворе, прислонившись спиной к стене хатки, и занялся своим сапогом. В это время в небе появилась группа немецких самолётов, которые каждый день педантично, в одно и то же время, летели на бомбёжку в наш тыл. Все бросились в расположенные недалеко окопы и начали окликать отца: «Ваня! Иван! Беги сюда! Видишь, как низко летят, могут стрельнуть!» Отец, от которого я никогда не слышала не то что бранного, но и резкого слова, выругался: «Не буду бегать от каждого …, надоело.» Фашистский лётчик, который, видимо, наблюдал за этой мизансценой, как будто услышал всё, отвернул от строя и бросил бомбу прямо на хату. Попал. Хата развалилась. Три стены разнесло в пыль, а от четвёртой осталась только небольшая часть, у которой продолжал сидеть припудренный пылью и слегка контуженный папа со своим рванным сапогом.
Отец почему-то мало рассказывал про войну, но к нам после войны ежегодно в свой отпуск приезжал папин военный друг капитан Анисимов. Он мне рассказывал разные истории. Эту я запомнила. А папа его слушал, вздыхал и кивал головой.
7. О черепашьем супе
Последний бой, в котором участвовал мой отец, был в Кракове. Когда в пылу боя они ворвались в один из районов Кракова, то вдруг заметили, что в них уже ниоткуда не стреляют. Они вошли в какое-то помещение (нежилое), упали на пол, некоторые не снимая с себя какое-то вооружение, и… заснули. Они давно не спали, – бои шли непрерывно.
Утром они поняли, что находятся в ресторанном зале, а всё помещение наполнено каким-то замечательным ароматом. Выяснилось, что это ресторан одного поляка-краковчанина, который имел в запаснике черепах, очевидно для немецких офицеров. Поляк, с вечера очень испуганный, утром посмотрел на этих смертельно уставших и крепко спавших молодых мужчин, решил, что они, наверное, голодные. Возможно, подумал, что для него это может быть выгодным и солдаты, пообедав, отнесутся к нему миролюбиво.
От чудесного запаха все быстро проснулись. Расчёт поляка оправдался. Суп был чудесным. И папа мне говорил: «Если где-нибудь предложат черепаший суп, не отказывайся. Это очень вкусно. И черепашье мясо очень вкусное».
К сожалению, мне не пришлось попробовать еду из черепах. Жалею, хотя не очень. Черепах жалко.
8. Дядя Датико
Я уже писала о том, что трое сыновей моей бабушки Мариам ушли на фронт. И все трое вернулись. Вообще, бабушке очень повезло. Вот у Отари был родной дядя, у которого было четыре сына и одна дочь. Трое сыновей и зять пошли воевать в первые дни войны. Все четверо погибли. Самому младшему сыну исполнилось восемнадцать лет к концу войны. Его мобилизовали, но на фронт он попасть не успел. Война закончилась.
Как воевал мой отец, самый младший из братьев, я немного писала, мне нечего писать о его среднем брате, Степане, о его военной биографии я знаю мало, а вот несколько слов о старшем брате, Датико, напишу.
Когда долго живёшь, то, не будучи лингвистом, невольно замечаешь, как со временем меняется значение какого-либо слова или форма его употребления. Почему-то я заметно чутко реагирую на такие изменения, но теперь о собственном имени Давид. Когда родился мой второй сын, и мы с Отари назвали его Дато (Давидом), моя мама как-то сказала: «Как хорошо, что вы его назвали Дато, я очень любила твоего дядю Датико, хороший был человек». Итак, в начале XX века уменьшительное от Давида – Датико, а в конце ХХ века – Дато. Интересно, известно ли лингвистам в чём причина этого? Что повлияло на такое безоговорочное разное восприятие уменьшительного имени от имени Давид?
Итак, дядя Датико. После рождения четырёх дочерей (моих тёток по отцу), у бабушки Мариам наконец родился сын. Он был очень энергичный, инициативный и умный ребёнок (как рассказывала мне бабушка). Таким и вырос. Бабушка постаралась его поскорей женить. Это оказалось не очень удачным шагом. Скоро дядя разошёлся с женой и женился на другой. Звали её Надя. Бабушка его шаг восприняла как личное оскорбление и не смогла простить ему. Она всю жизнь очень любила первую жену дяди Датико и не отличала её от своих детей. Часто водила меня к ней в гости. Даже тогда, когда та снова вышла замуж. И всю жизнь бабушка как-то пыталась развести Давида Семёновича со второй женой. Но дядя был непоколебим.
Когда началась Великая Отечественная, он был вторым секретарём райкома партии в Тбилиси. Видимо, у него была бронь, и он не был мобилизован в первые дни войны, как мой отец. Но сидеть в Тбилиси дядя Датико не хотел и начал добиваться возможности пойти на фронт добровольцем. Добился. И отправился воевать. Воевал он сравнительно недолго. Ещё до окончания войны вернулся домой с тяжелейшим ранением. Фашистская пуля застряла в сердечной сумке. С этой пулей он и жил, ведь тогда операции на сердце ещё не делали. После войны в СССР начали организовывать совнархозы (в республиках тоже), в т.ч. и совнархоз по иностранным делам. И дядю назначили то ли председателем, то ли заместителем председателя этого самого совнархоза.
Мне кажется, что тогда республиканские совнархозы мало что решали в иностранных делах, но принимали иностранные делегации и устраивали им банкеты, водили их угощаться в рестораны.
Тогда в Тбилиси лучшим рестораном считался тот, который располагался на вершине горы Мтацминда, у верхней станции тбилисского фуникулёра. В тот раз, как мне рассказала тётя Надя, приехали французы. Их и повели на фуникулёр. В какой-то момент народ пошёл танцевать. Пригласил на танец француженку и мой дядя. Но скоро извинился, перестал танцевать и сел в уголок, в кресло. Когда все начали снова усаживаться за стол, начали звать Давида Семёновича. Он уже не дышал. Война догнала и убила его через несколько лет, уже в мирное время.
Хоронили его с военным оркестром. В то время это было знаком большой почести. В нашей семье так похоронили дядю Датико и Аршака Александровича, мужа тёти Ани, средней сестры мамы. Оба они действительно много потрудились на своём веку, и воевали достойно. Я их и сейчас вспоминаю с большим уважением, я ведь знаю как они относились к жизни и к своим обязанностям.
После окончания аспирантуры я приехала в Тбилиси, стала работать старшим научным сотрудником. Быстро организовала на основе проводимых мной работ и с помощью Юрия Татуловича Джермакяна лабораторию и стала зав. лабораторией. Но не долго. В институте (ГрузНИИТП – Грузинский НИИ текстильной промышленности) учёным секретарём тогда работал Чиковани Василий Еремеевич, кандидат химических наук, интеллигентнейшая личность, но, увы, возраст его перевалил за 75 лет и в сочетании с приобретёнными болезнями (гипертония и т.д.) делали невозможным его частые командировки в Москву, напряжённую, довольно насыщенную работу в Тбилиси. И он попросил перевести его на более спокойную работу, не связанную с необходимостью частых командировок. Стал вопрос о новом учёном секретаре. И тут мою кандидатуру (о чём я узнала позднее) настоятельно рекомендовал директору С. Амашукели – зам. директора института. Меня вызвали к директору и предложили эту, несомненно, почётную, но, поверьте, довольно трудоёмкую, должность. Я, к удивлению директора, не смогла дать ответ. А дело было в том, что я узнала, что жду первенца. А это означало, что вскоре я некоторое время не смогу работать, будучи в декретном отпуске. Пришлось объяснять директору, но Вахтанг Несторович, отец троих детей, с пониманием отнёсся к ситуации и на следующий же день издал приказ о моём назначении. Рабочее место Василия Еремеевича, к всеобщему удовлетворению, оставили в моём кабинете, и мы иногда вели с ним задушевные разговоры. Узнав, что его брата, профессора, одного из авторов первой ГЭС по плану ГОЭЛРО (ЗаГЭС), расстреляли в 1937 году, я спросила у Василия Еремеевича, верил ли он, что его брат – враг народа? Он ответил: «Что враг, не верил, но был уверен, что он попал в оборот из-за своего языка, очень острого и излишне злого». Узнав, что Давид Семёнович, некоторое время работавший секретарём парторганизации крупного предприятия – тбилисской шелкоткацкой фабрики, где сам Василий Еремеевич работал на разных должностях и в конце своей производственной деятельности – главным инженером, мой родной дядя, Василий Еремеевич рассказал мне об одном памятном случае.
На фабрике на собраниях клеймили «врагов народа». После одного из собраний, поздно-поздно ночью, они вместе пошли домой, так как жили в одном и том же районе города (на Плехановском проспекте). Василий Еремеевич задумчиво спросил: «Давид Семёнович, неужели у нас столько «врагов народа»? По воспоминаниям Василия Еремеевича, дядя мой остановился, посмотрел на небо, где в это время далеко-далеко вспыхнула молния и готовился идти дождь. И тихо произнёс довольно распространённую грузинскую поговорку – «не так идёт дождь, как гром гремит». «Мы оба замолчали и дальше шли молча» – продолжал Василий Еремеевич, «мы понимали, что если этот разговор дойдёт до НКВД, то нас обоих арестуют. После 52-го года, как-то я встретился со своим соседом, который работал в органах. Он рассказал, что несколько раз принималось решение о его аресте. Но когда это доходило до Вашего дяди, как до секретаря парторганизации, то он категорически выступал против и отмечал, что этого делать нельзя, так как он хороший специалист и работает очень самоотверженно. И уже сформулированную для ареста группу, распускали. «Так что за то, что мы теперь имеем возможность разговаривать, мы должны благодарить Вашего дядю, Давида Семёновича». Очень приятно было это слышать.
9. Дедушка
Сухощавый. Среднего роста. Всегда аккуратно подстриженный, с небольшими усами, он, ласково, с лёгким смешком, называл меня «Кёр-оглы» (или «Керьглы-торникс» (арм.) – моя внучка Кёроглы). Кёроглы – это полулегендарный борец за справедливость.