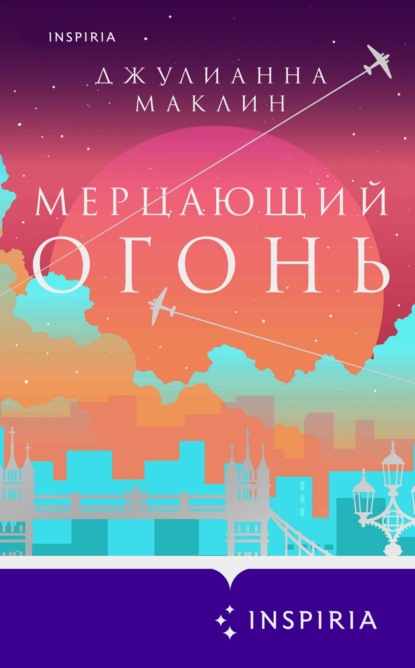По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мерцающий огонь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Снова перевернув одну из фотографий, я принялась считать в уме. Апрель сорокового. Отец родился в марте сорок первого – одиннадцать месяцев спустя.
– Это вовсе не значит, что он твой отец. Мы не знаем, где она была за девять месяцев до твоего рождения.
– Однако знаем, что незадолго до моего зачатия она проводила время с этим мужчиной – и явно была влюблена в него. Не понимаю, почему и как это вообще получилось, ведь Британия и Германия тогда находились в состоянии войны, – но здесь все черным по белому написано. А особенно меня поражает, что она много лет молчала об этом – наверняка и Джек не знал правды. Иначе эти фотографии не были бы спрятаны в потайном отделении запертой шкатулки на чердаке. – Папа растерянно провел рукой по лбу. – Боже, я могу быть сыном нациста. Одному богу известно, какие преступления он совершил. Что, если он руководил концлагерем и лично отправил тысячи евреев на смерть? А теперь в моих жилах течет его кровь. Как бабушка могла полюбить этого типа? – Он махнул рукой на фотографии. – Она любила его – это совершенно очевидно. По ее глазам вижу. И меня тошнит от одной мысли об этом.
Я подошла к папе и ободряюще потрепала его по плечу.
– Мы не знаем этого точно. Но даже если он и правда твой отец, ты не имеешь ко всему этому никакого отношения. Ты хороший человек, ты не причастен к тому, что он делал.
– Но если мы родственники, – возразил он, – значит, моя мать… Как она могла скрывать это от меня? Неужто стыдилась? Она знала, что он творил и за кого сражался. В конце войны, когда все это выплыло наружу, уж точно поняла. И она была замужем за другим мужчиной. Одного этого достаточно, чтобы полностью перечеркнуть все то, что я о ней знал. Думал, что знаю. Уж ты-то, Джилл, должна меня понять – после того, как Малкольм поступил с тобой. Я много лет прожил в неведении. Как она могла скрывать это от нас? Особенно от дедушки Джека?
Его лицо залилось краской. Мне искренне хотелось его успокоить:
– Может, это не то, чем кажется? Незачем нам гадать. Я так понимаю, с ней ты пока не говорил?
– Нет. Я просто не могу в это поверить. Она всегда казалась мне идеальной матерью, а Джек был героем, сражался с Гитлером, рисковал своей жизнью. Не могу даже представить, как бы он отреагировал на эти фотографии.
– Мы пока не знаем, что за всем этим скрывается. – Я очень старалась говорить непринужденно. – Может, есть какое-то объяснение, например… вдруг она была разведчицей и муж сам отправил ее в Берлин, чтобы она соблазнила этого мужчину? Ну, знаешь… шкатулка с потайным отделением, секреты… Очень в духе Джеймса Бонда.
– Давай, смейся надо мной.
– Я вовсе не смеюсь. Это не выдумки, тебе и самому известно. Во время войны было много разведчиц.
Он снова поднял на меня глаза:
– Знаю. Но моя мать не была одной из них. Она бы рассказала мне об этом.
Я сделала шаг назад. Зачем напоминать отцу его собственные слова о том, что знать о ком-то все попросту невозможно – даже если это кто-то очень близкий? Вероятно, люди, которых мы считаем хорошими, всего лишь лучше других умеют хранить секреты.
Папа посмотрел на часы:
– Нам пора. Мне скоро забирать ее из дома престарелых.
– Я поеду с тобой. Заодно и расспросим ее.
Папа покачал головой, как будто ему претила сама мысль об этом:
– Не представляю, с чего начать.
– Просто покажем ей фотографии, – предложила я, – и послушаем, что она скажет.
– Привет, Эдвард, – улыбнулась нам дежурная медсестра. – Она все еще играет, благослови ее Господь.
До нас донеслись звуки пианино. Бабушка резво наигрывала I'm Looking Over a Four-Leaf Clover[4 - «Я смотрю на четырехлистный клевер» – песня 1927 года, исполненная Ником Лукасом.] и пела от всего сердца.
– Попробуйте оторвать ее пальцы от клавиш, – хохотнула медсестра, жестом приглашая нас следовать за ней. – Она бы всю ночь играла, если бы мы ей разрешили.
– Она это дело любит, – согласился папа.
Мы прошли мимо пустых инвалидных колясок у стены и тихо скользнули в общую комнату. Не хотелось прерывать бабушку посреди песни, поэтому мы встали сзади нее. Некоторые старики сидели в инвалидных креслах, наклонившись вперед. Их ноги были укрыты пледами, а невидящие взгляды – устремлены в пол. Другие расположились на диванах, хлопали в ладоши и подпевали. Пианино стояло в углу – время от времени бабушка посматривала на слушателей, оглядываясь через плечо.
Для своих девяноста шести лет она была весьма неплохой исполнительницей – очень скоро я поймала себя на том, что хлопаю и пою вместе со всеми. Закончив играть, бабушка повернулась на банкетке и заметила нас. Ее глаза загорелись.
– Смотрите! – Она указала на меня. – Моя прекрасная внучка приехала.
Слушатели посмотрели на меня. Я помахала старикам, смутившись из-за того, что оказалась в центре внимания.
– Я сыграю еще одну? – спросила бабушка.
– Конечно, – кивнул папа, будто напрочь забыв о ее неподтвержденном романе с нацистским военным преступником. Бабушка, с ее вьющимися седыми волосами, теплой улыбкой и добрыми глазами, казалась милейшей женщиной на свете, не способной даже помыслить о чем-то недостойном.
Она задумчиво уставилась на клавиши пианино, решая, что играть дальше.
– Сыграйте Tea for Two[5 - «Чай на двоих» – песня из американского мюзикла «Нет, нет, Нанетт».]! – крикнула медсестра в дверях.
– Одна из моих любимых, – согласилась бабушка.
Она начала играть. Медсестра отбила короткую чечетку и, поклонившись, усеменила прочь.
Бабушка прощалась с каждым стариком лично – мне казалось, нам пришлось ждать ее целую вечность. Наконец я помогла ей сесть в машину, и мы двинулись в сторону дома. По дороге мы с папой обменялись встревоженными взглядами – нас совершенно не радовал грядущий разговор.
– Уже четыре часа? – спросила бабушка, едва мы вошли в прихожую. Я помогла ей снять шерстяное пальто и шарф и повесила их на вешалку. – По субботам в четыре я пью джин-тоник, – сказала она.
Я улыбнулась. Эта привычка водилась за ней, сколько я себя помнила.
– Знаю, бабуль. Иди посиди в гостиной, а я тебе все принесу.
Она потрепала меня по щеке:
– До чего же ты милая! И какая хорошенькая! Умница, что приехала. Очень скучала по тебе.
– Мне тоже тебя не хватало. – Я взяла бабушку за руку и поцеловала тыльную сторону ее ладони.
Поставив машину в гараж, папа тоже зашел в дом, закрыл за собой дверь и промолвил:
– На улице-то холодает.
Даже не взглянув на бабушку, он снял пальто и последовал за мной на кухню.
– У нее время джин-тоника, – прошептала я. – Вот и хорошо. Намешаю ей двойной – а потом спросим о фотографиях.
Папа выглядел обеспокоенным:
– Сам бы выпил чего-нибудь горячительного.
Приподнявшись на цыпочки, я достала с полки над холодильником бутылку «Танкерея»[6 - Джин премиум-класса, производится в Великобритании.], поставила ее на серебряный поднос вдобавок к трем высоким хрустальным бокалам и ведерку со льдом – и отправилась в гостиную намешивать всем коктейли.
– Держи, бабуль. – Я протянула ей ледяной бокал и уселась в кресло напротив. – За очередной день, наполненный прекрасной музыкой.