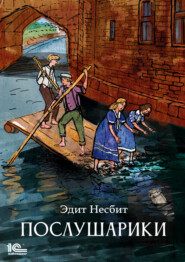По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новые приключения искателей сокровищ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С помощью весов, на которых отец взвешивал письма, мы взвесили продукты – на случай, если бакалейщик напутал. Все оказалось в порядке, кроме изюма. Изюм нес до дому Эйч-Оу. Тогда он был совсем маленьким, и угол бумажного пакета оказался порван, а губы нашего младшего брата – липкими. Многих людей повесили на цепях из-за меньших проступков; мы объясняли это Эйч-Оу, пока он не разревелся. Выволочка пошла ему на пользу, и мы задали её не из жестокости, а из чувства долга.
Как я уже говорил, нарезать сало как можно тоньше гораздо труднее, чем вы думаете. Как и крошащийся хлеб, особенно если буханка свежая. Когда мы покончили с этим делом, хлебные крошки и сало оказались очень большими, комковатыми и тускло-серыми, как куски грифельного карандаша. Впрочем, они стали выглядеть лучше, когда мы смешали их с мукой.
Девочки вымыли смородину коричневым виндзорским мылом и губкой. Часть смородины попала внутрь губки и еще несколько дней из нее выдавливалась, когда мы мылись в ванной, что было очень неприятно. Мы очень тонко нарезали цукаты (вот бы нам так же тонко нарезали хлеб на бутерброды!) и попытались вынуть косточки из изюма, но они слишком прилипли, и мы просто разделили изюм на семь кучек. Потом смешали остальные продукты в умывальнике гостевой спальни, которая всегда пустовала. Каждый из нас положил свою порцию изюма, перемешал все в умывальном тазике, а после мы засунули смесь в один из передников Элис, потому что ничего более похожего на салфетку для пудинга не нашли… Во всяком случае, ничего чистого. Прилипшие к тазику остатки смеси были довольно вкусными.
– Мыльновато, – сказала Элис. – Но, возможно, мыло исчезнет при кипячении, как исчезают пятна со скатерти.
Как варить пудинг? Сложный вопрос. Матильда пришла в ярость, когда мы попросили пустить нас на кухню. Она злилась только потому, что кто-то случайно уронил ее шляпку, висевшую на двери судомойни, а Пинчер схватил шляпку и растерзал. И все-таки кое-кто из нашего посольства сумел стащить кастрюльку, пока остальным рассказывали, что Матильда думает о кончине своей шляпки. Мы набрали в кастрюльку горячую воду в ванной комнате и поставили кипеть над огнем в детской. Перед тем, как уйти пить чай, мы сунули в кастрюльку пудинг.
Если не считать тех моментов, когда огонь гас, а Матильда не спешила принести углей, пудинг варился час с четвертью. Потом Матильда вдруг ворвалась в детскую и со словами:
– Я не позволю вам валять дурака с моей посудой! – попыталась снять кастрюлю с огня.
Вы же понимаете, что стерпеть такое было никак нельзя. Уж не помню, кто посоветовал служанке не лезть не в свое дело, и, кажется, я забыл, кто первым ее схватил, чтобы заставить отказаться от прав на кастрюлю… Уверен – излишнего насилия к ней не применялось. Во всяком случае, пока продолжалась борьба, Элис и Дора унесли кастрюльку, поставили ее в обувной шкафчик под лестницей, и Дора убрала ключ в карман.
Эта стычка настроила нас на сердитый и воинственный лад. К нам вернулось самообладание раньше, чем оно вернулось к Матильде, но перед сном мы сумели с ней помириться. Ссоры всегда следует улаживать перед сном, так сказано в Библии. Если бы это простое правило соблюдалось, не было бы такого множества войн, мучеников, судебных процессов, инквизиции и ужасных смертей на костре.
В доме стало тихо, везде выключили газовое освещение, если не считать одной лестничной площадки. И вот на этой площадке появились несколько закутанных в темное людей и начали красться вниз. По пути на кухню мы очень осторожно достали из шкафа кастрюлю.
Огонь в кухонном очаге горел, но еле-еле; угольный погреб оказался заперт, а в ведре не осталось ничего, кроме угольной пыли и коричневой бумажки, которую кладут на дырявое дно, чтобы угли не вываливались.
Мы поставили кастрюльку на огонь и подбросили в очаг топлива. Две газеты – «Хроникл» и «Телеграф», а в придачу пара романов из «Семейного вестника» сгорели напрасно. Я почти уверен, что пудинг в ту ночь вообще не варился.
– Ничего страшного, – сказала Элис. – Завтра каждый из нас стащит по кусочку угля по дороге на кухню.
Этот дерзкий план был добросовестно выполнен. К ночи у нас набралась почти полкорзинки для бумаг угля, кокса и золы, и под покровом тьмы мы снова появились на лестнице, на этот раз держа в предусмотрительных руках корзинку.
В ту ночь огонь в очаге горел ярче, и мы принялись подкармливать его собранным топливом. Пламя разгорелось, пудинг закипел, как бешеный, и кипел два часа… По крайней мере, я думаю, что прошло два часа, но мы устали следить за варкой и заснули, лежа на кухонных столах. На кухне лучше не спать на полу из-за тараканов.
Нас разбудил кошмарный запах. Это горела салфетка, в которой варился пудинг. Вся вода из кастрюли выкипела. Мы сразу подлили холодной, и кастрюлька треснула. Мы почистили ее, положили обратно на полку, взяли вместо нее тазик и легли спать. Видите, сколько хлопот у нас было из-за пудинга! Каждый вечер до самого Рождества (а оно быстро приближалось) мы тайком спускались в чернильную полночь и варили пудинг так долго, как только могли.
В рождественское утро мы наре?зали остролист для соуса, но вместо бренди добавили горячую воду с сахаром. Некоторые говорили, что соус получился неплохой. Освальд не был одним из этих оптимистов.
Затем наступил миг, когда заказанный отцом «простой» пудинг начал исходить паром на кухонной доске. Матильда принесла его нам и сразу ушла. Помню, в тот день ее навещал двоюродный брат из Вулиджского арсенала. То далекое время до сих пор отчетливо запечатлено в моей памяти.
После ухода служанки мы достали из тайника собственный пудинг и в последний раз наскоро его вскипятили. Он кипел всего семь минут, потому что всех охватило такое нетерпение, что Освальд и Дора не могли справиться с понуканиями остальных.
Мы сумели тайком умыкнуть блюдо и попытались выложить на него пудинг, но он намертво прилип к тазу, и пришлось выбивать его зубилом. Пудинг получился ужасно бледным. Мы полили его соусом из остролиста, Дора взяла нож и уже приготовилась разрезать лакомство, как вдруг несколько простых слов Эйч-Оу превратили нас из счастливых и торжествующих кулинаров в отчаявшихся людей.
– Вот бы обрадовались добрые леди и джентльмены, если бы узнали, что мы – те самые бедные дети, для которых они жертвовали шиллинги, шестипенсовики и другие монетки! – сказал Эйч-Оу.
– Чего-о? – вскричали мы.
Не время было задавать вежливые вопросы.
– Я говорю, они были бы рады, если бы знали, что это мы наслаждаемся пудингом, а не какие-то грязные по-настоящему бедные дети, – пояснил Эйч-Оу.
– Ты хочешь сказать, что вы с Элис выпрашивали деньги якобы для бедных детей, а потом всё присвоили? – твердо, но не сердито спросил Освальд.
– Мы не присвоили, а потратили, – ответил Эйч-Оу.
– Нет, присвоили, маленький болван! – сказал Дикки, глядя на пудинг, одиноко и беззаботно лежащий на блюде. – Вы просили денег для бедных детишек, а потом оставили монеты себе. Это воровство, вот что это такое. Я говорю не столько о тебе, ты всего лишь глупый ребенок, но Элис! Зачем?!
Он повернулся к Элис, но та слишком громко рыдала, чтобы вымолвить хоть слово.
У Эйч-Оу был слегка испуганный вид, но он исчерпывающе ответил на вопрос, как мы его и учили:
– Я думал, нам подадут больше, если я буду говорить о бедных детях, а не о нас.
– Это жульничество, – сказал Дикки, – откровенное, подлое, низкое жульничество.
– Я не жулик, – ответил Эйч-Оу. – Сам такой!
И он тоже заплакал.
Не знаю, как себя чувствовали другие, но Освальд почувствовал, что честь дома Бэстейблов втоптана в грязь. Он посмотрел на отвратительный остролист, не пошедший в соус и торчащий над картинами на стене. Остролист выглядел никчемным и отвратительным, хотя на нем осталось немало ягод, разных – зеленых и белых. Инжир, финики и ириски мы разложили на блюдцах кукольного сервиза. При виде всего этого Освальд болезненно покраснел. Признаюсь, ему захотелось заковать Эйч-Оу в наручники, и даже если Освальд испытал минутное желание встряхнуть Элис, автор склонен отнестись к этому снисходительно.
Элис поперхнулась, закашлялась, яростно вытерла глаза и сказала:
– Не надо ругать Эйч-Оу, это я во всем виновата, я ведь старше.
– Виновата вовсе не Элис, – заявил Эйч-Оу. – И я не понимаю, что уж тута такого неправильного.
– «Тут», а не «тута», – пробормотала Дора, обнимая грешника, из-за которого на нашем семействе появилось позорное пятно, – таковы эти нерешительные и нежные глупышки-девчонки. – Расскажи все сестре, Эйч-Оу, милый. Почему виновата не Элис?
Эйч-Оу прижался к Доре и сказал, шмыгая носом:
– Потому что она совершенно ни при чем. Я сам собрал деньги. Она не заходила ни в один из домов. Не захотела.
– А потом присвоила себе честь добытчицы денег, – свирепо сказал Дикки.
– Мало же в этом чести, – презрительно бросил Освальд.
– О, все вы просто гадкие, все, кроме Доры! – воскликнула Элис, в ярости и отчаянии топнув ногой. – Выходя из дома, я зацепилась за гвоздь, порвала платье и не стала возвращаться. Вот почему я послала просить деньги Эйч-Оу, а сама ждала его на улице. Я попросила его ничего никому не говорить, потому что не хотела, чтобы Дора узнала о порванном платье… Оно мое лучшее. Я не знала, что он там, в домах, говорил, он мне не рассказывал. Но я готова поспорить на что угодно – он не собирался жульничать.
– Вы же объяснили мне, что многие добрые люди готовы дать денег на пудинг для бедных детей, – сказал Эйч-Оу. – Поэтому я и просил денег для бедных детей.
Освальд махнул сильной правой рукой, давая знать, что тема закрыта.
– Об этом в другой раз, – сказал он. – Сейчас есть дела поважнее.
И он показал на пудинг, который успел остыть.
– Мы – семья подлых отверженных. Мы не сможем смотреть людям в глаза, пока этот пудинг в нашем доме. Надо позаботиться о том, чтобы он достался бедным детям… Не мерзким, сварливым плаксам, притворяющимся бедными, а настоящим беднякам, таким нищим, что они еле сводят концы с концами.
– И инжир надо отдать им… и финики, – с сожалением сказал Ноэль.
– Весь инжир, – сурово подхватил Дикки. – Освальд совершенно прав.
Как я уже говорил, нарезать сало как можно тоньше гораздо труднее, чем вы думаете. Как и крошащийся хлеб, особенно если буханка свежая. Когда мы покончили с этим делом, хлебные крошки и сало оказались очень большими, комковатыми и тускло-серыми, как куски грифельного карандаша. Впрочем, они стали выглядеть лучше, когда мы смешали их с мукой.
Девочки вымыли смородину коричневым виндзорским мылом и губкой. Часть смородины попала внутрь губки и еще несколько дней из нее выдавливалась, когда мы мылись в ванной, что было очень неприятно. Мы очень тонко нарезали цукаты (вот бы нам так же тонко нарезали хлеб на бутерброды!) и попытались вынуть косточки из изюма, но они слишком прилипли, и мы просто разделили изюм на семь кучек. Потом смешали остальные продукты в умывальнике гостевой спальни, которая всегда пустовала. Каждый из нас положил свою порцию изюма, перемешал все в умывальном тазике, а после мы засунули смесь в один из передников Элис, потому что ничего более похожего на салфетку для пудинга не нашли… Во всяком случае, ничего чистого. Прилипшие к тазику остатки смеси были довольно вкусными.
– Мыльновато, – сказала Элис. – Но, возможно, мыло исчезнет при кипячении, как исчезают пятна со скатерти.
Как варить пудинг? Сложный вопрос. Матильда пришла в ярость, когда мы попросили пустить нас на кухню. Она злилась только потому, что кто-то случайно уронил ее шляпку, висевшую на двери судомойни, а Пинчер схватил шляпку и растерзал. И все-таки кое-кто из нашего посольства сумел стащить кастрюльку, пока остальным рассказывали, что Матильда думает о кончине своей шляпки. Мы набрали в кастрюльку горячую воду в ванной комнате и поставили кипеть над огнем в детской. Перед тем, как уйти пить чай, мы сунули в кастрюльку пудинг.
Если не считать тех моментов, когда огонь гас, а Матильда не спешила принести углей, пудинг варился час с четвертью. Потом Матильда вдруг ворвалась в детскую и со словами:
– Я не позволю вам валять дурака с моей посудой! – попыталась снять кастрюлю с огня.
Вы же понимаете, что стерпеть такое было никак нельзя. Уж не помню, кто посоветовал служанке не лезть не в свое дело, и, кажется, я забыл, кто первым ее схватил, чтобы заставить отказаться от прав на кастрюлю… Уверен – излишнего насилия к ней не применялось. Во всяком случае, пока продолжалась борьба, Элис и Дора унесли кастрюльку, поставили ее в обувной шкафчик под лестницей, и Дора убрала ключ в карман.
Эта стычка настроила нас на сердитый и воинственный лад. К нам вернулось самообладание раньше, чем оно вернулось к Матильде, но перед сном мы сумели с ней помириться. Ссоры всегда следует улаживать перед сном, так сказано в Библии. Если бы это простое правило соблюдалось, не было бы такого множества войн, мучеников, судебных процессов, инквизиции и ужасных смертей на костре.
В доме стало тихо, везде выключили газовое освещение, если не считать одной лестничной площадки. И вот на этой площадке появились несколько закутанных в темное людей и начали красться вниз. По пути на кухню мы очень осторожно достали из шкафа кастрюлю.
Огонь в кухонном очаге горел, но еле-еле; угольный погреб оказался заперт, а в ведре не осталось ничего, кроме угольной пыли и коричневой бумажки, которую кладут на дырявое дно, чтобы угли не вываливались.
Мы поставили кастрюльку на огонь и подбросили в очаг топлива. Две газеты – «Хроникл» и «Телеграф», а в придачу пара романов из «Семейного вестника» сгорели напрасно. Я почти уверен, что пудинг в ту ночь вообще не варился.
– Ничего страшного, – сказала Элис. – Завтра каждый из нас стащит по кусочку угля по дороге на кухню.
Этот дерзкий план был добросовестно выполнен. К ночи у нас набралась почти полкорзинки для бумаг угля, кокса и золы, и под покровом тьмы мы снова появились на лестнице, на этот раз держа в предусмотрительных руках корзинку.
В ту ночь огонь в очаге горел ярче, и мы принялись подкармливать его собранным топливом. Пламя разгорелось, пудинг закипел, как бешеный, и кипел два часа… По крайней мере, я думаю, что прошло два часа, но мы устали следить за варкой и заснули, лежа на кухонных столах. На кухне лучше не спать на полу из-за тараканов.
Нас разбудил кошмарный запах. Это горела салфетка, в которой варился пудинг. Вся вода из кастрюли выкипела. Мы сразу подлили холодной, и кастрюлька треснула. Мы почистили ее, положили обратно на полку, взяли вместо нее тазик и легли спать. Видите, сколько хлопот у нас было из-за пудинга! Каждый вечер до самого Рождества (а оно быстро приближалось) мы тайком спускались в чернильную полночь и варили пудинг так долго, как только могли.
В рождественское утро мы наре?зали остролист для соуса, но вместо бренди добавили горячую воду с сахаром. Некоторые говорили, что соус получился неплохой. Освальд не был одним из этих оптимистов.
Затем наступил миг, когда заказанный отцом «простой» пудинг начал исходить паром на кухонной доске. Матильда принесла его нам и сразу ушла. Помню, в тот день ее навещал двоюродный брат из Вулиджского арсенала. То далекое время до сих пор отчетливо запечатлено в моей памяти.
После ухода служанки мы достали из тайника собственный пудинг и в последний раз наскоро его вскипятили. Он кипел всего семь минут, потому что всех охватило такое нетерпение, что Освальд и Дора не могли справиться с понуканиями остальных.
Мы сумели тайком умыкнуть блюдо и попытались выложить на него пудинг, но он намертво прилип к тазу, и пришлось выбивать его зубилом. Пудинг получился ужасно бледным. Мы полили его соусом из остролиста, Дора взяла нож и уже приготовилась разрезать лакомство, как вдруг несколько простых слов Эйч-Оу превратили нас из счастливых и торжествующих кулинаров в отчаявшихся людей.
– Вот бы обрадовались добрые леди и джентльмены, если бы узнали, что мы – те самые бедные дети, для которых они жертвовали шиллинги, шестипенсовики и другие монетки! – сказал Эйч-Оу.
– Чего-о? – вскричали мы.
Не время было задавать вежливые вопросы.
– Я говорю, они были бы рады, если бы знали, что это мы наслаждаемся пудингом, а не какие-то грязные по-настоящему бедные дети, – пояснил Эйч-Оу.
– Ты хочешь сказать, что вы с Элис выпрашивали деньги якобы для бедных детей, а потом всё присвоили? – твердо, но не сердито спросил Освальд.
– Мы не присвоили, а потратили, – ответил Эйч-Оу.
– Нет, присвоили, маленький болван! – сказал Дикки, глядя на пудинг, одиноко и беззаботно лежащий на блюде. – Вы просили денег для бедных детишек, а потом оставили монеты себе. Это воровство, вот что это такое. Я говорю не столько о тебе, ты всего лишь глупый ребенок, но Элис! Зачем?!
Он повернулся к Элис, но та слишком громко рыдала, чтобы вымолвить хоть слово.
У Эйч-Оу был слегка испуганный вид, но он исчерпывающе ответил на вопрос, как мы его и учили:
– Я думал, нам подадут больше, если я буду говорить о бедных детях, а не о нас.
– Это жульничество, – сказал Дикки, – откровенное, подлое, низкое жульничество.
– Я не жулик, – ответил Эйч-Оу. – Сам такой!
И он тоже заплакал.
Не знаю, как себя чувствовали другие, но Освальд почувствовал, что честь дома Бэстейблов втоптана в грязь. Он посмотрел на отвратительный остролист, не пошедший в соус и торчащий над картинами на стене. Остролист выглядел никчемным и отвратительным, хотя на нем осталось немало ягод, разных – зеленых и белых. Инжир, финики и ириски мы разложили на блюдцах кукольного сервиза. При виде всего этого Освальд болезненно покраснел. Признаюсь, ему захотелось заковать Эйч-Оу в наручники, и даже если Освальд испытал минутное желание встряхнуть Элис, автор склонен отнестись к этому снисходительно.
Элис поперхнулась, закашлялась, яростно вытерла глаза и сказала:
– Не надо ругать Эйч-Оу, это я во всем виновата, я ведь старше.
– Виновата вовсе не Элис, – заявил Эйч-Оу. – И я не понимаю, что уж тута такого неправильного.
– «Тут», а не «тута», – пробормотала Дора, обнимая грешника, из-за которого на нашем семействе появилось позорное пятно, – таковы эти нерешительные и нежные глупышки-девчонки. – Расскажи все сестре, Эйч-Оу, милый. Почему виновата не Элис?
Эйч-Оу прижался к Доре и сказал, шмыгая носом:
– Потому что она совершенно ни при чем. Я сам собрал деньги. Она не заходила ни в один из домов. Не захотела.
– А потом присвоила себе честь добытчицы денег, – свирепо сказал Дикки.
– Мало же в этом чести, – презрительно бросил Освальд.
– О, все вы просто гадкие, все, кроме Доры! – воскликнула Элис, в ярости и отчаянии топнув ногой. – Выходя из дома, я зацепилась за гвоздь, порвала платье и не стала возвращаться. Вот почему я послала просить деньги Эйч-Оу, а сама ждала его на улице. Я попросила его ничего никому не говорить, потому что не хотела, чтобы Дора узнала о порванном платье… Оно мое лучшее. Я не знала, что он там, в домах, говорил, он мне не рассказывал. Но я готова поспорить на что угодно – он не собирался жульничать.
– Вы же объяснили мне, что многие добрые люди готовы дать денег на пудинг для бедных детей, – сказал Эйч-Оу. – Поэтому я и просил денег для бедных детей.
Освальд махнул сильной правой рукой, давая знать, что тема закрыта.
– Об этом в другой раз, – сказал он. – Сейчас есть дела поважнее.
И он показал на пудинг, который успел остыть.
– Мы – семья подлых отверженных. Мы не сможем смотреть людям в глаза, пока этот пудинг в нашем доме. Надо позаботиться о том, чтобы он достался бедным детям… Не мерзким, сварливым плаксам, притворяющимся бедными, а настоящим беднякам, таким нищим, что они еле сводят концы с концами.
– И инжир надо отдать им… и финики, – с сожалением сказал Ноэль.
– Весь инжир, – сурово подхватил Дикки. – Освальд совершенно прав.