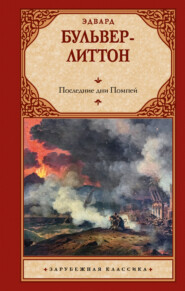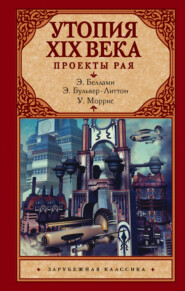По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Восход и закат
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он с мрачным выражением быстро подступив к Филиппу; тот пятился по мере приближения соперника, но не спускал с него глаз. Характеры обоих как будто обменялись. Робкий мечтатель, казалось, стал бесстрашным солдатом; солдат как будто робел, трепетал. Сидней своими нежными, тонкими пальчиками смело схватил мускулистую, твердую руку Филиппа и мрачно, грозно глядя ему в глаза, проговорил глухим шепотом:
– Слышите?.. понимаете вы меня? Я говорю, что никто в мире не в состоянии принудить ее к союзу, которому, я уверен, противится её сердце! Мои права священнее ваших. Откажитесь, или возьмите ее вместе с моей жизнью!
Филипп, казалось, ничего не слыхал. Все чувства ей перешли в зрение. Он продолжал осматривать говорящего и, постепенно обратив глаза на руку, которая все-еще не опускала его руки, вскрикнул, схватил руку и указал на перстень, но не проговорил ни слова. Сэр Роберт подошел и пробормотал Сиднею несколько слов, но Филипп сделал ему знак чтобы он молчал, и наконец с величайшим напряжением спросил у Бофора:
– Имя?.. имя его?
– Мистер Спенсер… мистер Чарлз Спенсер! вскричал Бофор: выслушайте, выслушайте меня… я все объясню… я…
– Молчите! молчите! вскричал Филипп, и обращаясь к Сиднею, положив руку ему на плечо, уставив глаза в глаза, спросил: не было ли у вас когда другого имени? Вы не… да!.. да, да!.. это верно… это так! Пойдемте, пойдемте со мной!
Филипп насильно увлек своего соперника в другую комнату и запер дверь. Комната эта была освещена одной свечою и трепетным огнем камина. Молодые люди, как-бы обаянные какими-нибудь чарами, долго смотрели друг на друга молча. Наконец Филипп, увлеченный неодолимым чувством, упал на грудь Сиднея, судорожно сжал его в объятиях и простонал:
– Сидней! Сидней! брат мой!
– Как! вскричал Сидней, вырываясь и отступив: так это ты?.. ты?.. брать?.. ты, который всегда был тернием на моем пути… тучей на моем небе? Ты пришел теперь сделать меня несчастным на всю жизнь? Я люблю эту девушку, и ты хочешь вырвать ее у меня? Ты, который еще в детстве принудил меня терпеть горе, который… если бы не вступились добрые люди… быть-может, сделал бы меня негодяем, преступником… покрыл бы позором…
– Остановись! остановись! закричал Филипп таким пронзительным голосом, что он впился как нож в сердце всем бывшим в соседней комнате.
Они со страхом переглянулись, но никто не осмелился помешать объяснению. Даже Сидней ужаснуло звука этого голосу. Он упал на стул и, пораженный этими новыми для него страстями, закрыл лицо руками и зарыдал как дитя. Филипп несколько раз большими шагами прошелся по комнате, потом остановился перед братом и сказал с спокойною холодностью неузнанного и глубоко уязвленного чувства:
– Сидней Бофор! выслушай меня. Мать моя, умирая, поручила тебя моему попечению, моей любви. В последних строках, написанных её рукою, она просила меня заботиться меньше о себе нежели о тебе; быть тебе не только братом, но отцом. Прочитав это письмо, я упал на колени и дал клятву исполнять завещание, пожертвовать собой, если этим можно будет доставить тебе состояние или счастье. И это не столько для тебя, но ради моей матери, ради нашей оскорбленной, оклеветанной матери, умершей с разбитым, растерзанным сердцем… О, Сидней, Сидней! неужто у тебя нет слез для неё?.. Да! ради того, что мать в последнем письме сказала мне: «пусть моя любовь к нему перейдет в твое сердце»… Вот почему, Сидней! вот почему, при всем том, что делал для тебя, я воображал, что вижу улыбающийся мне образ матери. Позже, быть-может, когда мы поговорим о том времени, как я работал для тебя, когда я переносил унижение для того чтоб доставить тебе спокойную жизнь, – позже быть-может ты будешь справедливее ко мне. Ты оставил меня или был у меня похищен, и я отдал все что получил в наследство от матери, чтобы только добыть весть о тебе. Я получил твое письмо… твое горькое письмо… и меня уже не тревожило то, что я нищий: я был одинок. Ты говоришь, что пострадал от меня… ты? И теперь ты требуешь, чтобы я… чтобы я… Боже милосердый! объяснись! Ты любишь Камиллу?.. Она любит тебя? Говори! говори!.. Какое новое мученье ждет меня?
Тут Сидней, несмотря на свое более себялюбивое горе, тронутый и пристыженный речью и выражением брата, в коротких словах рассказал историю своей любви и наконец подал письмо Бофора. При сих усилиях Филиппа сохранить власть над собой, душевные страдания его были так сильны, так виданы, что Сидней чистосердечно раскаялся в своей опрометчивости и со слезами бросился к брату на грудь.
– Брат! брат! прости меня! Я вижу, что был несправедлив к тебе. Если она забыла меня… если она любит тебя, женясь на ней и будь счастлив!
Филипп обнял его, но без теплоты, и потом отошел. Снова начал он ходят в сильном волнении по комнате; и отрывистые слова невольно вырывались из трепещущих уст: «Мне сказали, она любит меня!.. Господи, пошли мне силы!.. Матушка! матушка! помоги мне исполнить данное слово!.. О, зачем я не умер прежде!» Наконец он остановился; и крупные капли поту покатились у него со лба.
– Сидней, сказал он, тут есть тайна, которой я не понимаю. Но голова моя теперь расстроена. Если она любит тебя… если… возможно ли, чтобы женщина любила двоих?.. Хорошо… хорошо. Я пойду, разрешить эту загадку. Подожди меня здесь.
Он ушел в гостиную и Сидней с полчаса оставался один. Сквозь стену он слышал неясный говор и отличал рыдания Камиллы. Подробностей этого разговора между Филиппом и Камиллой, происходившего сначала наедине, потом при отце и матери, Филипп никогда не открывал и Сидней никогда не мог получить полного объяснения от Камиллы, которая даже в поздние годы вспоминала об нем с сильным волнением. Наконец дверь отворилась, и Филипп вошел, ведя Камиллу за руку. Лицо его было спокойно; на устах улыбка. Во всем существе его выражалось торжественное величие. Камилла, закрыв глаза платком, плакала. Сэр Роберт следовал за ними, недовольный, расстроенный.
– Кончено, Сидней! сказал Филипп: все кончено. Я уступаю твоим первым, следовательно, лучшим правам. Сэр Роберт согласен отдать ее за тебя. Он при удобном случае объяснит тебе, что наше родовое право наконец будет признано законным, и что нет уже никакого пятна на имени, которое мы будем носить. Сидней, обними свою невесту.
Оглушенный, восхищенный, не совсем веря своему счастью, Сидней схватил и начал целовать руку Камиллы. И когда он повлек ее к себе на грудь, она оборотилась и, указав на Филиппа, сказала:
– О? если вы любите меня так, как говорите… смотрите на него, великодушного… благородного…
Новые рыдания заглушили её слова. Когда же Сидней опять схватил её руку, чтобы осыпать поцелуями, она с истинно женскою, нежною проницательностью чувства шепнула:
– О! уважьте… пощадите его! Посмотрите!
И Сидней, взглянув на брата, увидел, что он старался улыбаться, но бледнел и трепетал: черты лица искажались, как у страждущего под пыткой.
– Я исполнил свою клятву! сказал наконец, Филипп: я отдал тебе единственное благо в жизни, которое надеялся назвать своим. Будь счастлив, Сидней! И я успокоюсь, если Богу угодно будет заживать эту рану. Теперь же не удивляйся и не осуждай меня, если я на время оставлю брата, которого так поздно нашел. Сделайте мне одолжение, вы, сэр Роберт, и ты Сидней… Пусть венчальный обряд будет исполнен в Г-ском предместий, в деревенской церкви, где покоится прах нашей матери, и отложите свадьбу до окончания процесса. До того времени я надеюсь быть в состоянии подойти опять ко всем вам… и к вам, Камилла, так, как прилично брату. Но покуда пусть мое присутствие не нарушает вашего счастья. Не отыскивайте меня; не осведомляйтесь обо мне, пока я сам не явлюсь, прошу вас… Не возражайте! не возражайте! Пощадите меня. Прощайте.
Твердость, которую Филипп так долго сохранял, оставила его, когда он вышел из дому. Он чувствовал, что дух его разбит и смешан в хаос. Он бежал машинально, из улицы в улицу, несмотря за темноту и глубокий снег. Он вышел из города и остановился не прежде как на кладбище, на могиле матери. Снег толстым слоем лежал на могилах; одетые в белые саваны, печальные ивы стояли как вышедшие из гробов привидения. На перилах, окружавших могилу Катерины, еще висел венок, сплетенный руками Фанни, но цветов было не видно: это был венок из снега. Сквозь промежутка огромных, неподвижных туч уныло мерцали две три одинокие звезды. Самое спокойствие этого священного места казалось невыразимо печальным. И когда Филипп склонился над могилою, то в нем и вне его все было холодно и темно!
Долго ли оставался тут, что чувствовал, о чем молился, этого он и сам после не мог припомнить. К утру Фанни услышала его шаги на лестнице и шорох в комнате, над её головой. Потом, когда она встала, ее испугали несвязные, дикие восклицания и неистовый хохот. Горячка бросилась в голову: он был в бреду.
Несколько недель Филипп был в непрерывной опасности и большую часть времени находился в бессознательном состоянии. Это была первая жестокая болезнь его в жизни, и потому она тем сильнее потрясла его. Но опасность миновала, и он медленно, постепенно начал поправляться. Сидней, полагая, что брат уехал куда-нибудь, ничего не знал об этом. Притом Филипп настоятельно просил, чтобы его не отыскивали. Никого не было у его болезненного одра, кроме наемной сиделки, и неподкупного сердца единственного существа, которому ничего не значили богатство и знатность наследника Бофор-Кура. Здесь получил он последний урок судьбы, – о суетности тех человеческих желаний, которые стремятся к золоту и могуществу. Сколько лет сирота-изгнанник с негодованием плакал об отнятых правах своих! И вот, они были возвращены. Но вместе с этим разбито сердце и изнурено тело! Мало-помалу начиная приходить в себя и рассуждать, он невольно напал на эту мысль. Ему казалось, что он поделом наказан за то, что в молодости с пренебрежением отвергал радости, которыми еще мог бы пользоваться, которые еще были доступны и сирот. Разве его чудесное здоровье ничего не значило? Разве ничего не значила бессмертная надежда? Ничего не значило юное сердце, хотя оскорбленное, уязвленное и тяжко испытанное, однако же еще не растерзанное самыми ужасными муками страстей, обманутою, ревнивою любовью? Несмотря на уверенность, что, если останется жив, будет обладать огромным имением и знатным именем, он сожалел о своем прошедшем, даже о том времени, когда с осиротевшим братом своим бродил по пустынным полям и чувствовал, какими силами, какою мощью владеет человек, когда ему есть кого защищать, есть о ком заботиться; сожалел и о той поре, когда, утратив первую свою любовь, первую свою благодетельницу, Евгению де-Мервиль, он смело, грудь против груди, на чужой стороне боролся с судьбой за честь и независимость. В тяжкой болезни, – особенно человека непривычного, есть нечто такое, что имеет часто самое благодетельное влияние на душу; что посредством насильственного и, правда, часто жестокого потрясения физического организма, освобождает нас от болезни нравственной; что заставляет вас чувствовать, что в самой жизни, в такой, какою наслаждаются здоровые и крепкие, заключается уже великое благо, неоценимый дар Божий. И потому мы с одра болезни обыкновенно встаем более кроткими, смиренными, более склонными искать таких скромных благ, которые еще могут быть доступны нам.
Пока Филипп был счастливь, кипел надеждами, Фанни была несчастна. Он пламенно, красноречиво благодарил ее за это счастье, называл благодетельницей, которая возвратила ему богатство, имя, честь матери; которая наконец дает ему прекрасную супругу, соединяет его с той, кого он любит пуще всего на свете. Фанни радовалась его счастью, улыбалась, потом уходила и проплакивала ночи напролет. Счастливый Филипп не замечал этого. Когда же он воротился, страждущий, больной, лежал в беспамятстве, она совершенно забыла о себе и посвятила ему исключительно все попечения, всю нежную заботливость, к каким способна бывает женщина. И когда Филипп очувствовался, первое лицо, которое увидел он, было её лицо; первое имя, которое выговорил – было её имя. Начав поправляться и переселившись с постели на диван, он гораздо охотнее прежнего слушал, как она читала и пела с чувством, которого не может дать никакой учитель. И однажды он откровенно заговорил с ней, рассказал всю свою историю и последнюю жертву. И Фанни, проливая слезы узнала, что он уже не принадлежит другой.
В этом тихом, дружественном сожительстве, постепенно, с минуты на минуту, наступали те драгоценные эпохи, которые означают переворот в чувствах. Невыразимая благодарность, братская нежность и соединенные силы сострадания и уважения, которые Филипп чувствовал к Фанни, по мере выздоровления его, сливалось в одно еще более нежное чувство. Он уже не мог обманывать себя ничтожным, горделивым мнением, будто принял под свое покровительство слабую, несовершенную душу, существо, обиженное природой; он снова начал замечать редкую красоту этого нежного лица, которое, быть-может, стало еще милее, когда легкая бледность заменила прежний пышный цвет.
Однажды вечером, полагая, что был один, он погрузился в глубокое раздумье и, мгновенно пробудившись от него, громко сказал:
– Истинную ли любовь чувствовала я к Камилле? Не была ли это только страсть, безумие, заблуждение?
Отзывом на это восклицание был звук, который обнаруживал вместе и страдание, и радость. Он взглянул… перед ним стоила Фанни. Только-что взошедшая луна обливала ее серебристым светом. Она закрыла лицо руками. Филипп слышал, как она плакала.
– Фанни! милая Фанни! вскричал он, вскочив и простирая к ней объятия.
Но Фанни уклонилась и исчезла ив комнаты как сон.
Филипп, еще слабо держась на ногах, в первый раз начал прохаживаться по комнате. Как противоположны были в эту минуту чувства его с теми, от которых он в последний раз метался в этой же тесной комнате! Прошла болезнь; прошла и зима. Он подошел к окну, отворил его, и с наслаждением впивал весенний, ароматический воздух, освежавший его голову. Все, и тихая ночь, и ясное небо, и снова зеленеющее кладбище, представлялось ему в новом, прекраснейшем виде. Воспоминание о матери слилось у него с мыслью о Фанни.
– Я исполнил завет твой… Сидней счастлив! шептал он: благодари ее!
Долго стоял он у окна с веселыми мыслями, с сладостными надеждами, и забыл об опасности.
На другой день врач нашел его опять в беспамятстве, которое продолжалось несколько дней. Наконец Филипп пробудился, как от долгого, тяжелого сна, оживленный, укрепленный, так, что чувствовал сам, что тягостный кризис миновался, чувствовал, что наконец пробился к светлому, озаренному солнцем берегу жизни.
У постели его сидел Лианкур, который долго беспокоился об участи друга и, наконец, с помощью мастера Барлова, отыскал его и разделял с Фанни попечения об нем. Черев несколько дней больной был в состояния выйти из комнаты и свежий воздух уже стал необходим к совершенному его выздоровлению. Тут Лианкур, который уже дня два горел каким-то нетерпением, на прогулке завел разговор, серьезно.
– Любезный друг, я узнал теперь всю вашу историю от Барлова, который во время вторичной вашей болезни приходил несколько раз и нетерпеливо желает видеться с вами, потому что процесс ваш скоро должен кончиться. Вам надобно оставить этот дом, чем скорей, тем лучше.
– Оставить этот дом? Зачем же? Не здесь ли та, которой я обязан не только имением, но и жизнью!
– Да! Поэтому-то я и говорю вам: удалитесь. Это единственное удовлетворение, которое вы можете дать ей.
– Говорите яснее!
– Я вместе с ней сидел у вашей постели, продолжал Лианкур: я знаю то, о чем вы уже должны догадываться. Даже старая служанка уже осмелилась говорить мне об этом. Вы внушили бедной девушке такие чувства, которые навсегда могут нарушить её спокойствие.
– А! вскричал Филипп с такою радостью, что Лианкур нахмурился.
– Доселе я считал вас слишком честным, чтобы…
– Так вы полагаете, что она любит меня! прервал его Филипп.
– Да; но что ж из итого? Вы, наследник знатного имени и двадцати тысяч фунтов доходу, можете ли вы жениться на этой бедной девушке?
– Я подумаю об этом. Во всяком случае я оставлю этот дом, покуда, до окончания процесса. Перестанем говорить об этом.
У Филиппа было довольно проницательности на то, чтобы заметить, что Лианкур, тронутый красотою, невинностью и сиротством Фанни, не удовольствовался предостережением друга, но, по праву пожилого человека, с благонамеренною суровостью подал добрый совет и самой Фанни. Она, по-видимому, избегала встречи с ним; глаза её пухли; обращение было принужденно. Филипп видел эту перемену и радовался ей.
Другие электронные книги автора Эдвард Джордж Бульвер-Литтон
Другие аудиокниги автора Эдвард Джордж Бульвер-Литтон
Последние дни Помпеи




 4.67
4.67