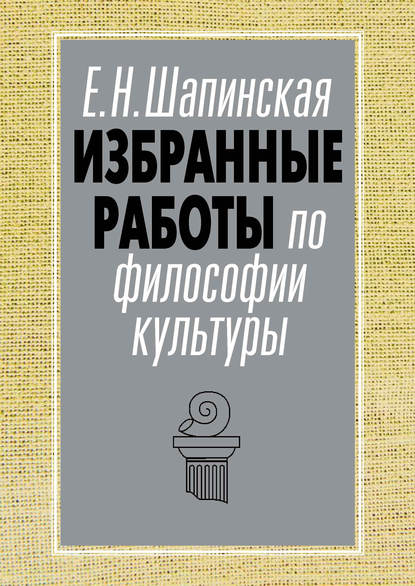По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранные работы по философии культуры
Жанр
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Несомненно, нельзя провести прямую параллель между анализом того или иного феномена в теоретической литературе и изображением его в художественном тексте. В. Суковатая, к работе которой мы уже обращались выше, посвятила свое фундаментальное исследование Другого именно теоретической рефлексии. Она объясняет это отличие таким образом: «Если речь идет о художественных текстах, то в них мы можем идентифицировать присутствие Другого на уровне темы, мотива, образа. Если мы возвращаемся к современной философии и пытаемся типологизировать подходы к Другому, то это будет, очевидно, концепт (понятие) Другого или категория, которую мы анализируем с точки зрения эволюции ее философско-этического содержания. Однако, несмотря на то, что следы Другого можно обнаружить даже в образах древних мифологий и классической философии, категории Другого как факта научной рефлексии или инструментария в них нет. В этих случая мы можем говорить только о текстах и телах Другого, присутствующих косвенно или имплицитно» [113, c. 47].
Действительно, концептуализация многих культурных пространств – гендера, этничности, субкультур, «другости» и т. д. – в теоретических исследованиях произошла во второй половине XX века. Расширение поля культурологической рефлексии вообще характерно для этого периода, особенно в постмодернистской теории, где эти области занимают весьма значительное место. Тем не менее, можно вполне явно проследить их присутствие в текстах, относящихся к самым разным историко-культурным эпохам. Так, к примеру, в литературных текстах прошлого содержатся различные модели маскулинности и фемининности, релевантные и для эпохи (пост)культуры, что подтверждается и широким использованием нарративной структуры этих текстов для культурных форм нового тысячелетия.
Обращение к самым разным видам текстов, как теоретических, так и художественных, связано также с тем, что во всех них репрезентированные феномены являются конструктами, которые нельзя принимать за прямое подобие реальности, даже если они таковыми кажутся. Как научный, так и художественный язык являются, по мнению известного американского теоретика литературы, придерживающегося метода деконструкции, П. де Мана, метафорическим. Т. Иглтон в своем анализе постструктурализма в литературе обращается к этим идеям американского автора. «Философия, юриспруденция, политическая теория работают при помощи метафоры, так же, как и поэзия, и являются такими же фикциональными… Литературные произведения менее обманчивы, чем другие формы дискурса, поскольку они имплицитно признают свой собственный риторический статус – тот факт, что то, что они говорят отличается от того, что они делают, что все их притязания на знание работают через фигуративные структуры, которые делают их спорными и неопределенными. Они, можно сказать, ироничны по своей природе. Другие формы письма также фигуративны и спорны, но выдают себя за непреложную истину» [183, р. 145].
В процессе репрезентации также происходит переоценка культурных форм с точки зрения отхода от унифицированных нарративных репрезентаций субъективности. Говоря словами В. Бергена, искусство и теория должны показывать значение различий этнических, классовых, гендерных как процесса производства, как «нечто изменяемое, историческое, и поэтому то, по поводу чего, можно что-то сделать» [166, p. 108].
Эту изменчивость мы можем наблюдать в разнообразии смыслов, придающихся тому или иному тексту в разных историко-культурных контекстах. Если динамические процессы происходят в культуре достаточно бурно, мы можем видеть значительные сдвиги в восприятии одного и того же текста на протяжении короткого периода. Иногда в течение нескольких лет происходит переосмысление основных идей того или иного произведения, но чаще это переосмысление выражается в «переводе» его на другой язык, в частности на музыкальный (в случае оперы – в форме либретто). Проблема «перевода» одного языка культуры на другой, в частности, возможность «рассказать» литературное произведение языком музыки, является весьма важной в современной теории культуры. Разницу в возможностях репрезентации в этих культурных формах необходимо учитывать при постановке различных сценических и кинематографических версий первоначального литературного текста-основы. Известный отечественный теоретик культуры Н. Хренов проводит разницу между литературным и кинематографическим языком «…в кино существует много элементов, сближающих его с литературой. В то же время исследователи констатируют и целый ряд особенностей, демонстрирующих несходство литературных и кинематографических структур. Оно связано с тем, что иногда называют кинематографичностью или зрелищностью кино. Предполагается, что понятие «зрелищность» не только не тождественно понятию «литературность», но и противоположно ему. Это справедливая, хотя и односторонняя точка зрения» [135, с. 112].
Автор отмечает, что в своих ранних формах литература была также скорее зрелищна, чем нарративна и считает зрелищность начальной формой литературного развития. Кинематограф, с точки зрения Н. Хренова, лучше всего соответствует именно этим ранним литературным формам, что делает их сопоставление вполне возможным. «Поскольку зрелищность в какой-то степени представляет инобытие литературности, а точнее, литературности в начальных формах ее развития, кинематограф можно рассматривать в ряду литературных явлений. С этой точки зрения понятие зрелищности как бы не противостоит понятию литературности» [135, с. 113].
На наш взгляд, эти рассуждения вполне применимы и к такой музыкальной форме как опера, в особенности принимая во внимание ее современное медиатизированное существование. Можно сослаться в данном случае на широко распространенную практику трансляций оперных (и балетных) спектаклей ведущих театров мира в кинотеатрах в глобальном масштабе. Соглашаясь с тем, что литературные тексты могут быть «зрелищными», мы все же обращаем внимание на противоположное явление – на то, что оперные тексты могут быть нарративными. Это означает, прежде всего, расстановку акцентов в репрезентации – то, как то или иное событие или персонаж показан или то, как о нем рассказано. В классической опере сюжет играет большую роль, каким бы условным он ни был и насколько отдельные его моменты не были бы поводом для демонстрации вокального мастерства. Оперный нарратив имеет свои особенности, но в то же время сохраняет все черты «истории», рассказанной в специфичном коде репрезентации и необходимой для поддержания интереса публики. «Рассказывание историй является, возможно, самой древней и самой устойчивой формой развлечения… Истории могут быть трогательными и захватывающими и в то же время развлекательными… но нарратив может быть и чем-то большим. Поскольку он имеет структуру, включающую начало. середину и конец, и является продуктом воображения, он может обладать единством действия, которого никогда не существует в потоке реальной истории» [195, p. 125]. Несмотря на модернистский отход от нарратива, что выражено как в литературных, так и в музыкальных художественных формах, он вновь и вновь утверждает себя в художественных практиках, где нарративные формы оказываются более плодотворными для репрезентации, чем экспериментальные формы выразительности, отказывающиеся от нарратива. «Как утверждал Лиотар в «Состоянии постмодерна», нарратив является до сих пор важнейшей формой нашего представления знания, и это объясняет, почему пренебрежительное отношение к позитивному знанию со стороны позитивистской науки спровоцировало такую бурную реакцию в самых разных областях. Во многих областях нарратив является, и всегда являлся, значимым способом объяснения, и историки всегда использовали его возможности упорядочивания и структурирования событий» [208, с. 67]. Бессюжетная опера невозможна, поскольку тогда она становится другим музыкальным жанром, даже и имеющим вербальный компонент.
Наиболее показательным для понимания сущности репрезентации и ее места в культурном производстве является, на наш взгляд, анализ нарративных художественных текстов, поскольку значительная роль в формировании представлений о различных аспектах и формах реальности принадлежит популярной культуре, где господствуют нарративные формы. Нарратив уходит корнями в далекое прошлое, о котором говорилось выше как пространстве имплицитного присутствия современных дискурсивных формаций. «Рассказывание историй является, возможно, самой древней и самой устойчивой формой развлечения, а особые черты нарративной конструкции могут быть использованы с целью развлекать… Истории могут трогательными и захватывающими, так же как и развлекательными. и особые приемы нарратива также могут быть использованы с этой целью. Но нарратив может делать нечто большее. Поскольку он имеет структуру начала, середины и конца и является продуктом воображения, он может создать единство действий и событий, которого никогда не существует в потоке реальных исторических событий» [195, p. 125].
Нарратив сам по себе отделяет «Я» от «Другого». В ходе нарратива мы сталкиваемся с жизненными историями Других, и то, насколько эти Другие поляризуются по отношению к «Мы» или «Я»-персонажу, во многом зависит от нашего представления о модели «другости», преобладающей как обществе, так и в теоретической рефлексии. Эта «Мы» или «Я»-позиция может быть выражена в литературном тексте различными приемами, в частности в структурировании повествования от первого лица, что является наиболее простой конструкцией, разграничивающей позицию субъекта-Автора и объекта-Другого. Но и в том случае, если события подаются «объективно», как бы со стороны нейтрального наблюдателя, отношение к ним обусловлено не только личностной позицией автора, но и превалирующими в обществе ценностями. «…автор не работает в вакууме. Очевидно, в реалистических, в отличие от фантастических, историях работают сдерживающие начала, которые отражают реальную жизнь. Тем не менее, о романе нельзя думать как о чем-то, снабжающем нас правдивым отражением опыта или его искусным синопсисом. Скорее, он заставляет нас взглянуть на некоторые аспекты опыта через образ, который помогает нам развить его верное понимание» [195, р. 126].
Рассуждения Г. Грэхема вполне соответствуют тому, что мы пытаемся показать в нашей работе, а именно влиянию сконструированных в соответствии с определенными правилами и под влиянием идеологических моделей аспектов реальности на тот взгляд на эти аспекты, который превалирует в культуре и социуме. Влияние искусства на формирование отношению к различным феноменам реальности, будь он представлен имплицитно или эксплицитно в ее текстах, в течение долгого времени было определяющим по сравнению с теоретическими работами и документальными жанрами. Роль художественного образа в сознании общества, как подчеркивает Грэхем, очень велика. Творчество, по его мнению, «…является примером того, как художественный образ не просто отражает, но и структурирует мир политического опыта. Искусство может таким же образом соотноситься с моральным и социальным опытом. Можно выразить эту мысль, сказав, что мы должны думать о художественных творениях не как о стереотипах, но как об архетипах. Образы, созданные великими художниками, не предоставляют нам выжимки или обобщения всего многообразия опыта (стереотипы), но воображаемые модели, которые являются мерилом этого многообразия (архетипы). Можно сказать, что в некоторых контекстах эти архетипы составляют единственную реальность» [195, р. 128].
Различные художественные тексты, в которых представлены образы, почерпнутые из реальности, заключают в себе именно такие архетипичные модели, которые имеют весьма сложную связь с этой реальностью. С одной стороны, это конструкты, построенные по идеологическим правилам политики репрезентации. С другой, по этим моделям, в сочетании с теоретическим дискурсом, мы можем судить о господствующем отношении к тому или иному культурному или природному феномену в ту или иную эпоху.
Судьба культурных форм, их позиционирование в общекультурном пространстве во многом формируется репрезентациями и их соотношением с социокультурной реальностью. Но культурная форма в ее реификации всегда связана с субъектом – автором или интерпретатором. В области репрезентации происходит переплетение разных контекстуально обусловленных отношений – того, которое формируется у человека в его повседневности, и того, которое основано на репрезентациях, являющихся частью социокультурного пространства и в то же время субъективно обусловленных. Политика репрезентации, кроме того, может быть нацелена как на поддержание обыденных представлений, так и на их изменение, «рассеивание мифа», что зависит от того, что является в данный момент доминантой в идеологии. Эта «расплывчатость» самоидентификации связана во многом с «размыванием» границ привычных понятий, с переосмыслением устойчивых представлений и изменением аксиологических ориентаций, которые являлись основой и представлений о себе. Само понятие субъекта изменяется в зависимости от культурно-исторического контекста. «Субъект – это не естественное определение человека, а историческое… у субъектности есть границы, которые конститутивны для нее самой, т. е. человек является субъектом только в определнных границах, причем характер этих границ и задает тип субъектности, его пространственно-временные, исторические, культурные, биографические рамки» [147, с. 148]. В постмодернистских культурных текстах размытость понятий и представлений связана с подвижностью субъектной позиции автора, которая зачастую подрывает все традиционные бинаризмы, включая столь базовое разделение Добра и Зла. Оценить этот процесс весьма непросто, поскольку кризис формирования личностной идентичности может восприниматься не только как кризис человека в целом, но и как пересмотр тех позиций, на которых эта идентичность основывалась. Этот процесс очень ярко проявляется в постановочных стратегиях, когда классический текст применяется к субъектной позиции автора вплоть до полного растворения в ней, примеры чего мы приводим в других главах.
Анализ репрезентаций различных социокультурных феноменов, содержащихся в литературных и музыкальных текстах и их интерпретациях в современной культуре, показывает, что эти репрезентации представляют собой далекий от миметического подражания конструкт, созданный в соответствии с политикой репрезентации, господствующей в определенной социокультурной ситуации. В то же время эти репрезентации определяют восприятие реальности современным человеком, выросшем и воспитанным в условиях тотальной медиатизации культуры. Еще в первой половине прошлого века, когда начиналось повсеместное распространение массовых медиатизированных форм искусства, ученые предвидели их влияние на классические образцы. Одной из основных особенностей массовой культуры и искусства является отсутствие в них присущей высокому искусству ауры. Это понятие было разработано В. Беньямином, по мнению которого современная технология механического репродуцирования открыла новую эпоху в чувственном восприятии. «Аура» произведения искусства, по Беньямину, – это его уникальное существование во времени и пространстве, его аутентичность. При механическом воспроизводстве произведение искусства рассеивается, превращаясь во множество копий, что означает потерю аутентичности как меры ценности или даже как значимого понятия в искусстве. Это происходит по причине разрушения временной и пространственной индивидуальности произведения искусства, потерей им своего контекста и места в континууме традиции. Подъем массовой культуры совпал с распространением копий произведений высокого искусства широкой публике, что привело к уничтожению катарсиса. В. Беньямин привлек внимание к вхождению произведения классического искусства в пространство массовой культуры путем новых возможностей технического воспроизводства. В результате начался процесс лишения уникального художественного произведения его «ауры», того, что было характерно для искусства со времен его существования в сакральном пространстве. «То, что при этом исчезает, может быть суммировано с помощью понятия ауры в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение выходит за пределы области искусства. Репродукционная техника, так можно было бы выразить это в общем виде, выводит репредуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым» [15].
Массовые копии произведений искусства становятся основой формирования вкусов и предпочтений в художественной области и составляют ту среду, в которой проходит формирование ценностного мира человека. Еще Т. Адорно, подвергший всесторонней критике «культурную индустрию», отмечал власть репрезентаций и их способность затмевать реальность. По его мнению, культурная индустрия (как и ее защитники) претендует на упорядочивающую роль в хаотическом мире, хотя, по сути дела, она этот мир разрушает. Погруженный в мир репрезентаций человек часто не готов воспринимать реальность, которая может казаться менее яркой и выразительной, чем созданные при помощи технических средств образы. В то же время отношение к миру часто бывает сформированным еще до того, как человек сталкивается с его различными сторонами, и власть репрезентации может быть настолько сильной, что полностью затмевать видение реальности. Несмотря на многочисленные исследования в различных областях академических исследований, посвященных репрезентации, ее способность влиять на представления человека о культуре и природе, о себе и других людях ускользает от четкой концептуализации в рациональных категориях.
Мы обратимся в данной работе к репрезентациям, носящим весьма условный характер и не связанным, как правило, с реальными референтами – к образам музыкального театра, которые, как правило, являются созданиями фантазийными, романтическими, зловещими или сказочнопрекрасными. В этих образах различные стороны человеческой жизни представлены в гипертрофированной форме, а драматический накал страстей доведен до того предела, который редко встречается как в жизни, так и в других художественных репрезентациях. Тем не менее, если мы начнем «читать» музыкальные сказки, драмы, трагедии и комедии как значимые тексты, то увидим, что в них заключены различные сущностно важные смыслы, переданные через специфический музыкально-вербальный код, освоение которого и поможет нам подойти к тем важнейшим сторонам и проблемам человеческого бытия, которые нашли воплощение в сложной, условной, но в сути своей очень значимой для человека форме репрезентации, о которой пойдет речь далее. Во всем многообразии интерпретаций, которые харкетрны для плюрализма современной культуры в целом, мы можем видеть постоянный возврат к классическим образцам, которые переживают самые экстремальные эксперименты и продолжают привлекать внимание как «культурных производителей», так и «потребителей». Можно согласиться с мнением эстетика, который утверждает, что «…произведение искусства как бы живет самостоятельной жизнью, оставаясь актуальным, если оно ре сосредоточено на самом себе и не есть знак самого себя, но отображение человечески значимых проблем, ситуаций. Многозначность произведения, возможность открытия в нем новых смыслов делают произведение подлинного искусства современным всегда [105, p. 207].
Глава 2
«Моцартиана»: осмысление экзистенциальных проблем в операх Моцарта
1. Проблема властных отношений в различных культурных текстах и контекстах: «Свадьба Фигаро» Бомарше и Моцарта и ее интерпретации
Формы власти в культуре и обществе многообразны, от прямого принуждения и насилия вплоть до внешне свободного выбора в различных жизненных ситуациях, в основе которого лежат скрытые властные стратегии манипулирования. В любом случае там, где есть власть, она воплощается в фигурах Господствующего субъекта, а подчиненные ему объекты всегда имеют тенденцию оказывать сопротивление, которое, в случае успеха, может привести к реверсированию оппозиции. Это отношение составляет одну из базовых оппозиций культуры, проявляющихся на всех уровнях социума начиная с крупных социальных формаций и вплоть до межличностных отношений.
Идея о том, что власть является частью духовных структур общественного целого и, соответственно, детерминирована исторически и связана с различными телесными практиками той или иной эпохи, принадлежит М. Фуко. Власть нельзя рассматривать вне контекста ее практик, поскольку универсальные характеристики власти трудно поддаются определению. «Теория власти как основа глобального политического анализа еще не создана и все реальные проявления власти продолжают и по сей день оставаться чем-то загадочным, непознанным, даже демоническим» [94, c. 206].
Жесткий бинаризм господства/подчинения начинает рассеиваться, смягчаться в переходные эпохи, когда смена социального порядка ведет к реверсии оппозиции, и бывшие субалтерны становятся в положение «хозяев жизни». В переходные периоды, когда смена власть придержащих групп еще не легитимизирована, происходит «размывание» оппозиции, основанное на предчувствии изменения в социальном статусе как у господствующего на данный момент субъекта, так и у подчиненного объекта. Культурные тексты, описывающие такие периоды, особенно интересны с точки зрения их стуктур темпоральности – в период создания текста как автор, так и его персонажи еще не знают, что грядущие исторические события в корне изменят ситуацию и конфликт произведения. В то же время читатели или зрители, живущие в эпоху осуществленного социального изменения, смотрят на то, что происходят с осознанием грядущей судьбы героев, неведомой последним, часто уверенным в незыблемости социального порядка. Интерпретация культурного текста зависит, таким образом, от взгляда на события сюжета произведения, детерминированного знанием исторического будущего персонажей.
Каждая эпоха дает свою интерпретацию столь универсального феномена как власть и часто заявляет о своей позиции в отношении к ней, будь это конформизм, восхваление или различные формы сопротивления, путем репрезентации исторического прошлого, представленного в текстах художественной культуры. Проблема смыслового наполнения культурного текста в последующие его созданию эпохи давно привлекает философов, искусствоведов и культурологов, давая различные ответы на вопрос соотношения текста и контекста. Каждое произведение несет на себе груз предыдущих смыслов, приобретая в то же время новые, которые соответствуют бытию произведения «здесь-и-сейчас», становясь, по определению Ю. Кристевой, интертекстом. В этих условиях оппозиции «власть/ сопротивление», «господство/подчинение» проходят ряд трансформаций, обусловленных различием культурных доминант и дискурсивных формаций, сохраняя при этом бинарный принцип, что мы покажем ниже на весьма показательном примере движения текста по различным контекстам.
«Свадьба Фигаро»: комедия Бомарше и опера Моцарта историческом контексте
Мы обратимся к произведению, которое стало одним из наиболее противоречивых и актуальных художественных деклараций своего времени и в то же время обрело «вневременное» существование, становясь предметом интерпретации в самых разных пространственных и темпоральных контекстах – к опере Моцарта «Свадьба Фигаро», написанной на сюжет комедии Бомарше, вызвавшей в свое время весьма негативную реакцию со стороны властей. Сразу оговоримся, что будем рассматривать те постановки оперы, которые не содержат внешней «модернизации», дабы избежать необходимости отдельно рассматривать проблему переноса культурного текста в другой социокультурный контекст.
Сюжет оперы заимствован из комедии П. Бомарше (1732–1799) «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1781), которая представляет собой вторую часть драматической трилогии (первая часть – «Севильский цирюльник», 1773, – послужила основой одноименной оперы Д. Россини). «Как известно, Бомарше написал драматическую трилогию: «Севильский цирюльник» (1775), «Женитьба Фигаро» (1784) и «Виновная мать» (1792).
Россини выбрал для своей оперы первую часть трилогии, Моцарт – вторую, третья же оказалась невостребованной, хотя на сцене шла с триумфом. Возможно, музыкальный неуспех «Виновной матери» был связан с тем, что Фигаро с годами утратил былой блеск и остроумие, а граф Альмавива остепенился и превратился в примерного семьянина» [46].
Комедия появилась в годы, непосредственно предшествовавшие французской революции (впервые поставлена в Париже в 1784 г.), и благодаря своим протестным интонациям вызвала огромный общественный резонанс [267]. В Австрии комедия Бомарше была запрещена, но либреттист Моцарта Л. да Понте (1749–1838) добился разрешения на постановку оперы. При переработке в либретто (написанном на итальянском языке) были сокращены многие сцены комедии, выпущены социально окрашенные монологи Фигаро. Так, у Бомарше, Фигаро весьма нелестно отзывается о возможностях «карьерного роста»:
«Граф. С твоим умом и характером ты мог бы продвинуться по службе.
Фигаро. С умом, и вдруг – продвинуться? шутить изволите, ваше сиятельство. Раболепная посредственность – вот кто всего добивается».
Столь же иронично определяет Фигаро суть политики: «Прикидываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе известно то, чего никто не знает; прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем; главное – прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя; частот делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет… и казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя… ветер гуляет» [20, с. 265]. В либретто эти высказывания отсутствуют, что обусловлено и музыкальной формой, и политическими соображениями. «…Да Понте был профессионалом. Он проникся замыслом Моцарта и, подавив собственные амбиции, неукоснительно следовал его требованиям. Но в одном он был тверд. Прекрасно зная придворную конъюнктуру, он вырезал из текста всю политическую сатиру, изменил острый финал пьесы, закончив раскаянием графа и примирением супругов, таким образом привнеся в сюжет столь необходимый для «прохождения» оперы элемент морализаторства. После столь вольного обращения с оригиналом да Понте счел нужным заявить, что делал не столько перевод, сколько адаптацию пьесы Бомарше. Моцарт получил либретто в августе, а к концу года опера была практически готова. Несмотря на все ухищрения да Понте, в ней все еще осталось достаточно крамолы» [46].
К сочинению музыки Моцарт приступил в декабре 1785 года, закончил его через пять месяцев. Премьера была назначена на 4 января 1786 года, но в это время в Вене проходил фестиваль Глюка, и Моцарт вынужден был отпустить своих музыкантов. Кроме того, он должен был принять участие в торжествах по случаю визита высочайших гостей: сестры императора Марии Кристины и ее супруга Альберта. Моцарт был рад отсрочке. Ему не хватало времени, и теперь он мог перевести дыхание и отшлифовать свое детище до блеска. Еще одна генеральная репетиция прошла 29 апреля в присутствии императора. Премьера состоялась 1 мая 1786 года. По свидетельству современников, успех был такой, что многие номера пришлось повторять по два раза, отчего опера шла вдвое дольше. А ведь она и так идет четыре часа! Император Йозеф отдал распоряжение: повторять на бис только отдельные арии, а не целые номера. «Только гений Моцарта мог превратить громоздкий и запутанный сюжет Бомарше в легкое, оживленное, плотно подогнанное, непрерывное действо, где преобладают ансамбли, а музыкальные характеристики точно ложатся на индивидуальность персонажей. По сути, он создал на основе итальянской комедии-буфф новый жанр – комическую оперу» [46]. Тем не менее, истинный успех пришел к «Фигаро» в Праге, городе, который с восторгом встречал сочинения композитора.
Если основной пафос комедии Бомарше носит остро социальный характер, опера концентрируется в большей степени на моментах межличностных отношений, интриги, эротики, что обусловлено самой спецификой жанра. Опера является сложным сочетанием музыкального, вербального и визуального элементов, и имманентная чувственность музыки не может не наложить отпечаток на смысловые акценты. По отношению к оригиналу Бомарше либретто да Понте можно назвать, по мнению автора одной из самых фундаментальных работ о Моцарте А.Эйнштейна, «трансфигурацией оригинала». Либретто представляет собой «упрощение, которое не жертвует ничем из оригинала, но переносит его на новую, более чистую, богатую и идеальную почву – на почву музыки» [185, p. 430].
По мнению А. Эйнштейна, пьеса и опера являются рядоположенными, имеющими каждая свою собственную значимость. Пьеса сохранила свое значение до наших дней по причине «своей революционной направленности, остроумия и выразительности. Работа Моцарта и да Понте – это нечто другое. Commedia per musica (музыкальная комедия), как говорится в названии (более не opera buffa), произведение, в котором никоим образом нет недостатка в социальных импликациях, но более веселое, человечное и вдохновенное» [185, p. 431]. И все же идея противостояния Фигаро и Сюзанны казалось бы незыблемой власти графа Альмавивы делает возможным социально акцентированную интерпретацию этого произведения. «… основная мысль пьесы Бомарше – идея морального превосходства простолюдина Фигаро над аристократом Альмавивой – получила в музыке оперы неотразимо убедительное художественное воплощение», – утверждают музыковеды [46]. Но более широкий взгляд на оперу как на культурный текст убеждает нас в том, что это превосходство – вопрос политики репрезентации, и в различные культурно-исторические периоды с различными культурными доминантами отношения героев пьесы могут меняться с точки зрения отношений власти вплоть до реверсии. В эпоху создания оперы она имела как социальное значение, связанное с ее литературным первоисточником, так и художественное, поскольку в ней были показаны новые возможности старой формы. «Историческое значение Свадьбы Фигаро заключается в том, что благодаря мастерству да Понте и величию Моцарта она больше не принадлежит к категории opera buffa, но скорее, используя любимое слово Вагнера, реабилитирует opera buffa и делает ее комедией в музыкальной форме» [185, p. 432]. Фиксированные маски уступают место живым человеческим характерам, что делает коллизии и конфликты сюжета более драматичными, а властные отношения – более сложными и динамичными, чем в традиционной «опере буффа».
Отношение господства/подчинения в его временной и универсальной обусловленности
Властные отношения, как у Бомарше, так и у Моцарта и да Понте проявляются в двух сферах – социальной и гендерной, причем эти сферы пересекаются, усиливая как доминантную, так и подчиненную позицию. Мы рассмотрим несколько вариантов соотношения «Господство/подчинение» применительно к главным героям – Фигаро и графу Альмавиве, с одной стороны, и их отношения с женскими персонажами – Сюзанной (невестой Фигаро) и графиней (той самой Розиной, чья любовная история рассказана в «Севильском цирюльнике»), с другой. Эти варианты воплощены в выбранных нами постановках, которые наиболее наглядно демонстрируют конструкцию властных отношений и воплощающих их фигур в зависимости от многих факторов: культурных доминант эпохи, политики репрезентации в данный период, личной позиции и личностных характеристик создателей и исполнителей спектакля.
Отношение господства/подчинения носит различный характер в зависимости от характера отношения. Согласно М. Веберу, существует три типа господства, которым соответствуют различные субъектно-объектные отношения в властном позиционировании Господина/Подчиненного. Первый из них – «легальный» – основан на соображениях закона и целерациональном действии. Второй тип господства – традиционный, основанный на вере «не только в законность, но даже в сакральность издревле существующих порядков и властей». Этот «патриархальный» тип господства по своей структуре сходе со структурой семьи, что делает его более устойчивым и прочным, чем другие виды господства. Третьим типом, выделяемым Вебером, является «харизматическое господство», которое представляет собой полную противоположность «традиционному». Он основан на аффективном типе социального действия. Вебер подчеркивает авторитарный характер харизматического господства, так как авторитет харизматика базируется на его силе – только не на грубой физической (во всяком случае, те только на ней), а на силе дара, делающего харизматика доминирующим субъектом, что не имеет рационального объяснения.
Оппозиция «господство/подчинение» воплощена прежде всего в образах Фигаро и графа Альмавивы, причем различные интерпретации могут наделять тот или иной персонаж различными типами господства. Так, граф Альмавива может быть представлен как воплощение «патриархального» или «легального» господства в зависимости от замыла постановщиков, в то время как Фигаро, которому отказано и в первом, и втором типе господства, может стать доминантной фигурой, только имея качества харизматика. «Вельможе Альмавиве противопоставлен простолюдин Фигаро, «наиболее смышленый человек нации». Однако здесь – не простое противопоставление, как в «Севильском цирюльнике», где плебей своим умом и жизнедеятельностью лишь выгодно отличался от аристократа. Здесь плебей и аристократ – враги. Между ними ожесточенная война» [8, c. 19].
Время действия оперы – время назревающих перемен, причем дух свободы уже носился в воздухе, что и придает вызову, который бросает слуга своему господину окраску ощущения ветра перемен. В то же время положение графа Альмавивы также неоднозначно – он уверен в своем праве феодала, представляя Фигуру Власти для своих подчиненных, но в то же время постоянно идет на уступки, как бы ощущая неустойчивость своего положения. «Речитатив и ария графа (Vedro, mentr’io sospiro, № 17) – взрыв страсти при мысли о том, что слуга будет наслаждаться счастьем, в котором отказано ему, аристократу» [8, c. 19].
Многие исследователи склонны видеть в Фигаро олицетворение будущей демократизации общества, «человека нового времени». «Главный герой Фигаро (баритон) показан в опере очень разнообразно. Арии Фигаро и ансамбли, в которых он участвует, раскрывают различные стороны его характера: находчивость, лукавство, остроумие… Остроумие и смелость Фигаро запечатлены в каватине «Если захочет барин попрыгать», ирония которой подчеркнута танцевальным ритмом. Первый и третий раздел каватины выдержаны в жанре галантного менуэта – это мысленное учтиво-предупредительное обращение Фигаро к своему барину. А вот средняя часть каватины рисует подлинный, без маски, портрет самого Фигаро – смелого, напористого, энергичного. Ещё более выпукло музыкальный портрет героя очерчен в его арии, завершающей первое действие. Чеканная маршевая музыка с характерными возгласами труб и ударами литавр образно передаёт картину походной солдатской жизни. Ария написана в форме рондо. Основная маршевая тема повторяется трижды с одними и теми же словами («Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый»), а в заключение звучит у всего оркестра forte. В эпизодах появляется то лёгкая, изящная музыка, то фанфарная» [266].
Высокая оценка важности Фигаро как главного персонажа оперы (с учетом знания об исторических событиях, сделавших Фигаро и Сюзанну вскоре после их свадьбы героями нового времени) предполагает его музыкальное и сценическое превосходство над «обреченным» миром аристократов, что особо ярко проявляется во временном контексте создания оперы, когда идеи свободы носились в воздухе. Слуга действует не только хитростью и изворотливостью, как это с незапамятных времен было принято в комическом жанре, но и с открытым вызовом. Позиция Фигаро по отношению к графу меняется на протяжении оперы, хотя ведущим остается принцип «Хитрость против силы», который так ярко выражен в каватине «Si vuol ballare, Signor Contino…», но постепенно уступает место более открытому выражению эмоции и разочарованию в жизни, где все предназначено для ее «хозяев».
Фигаро бросает вызов: начало деконструкции традиции
В Доме Моцарта в Вене, в той самой комнате, где композитор писал свой шедевр, звучит запись каватины Фигаро. В атмосфере этого жилища 18 века, затерянного в тесных улочках старой Вены, появляется эмпатическое ощущение содержащегося в этой музыке вызова, который требовал и определенной смелости, и доли риска. Нежелание слуги подчиниться веками сформированной традиции (в данном случае «права первой ночи», которым граф хочет воспользоваться в отношении невесты своего камердинера) не агрессивно, но скорее рационально оправдано. Он составляет план, который собирается исполнять «тихо» («piano-piano»), как, впрочем, и Сюзанна, этот прообраз грядущей феминизации культуры. Она вовсе не собирается подчиняться графу, но в то же время и не отталкивает его, соблюдая свои (и своего жениха) интересы. Это вызов человека новой цивилизации, наступившей под знаком Просвещения и основанный скорее на интеллекте, чем на грубой силе.
Граф Альмавива – «утонченный господин, который хочет быть полновластным хозяином в своем замке» [31, p. 51] – фигура более сложная, чем Фигаро, сочетающая в себе осознание своего права распоряжаться судьбами других людей, и в то же время желание казаться великодушным. Эту неоднозначность характера графа подчеркивает один из лучших исполнителей этой роли Тито Гобби: «Очень сложный человек. Соблазнитель, быть может, не всегда удачливый, но всегда желающий диктовать условия, к тому же ревнивец. Он довольно легко попадается в ловушки, которые ему подстраивают, но тем не менее все время помнит о своем родовом достоинстве» [31, p. 51]. Граф Альмавива, как он представлен в «Свадье Фигаро», осознавая свое право распоряжаться судьбой подвластной ему Сюзанны (а именно, использовать в отношении нее «право первой ночи»), тем не менее не использует силу принуждения – скорее, он обходителен с девушкой и хочет, чтобы она разделила его удовольствие, что вполне соответствует гедонистическому характеру эпохи Беранже и Моцарта. Н. Луман, характеризуя общее этическое настроение в обществе в эпоху, предшествующую веку Просвещения, пишет: «Людям в любом случае свойственно искать удовольствие (plaisir), как для себя, так и для других. при помощи галантных или заинтересованных форм ухаживания, при помощи истинной или притворной любви. Удовольствие становится основополагающим принципом жизни… и основано на субъективной фактуальности, лишенной каких-либо имманентных критериев» [218, p. 87]. Поиск удовольствия характерен для тех персонажей оперы, которые живут в рамках устоев Галантного века, в то время как люди грядущего нового времени стремятся к достойной жизни, ставшей принципом буржуазного индивидуализма.
Анализируя многочисленные версии оперы с точки зрения доминации того или иного персонажа, можно сделать вывод, что главное место может занимать как Фигаро, так и граф, в зависимости от установки режиссера и личности исполнителя. Обратимся к одной из лучших постановок «Свадьбы Фигаро», которая была переведена в формат фильма-оперы (1976), с участием лучших исполнителей не только своего времени, но и XX векам в целом. Вклад режиссера, Жан-Пьера Поннеля (1932–1988) «… в создание кинооперы весьма значителен, и в его творчестве исключительно наглядно воплотился тот хрупкий мост, который опере приходится преодолевать по пути со сцены на экран»[87].
Постановки Поннеля показывают, как «складываются реальные судьбы реальных людей, что основано на музыке, а не на своевольной концепции режиссера» [320].
Скрупулезное воссоздание режиссером атмосферы эпохи дает более четкое представление о столкновении интересов и характеров, об интригах и непонимании, о стремлении к счастью и желании настоять на своем, показанных на примере одного дня в хозяйстве графа Альмавивы в исполнении одного из величайших вокалистов XX века Дитриха Фишер-Дискау. Он «… постоянно смущён интригами и уловками Фигаро и Сюзанны, в исполнении бойкой Миреллы Френи, которая поёт и играет как во сне» [297].
Граф Альмавива исполнен чувства собственного достоинства и уверенности в своем праве распоряжаться судьбами своих подчиненных, но в то же время он не чужд хитрости и интриги, к которой прибегает, чтобы осуществить свои замыслы в отношении невесты Фигаро, сохранив при этом маску благожелательности и справедливости. Фигаро же в исполнении Германа Прея более откровенен и не скрывает своей враждебности по отношению к человеку, для которого он так много сделал, помогая ему в осуществлении его любви к Розине. Противопоставление этих двух персонажей блестяще показано лучшими исполнителями своего времени. «Немногие баритоны имеют в репертуаре партии Фигаро и Россини, и Моцарта, но в распоряжении Поннеля был один из этих немногих. К середине 70-х годов Герман Прей принадлежал к числу крупнейших вокалистов современности… В придачу к великолепному голосу у Фишера-Дискау были откалиброванная техника и привычка скрупулезно анализировать сценические образы, а у Прея – кристальная искренность и невозможное личное обаяние» [87].
Несомненно, большая роль в общем восприятии «Свадьбы Фигаро» Поннеля принадлежит музыкальной составляющей, которая является основой оперного жанра, несмотря на важность сценографии и режиссуры (о чем нередко забывают адепты современной «режоперы»). «Венский филармонический оркестр на пике своей формы, во главе с опытным знатоком Моцарта Карлом Бёмом, дирижирующим этой стильной и стремительной постановкой. Это, без сомнения, лучшая постановка «Фигаро», доступная на видео. Состав исполнителей идеален, даже в сравнении с теми, кто успешно исполняет эту оперу и сегодня» [297].
Если граф Альмавива представляет собой фигуру Власти благодаря, прежде всего, своему положению, то Фигаро, который по социальным критериям, занимает позицию подчиненного, также может быть представлен как доминирующая фигура по двум причинам. Во-первых, благодаря своему уму и ловкости, которые ранее помогли графу соединиться с любимой Розиной. Эти качества слуги являются вполне традиционными в комедии, где жизнеспособность и смекалка «подчиненного» становятся решающими в проблемах его господина. Но сила Фигаро – не только в его личных качествах. Он – человек переходной эпохи – уже провозвестник грядущего века, где положение в обществе определяется далеко не только и не столько правом рождения, сколько деловыми качествами, ведущими к социальному и личностному успеху. Из комедии Бомарше мы узнаем о жизненном пути Фигаро, который был исполнен приключений, смены деятельности и некоторого авантюризма. «Жизнь Фигаро – постоянная, незатихающая, напряженная и ожесточенная борьба простолюдина за свое существование. Ни минуты покоя, ни дня отдыха – всегда и везде дамоклов меч нужды, угроза остаться на улице без крова. Он перепробовал все профессии – был парикмахером и драматургом, занимался медициной и политической экономией, сталкивался с судебными властями. За критические выступления в печати подвергался репрессиям, сидел в тюрьме. Он «все видел, все испытал». И этот тернистый путь Фигаро проходит, не теряя ни своей жизнерадостности, ни оптимизма» [8, c. 19]. В пьесе Фигаро сам рассказывает о перипетиях своей судьбы в известном монологе 5 акта:
«Какая, однако, у меня необыкновенная судьба. Неизвестно чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли» [20, c. 313].
Действительно, концептуализация многих культурных пространств – гендера, этничности, субкультур, «другости» и т. д. – в теоретических исследованиях произошла во второй половине XX века. Расширение поля культурологической рефлексии вообще характерно для этого периода, особенно в постмодернистской теории, где эти области занимают весьма значительное место. Тем не менее, можно вполне явно проследить их присутствие в текстах, относящихся к самым разным историко-культурным эпохам. Так, к примеру, в литературных текстах прошлого содержатся различные модели маскулинности и фемининности, релевантные и для эпохи (пост)культуры, что подтверждается и широким использованием нарративной структуры этих текстов для культурных форм нового тысячелетия.
Обращение к самым разным видам текстов, как теоретических, так и художественных, связано также с тем, что во всех них репрезентированные феномены являются конструктами, которые нельзя принимать за прямое подобие реальности, даже если они таковыми кажутся. Как научный, так и художественный язык являются, по мнению известного американского теоретика литературы, придерживающегося метода деконструкции, П. де Мана, метафорическим. Т. Иглтон в своем анализе постструктурализма в литературе обращается к этим идеям американского автора. «Философия, юриспруденция, политическая теория работают при помощи метафоры, так же, как и поэзия, и являются такими же фикциональными… Литературные произведения менее обманчивы, чем другие формы дискурса, поскольку они имплицитно признают свой собственный риторический статус – тот факт, что то, что они говорят отличается от того, что они делают, что все их притязания на знание работают через фигуративные структуры, которые делают их спорными и неопределенными. Они, можно сказать, ироничны по своей природе. Другие формы письма также фигуративны и спорны, но выдают себя за непреложную истину» [183, р. 145].
В процессе репрезентации также происходит переоценка культурных форм с точки зрения отхода от унифицированных нарративных репрезентаций субъективности. Говоря словами В. Бергена, искусство и теория должны показывать значение различий этнических, классовых, гендерных как процесса производства, как «нечто изменяемое, историческое, и поэтому то, по поводу чего, можно что-то сделать» [166, p. 108].
Эту изменчивость мы можем наблюдать в разнообразии смыслов, придающихся тому или иному тексту в разных историко-культурных контекстах. Если динамические процессы происходят в культуре достаточно бурно, мы можем видеть значительные сдвиги в восприятии одного и того же текста на протяжении короткого периода. Иногда в течение нескольких лет происходит переосмысление основных идей того или иного произведения, но чаще это переосмысление выражается в «переводе» его на другой язык, в частности на музыкальный (в случае оперы – в форме либретто). Проблема «перевода» одного языка культуры на другой, в частности, возможность «рассказать» литературное произведение языком музыки, является весьма важной в современной теории культуры. Разницу в возможностях репрезентации в этих культурных формах необходимо учитывать при постановке различных сценических и кинематографических версий первоначального литературного текста-основы. Известный отечественный теоретик культуры Н. Хренов проводит разницу между литературным и кинематографическим языком «…в кино существует много элементов, сближающих его с литературой. В то же время исследователи констатируют и целый ряд особенностей, демонстрирующих несходство литературных и кинематографических структур. Оно связано с тем, что иногда называют кинематографичностью или зрелищностью кино. Предполагается, что понятие «зрелищность» не только не тождественно понятию «литературность», но и противоположно ему. Это справедливая, хотя и односторонняя точка зрения» [135, с. 112].
Автор отмечает, что в своих ранних формах литература была также скорее зрелищна, чем нарративна и считает зрелищность начальной формой литературного развития. Кинематограф, с точки зрения Н. Хренова, лучше всего соответствует именно этим ранним литературным формам, что делает их сопоставление вполне возможным. «Поскольку зрелищность в какой-то степени представляет инобытие литературности, а точнее, литературности в начальных формах ее развития, кинематограф можно рассматривать в ряду литературных явлений. С этой точки зрения понятие зрелищности как бы не противостоит понятию литературности» [135, с. 113].
На наш взгляд, эти рассуждения вполне применимы и к такой музыкальной форме как опера, в особенности принимая во внимание ее современное медиатизированное существование. Можно сослаться в данном случае на широко распространенную практику трансляций оперных (и балетных) спектаклей ведущих театров мира в кинотеатрах в глобальном масштабе. Соглашаясь с тем, что литературные тексты могут быть «зрелищными», мы все же обращаем внимание на противоположное явление – на то, что оперные тексты могут быть нарративными. Это означает, прежде всего, расстановку акцентов в репрезентации – то, как то или иное событие или персонаж показан или то, как о нем рассказано. В классической опере сюжет играет большую роль, каким бы условным он ни был и насколько отдельные его моменты не были бы поводом для демонстрации вокального мастерства. Оперный нарратив имеет свои особенности, но в то же время сохраняет все черты «истории», рассказанной в специфичном коде репрезентации и необходимой для поддержания интереса публики. «Рассказывание историй является, возможно, самой древней и самой устойчивой формой развлечения… Истории могут быть трогательными и захватывающими и в то же время развлекательными… но нарратив может быть и чем-то большим. Поскольку он имеет структуру, включающую начало. середину и конец, и является продуктом воображения, он может обладать единством действия, которого никогда не существует в потоке реальной истории» [195, p. 125]. Несмотря на модернистский отход от нарратива, что выражено как в литературных, так и в музыкальных художественных формах, он вновь и вновь утверждает себя в художественных практиках, где нарративные формы оказываются более плодотворными для репрезентации, чем экспериментальные формы выразительности, отказывающиеся от нарратива. «Как утверждал Лиотар в «Состоянии постмодерна», нарратив является до сих пор важнейшей формой нашего представления знания, и это объясняет, почему пренебрежительное отношение к позитивному знанию со стороны позитивистской науки спровоцировало такую бурную реакцию в самых разных областях. Во многих областях нарратив является, и всегда являлся, значимым способом объяснения, и историки всегда использовали его возможности упорядочивания и структурирования событий» [208, с. 67]. Бессюжетная опера невозможна, поскольку тогда она становится другим музыкальным жанром, даже и имеющим вербальный компонент.
Наиболее показательным для понимания сущности репрезентации и ее места в культурном производстве является, на наш взгляд, анализ нарративных художественных текстов, поскольку значительная роль в формировании представлений о различных аспектах и формах реальности принадлежит популярной культуре, где господствуют нарративные формы. Нарратив уходит корнями в далекое прошлое, о котором говорилось выше как пространстве имплицитного присутствия современных дискурсивных формаций. «Рассказывание историй является, возможно, самой древней и самой устойчивой формой развлечения, а особые черты нарративной конструкции могут быть использованы с целью развлекать… Истории могут трогательными и захватывающими, так же как и развлекательными. и особые приемы нарратива также могут быть использованы с этой целью. Но нарратив может делать нечто большее. Поскольку он имеет структуру начала, середины и конца и является продуктом воображения, он может создать единство действий и событий, которого никогда не существует в потоке реальных исторических событий» [195, p. 125].
Нарратив сам по себе отделяет «Я» от «Другого». В ходе нарратива мы сталкиваемся с жизненными историями Других, и то, насколько эти Другие поляризуются по отношению к «Мы» или «Я»-персонажу, во многом зависит от нашего представления о модели «другости», преобладающей как обществе, так и в теоретической рефлексии. Эта «Мы» или «Я»-позиция может быть выражена в литературном тексте различными приемами, в частности в структурировании повествования от первого лица, что является наиболее простой конструкцией, разграничивающей позицию субъекта-Автора и объекта-Другого. Но и в том случае, если события подаются «объективно», как бы со стороны нейтрального наблюдателя, отношение к ним обусловлено не только личностной позицией автора, но и превалирующими в обществе ценностями. «…автор не работает в вакууме. Очевидно, в реалистических, в отличие от фантастических, историях работают сдерживающие начала, которые отражают реальную жизнь. Тем не менее, о романе нельзя думать как о чем-то, снабжающем нас правдивым отражением опыта или его искусным синопсисом. Скорее, он заставляет нас взглянуть на некоторые аспекты опыта через образ, который помогает нам развить его верное понимание» [195, р. 126].
Рассуждения Г. Грэхема вполне соответствуют тому, что мы пытаемся показать в нашей работе, а именно влиянию сконструированных в соответствии с определенными правилами и под влиянием идеологических моделей аспектов реальности на тот взгляд на эти аспекты, который превалирует в культуре и социуме. Влияние искусства на формирование отношению к различным феноменам реальности, будь он представлен имплицитно или эксплицитно в ее текстах, в течение долгого времени было определяющим по сравнению с теоретическими работами и документальными жанрами. Роль художественного образа в сознании общества, как подчеркивает Грэхем, очень велика. Творчество, по его мнению, «…является примером того, как художественный образ не просто отражает, но и структурирует мир политического опыта. Искусство может таким же образом соотноситься с моральным и социальным опытом. Можно выразить эту мысль, сказав, что мы должны думать о художественных творениях не как о стереотипах, но как об архетипах. Образы, созданные великими художниками, не предоставляют нам выжимки или обобщения всего многообразия опыта (стереотипы), но воображаемые модели, которые являются мерилом этого многообразия (архетипы). Можно сказать, что в некоторых контекстах эти архетипы составляют единственную реальность» [195, р. 128].
Различные художественные тексты, в которых представлены образы, почерпнутые из реальности, заключают в себе именно такие архетипичные модели, которые имеют весьма сложную связь с этой реальностью. С одной стороны, это конструкты, построенные по идеологическим правилам политики репрезентации. С другой, по этим моделям, в сочетании с теоретическим дискурсом, мы можем судить о господствующем отношении к тому или иному культурному или природному феномену в ту или иную эпоху.
Судьба культурных форм, их позиционирование в общекультурном пространстве во многом формируется репрезентациями и их соотношением с социокультурной реальностью. Но культурная форма в ее реификации всегда связана с субъектом – автором или интерпретатором. В области репрезентации происходит переплетение разных контекстуально обусловленных отношений – того, которое формируется у человека в его повседневности, и того, которое основано на репрезентациях, являющихся частью социокультурного пространства и в то же время субъективно обусловленных. Политика репрезентации, кроме того, может быть нацелена как на поддержание обыденных представлений, так и на их изменение, «рассеивание мифа», что зависит от того, что является в данный момент доминантой в идеологии. Эта «расплывчатость» самоидентификации связана во многом с «размыванием» границ привычных понятий, с переосмыслением устойчивых представлений и изменением аксиологических ориентаций, которые являлись основой и представлений о себе. Само понятие субъекта изменяется в зависимости от культурно-исторического контекста. «Субъект – это не естественное определение человека, а историческое… у субъектности есть границы, которые конститутивны для нее самой, т. е. человек является субъектом только в определнных границах, причем характер этих границ и задает тип субъектности, его пространственно-временные, исторические, культурные, биографические рамки» [147, с. 148]. В постмодернистских культурных текстах размытость понятий и представлений связана с подвижностью субъектной позиции автора, которая зачастую подрывает все традиционные бинаризмы, включая столь базовое разделение Добра и Зла. Оценить этот процесс весьма непросто, поскольку кризис формирования личностной идентичности может восприниматься не только как кризис человека в целом, но и как пересмотр тех позиций, на которых эта идентичность основывалась. Этот процесс очень ярко проявляется в постановочных стратегиях, когда классический текст применяется к субъектной позиции автора вплоть до полного растворения в ней, примеры чего мы приводим в других главах.
Анализ репрезентаций различных социокультурных феноменов, содержащихся в литературных и музыкальных текстах и их интерпретациях в современной культуре, показывает, что эти репрезентации представляют собой далекий от миметического подражания конструкт, созданный в соответствии с политикой репрезентации, господствующей в определенной социокультурной ситуации. В то же время эти репрезентации определяют восприятие реальности современным человеком, выросшем и воспитанным в условиях тотальной медиатизации культуры. Еще в первой половине прошлого века, когда начиналось повсеместное распространение массовых медиатизированных форм искусства, ученые предвидели их влияние на классические образцы. Одной из основных особенностей массовой культуры и искусства является отсутствие в них присущей высокому искусству ауры. Это понятие было разработано В. Беньямином, по мнению которого современная технология механического репродуцирования открыла новую эпоху в чувственном восприятии. «Аура» произведения искусства, по Беньямину, – это его уникальное существование во времени и пространстве, его аутентичность. При механическом воспроизводстве произведение искусства рассеивается, превращаясь во множество копий, что означает потерю аутентичности как меры ценности или даже как значимого понятия в искусстве. Это происходит по причине разрушения временной и пространственной индивидуальности произведения искусства, потерей им своего контекста и места в континууме традиции. Подъем массовой культуры совпал с распространением копий произведений высокого искусства широкой публике, что привело к уничтожению катарсиса. В. Беньямин привлек внимание к вхождению произведения классического искусства в пространство массовой культуры путем новых возможностей технического воспроизводства. В результате начался процесс лишения уникального художественного произведения его «ауры», того, что было характерно для искусства со времен его существования в сакральном пространстве. «То, что при этом исчезает, может быть суммировано с помощью понятия ауры в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение выходит за пределы области искусства. Репродукционная техника, так можно было бы выразить это в общем виде, выводит репредуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым» [15].
Массовые копии произведений искусства становятся основой формирования вкусов и предпочтений в художественной области и составляют ту среду, в которой проходит формирование ценностного мира человека. Еще Т. Адорно, подвергший всесторонней критике «культурную индустрию», отмечал власть репрезентаций и их способность затмевать реальность. По его мнению, культурная индустрия (как и ее защитники) претендует на упорядочивающую роль в хаотическом мире, хотя, по сути дела, она этот мир разрушает. Погруженный в мир репрезентаций человек часто не готов воспринимать реальность, которая может казаться менее яркой и выразительной, чем созданные при помощи технических средств образы. В то же время отношение к миру часто бывает сформированным еще до того, как человек сталкивается с его различными сторонами, и власть репрезентации может быть настолько сильной, что полностью затмевать видение реальности. Несмотря на многочисленные исследования в различных областях академических исследований, посвященных репрезентации, ее способность влиять на представления человека о культуре и природе, о себе и других людях ускользает от четкой концептуализации в рациональных категориях.
Мы обратимся в данной работе к репрезентациям, носящим весьма условный характер и не связанным, как правило, с реальными референтами – к образам музыкального театра, которые, как правило, являются созданиями фантазийными, романтическими, зловещими или сказочнопрекрасными. В этих образах различные стороны человеческой жизни представлены в гипертрофированной форме, а драматический накал страстей доведен до того предела, который редко встречается как в жизни, так и в других художественных репрезентациях. Тем не менее, если мы начнем «читать» музыкальные сказки, драмы, трагедии и комедии как значимые тексты, то увидим, что в них заключены различные сущностно важные смыслы, переданные через специфический музыкально-вербальный код, освоение которого и поможет нам подойти к тем важнейшим сторонам и проблемам человеческого бытия, которые нашли воплощение в сложной, условной, но в сути своей очень значимой для человека форме репрезентации, о которой пойдет речь далее. Во всем многообразии интерпретаций, которые харкетрны для плюрализма современной культуры в целом, мы можем видеть постоянный возврат к классическим образцам, которые переживают самые экстремальные эксперименты и продолжают привлекать внимание как «культурных производителей», так и «потребителей». Можно согласиться с мнением эстетика, который утверждает, что «…произведение искусства как бы живет самостоятельной жизнью, оставаясь актуальным, если оно ре сосредоточено на самом себе и не есть знак самого себя, но отображение человечески значимых проблем, ситуаций. Многозначность произведения, возможность открытия в нем новых смыслов делают произведение подлинного искусства современным всегда [105, p. 207].
Глава 2
«Моцартиана»: осмысление экзистенциальных проблем в операх Моцарта
1. Проблема властных отношений в различных культурных текстах и контекстах: «Свадьба Фигаро» Бомарше и Моцарта и ее интерпретации
Формы власти в культуре и обществе многообразны, от прямого принуждения и насилия вплоть до внешне свободного выбора в различных жизненных ситуациях, в основе которого лежат скрытые властные стратегии манипулирования. В любом случае там, где есть власть, она воплощается в фигурах Господствующего субъекта, а подчиненные ему объекты всегда имеют тенденцию оказывать сопротивление, которое, в случае успеха, может привести к реверсированию оппозиции. Это отношение составляет одну из базовых оппозиций культуры, проявляющихся на всех уровнях социума начиная с крупных социальных формаций и вплоть до межличностных отношений.
Идея о том, что власть является частью духовных структур общественного целого и, соответственно, детерминирована исторически и связана с различными телесными практиками той или иной эпохи, принадлежит М. Фуко. Власть нельзя рассматривать вне контекста ее практик, поскольку универсальные характеристики власти трудно поддаются определению. «Теория власти как основа глобального политического анализа еще не создана и все реальные проявления власти продолжают и по сей день оставаться чем-то загадочным, непознанным, даже демоническим» [94, c. 206].
Жесткий бинаризм господства/подчинения начинает рассеиваться, смягчаться в переходные эпохи, когда смена социального порядка ведет к реверсии оппозиции, и бывшие субалтерны становятся в положение «хозяев жизни». В переходные периоды, когда смена власть придержащих групп еще не легитимизирована, происходит «размывание» оппозиции, основанное на предчувствии изменения в социальном статусе как у господствующего на данный момент субъекта, так и у подчиненного объекта. Культурные тексты, описывающие такие периоды, особенно интересны с точки зрения их стуктур темпоральности – в период создания текста как автор, так и его персонажи еще не знают, что грядущие исторические события в корне изменят ситуацию и конфликт произведения. В то же время читатели или зрители, живущие в эпоху осуществленного социального изменения, смотрят на то, что происходят с осознанием грядущей судьбы героев, неведомой последним, часто уверенным в незыблемости социального порядка. Интерпретация культурного текста зависит, таким образом, от взгляда на события сюжета произведения, детерминированного знанием исторического будущего персонажей.
Каждая эпоха дает свою интерпретацию столь универсального феномена как власть и часто заявляет о своей позиции в отношении к ней, будь это конформизм, восхваление или различные формы сопротивления, путем репрезентации исторического прошлого, представленного в текстах художественной культуры. Проблема смыслового наполнения культурного текста в последующие его созданию эпохи давно привлекает философов, искусствоведов и культурологов, давая различные ответы на вопрос соотношения текста и контекста. Каждое произведение несет на себе груз предыдущих смыслов, приобретая в то же время новые, которые соответствуют бытию произведения «здесь-и-сейчас», становясь, по определению Ю. Кристевой, интертекстом. В этих условиях оппозиции «власть/ сопротивление», «господство/подчинение» проходят ряд трансформаций, обусловленных различием культурных доминант и дискурсивных формаций, сохраняя при этом бинарный принцип, что мы покажем ниже на весьма показательном примере движения текста по различным контекстам.
«Свадьба Фигаро»: комедия Бомарше и опера Моцарта историческом контексте
Мы обратимся к произведению, которое стало одним из наиболее противоречивых и актуальных художественных деклараций своего времени и в то же время обрело «вневременное» существование, становясь предметом интерпретации в самых разных пространственных и темпоральных контекстах – к опере Моцарта «Свадьба Фигаро», написанной на сюжет комедии Бомарше, вызвавшей в свое время весьма негативную реакцию со стороны властей. Сразу оговоримся, что будем рассматривать те постановки оперы, которые не содержат внешней «модернизации», дабы избежать необходимости отдельно рассматривать проблему переноса культурного текста в другой социокультурный контекст.
Сюжет оперы заимствован из комедии П. Бомарше (1732–1799) «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1781), которая представляет собой вторую часть драматической трилогии (первая часть – «Севильский цирюльник», 1773, – послужила основой одноименной оперы Д. Россини). «Как известно, Бомарше написал драматическую трилогию: «Севильский цирюльник» (1775), «Женитьба Фигаро» (1784) и «Виновная мать» (1792).
Россини выбрал для своей оперы первую часть трилогии, Моцарт – вторую, третья же оказалась невостребованной, хотя на сцене шла с триумфом. Возможно, музыкальный неуспех «Виновной матери» был связан с тем, что Фигаро с годами утратил былой блеск и остроумие, а граф Альмавива остепенился и превратился в примерного семьянина» [46].
Комедия появилась в годы, непосредственно предшествовавшие французской революции (впервые поставлена в Париже в 1784 г.), и благодаря своим протестным интонациям вызвала огромный общественный резонанс [267]. В Австрии комедия Бомарше была запрещена, но либреттист Моцарта Л. да Понте (1749–1838) добился разрешения на постановку оперы. При переработке в либретто (написанном на итальянском языке) были сокращены многие сцены комедии, выпущены социально окрашенные монологи Фигаро. Так, у Бомарше, Фигаро весьма нелестно отзывается о возможностях «карьерного роста»:
«Граф. С твоим умом и характером ты мог бы продвинуться по службе.
Фигаро. С умом, и вдруг – продвинуться? шутить изволите, ваше сиятельство. Раболепная посредственность – вот кто всего добивается».
Столь же иронично определяет Фигаро суть политики: «Прикидываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе известно то, чего никто не знает; прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем; главное – прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя; частот делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет… и казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя… ветер гуляет» [20, с. 265]. В либретто эти высказывания отсутствуют, что обусловлено и музыкальной формой, и политическими соображениями. «…Да Понте был профессионалом. Он проникся замыслом Моцарта и, подавив собственные амбиции, неукоснительно следовал его требованиям. Но в одном он был тверд. Прекрасно зная придворную конъюнктуру, он вырезал из текста всю политическую сатиру, изменил острый финал пьесы, закончив раскаянием графа и примирением супругов, таким образом привнеся в сюжет столь необходимый для «прохождения» оперы элемент морализаторства. После столь вольного обращения с оригиналом да Понте счел нужным заявить, что делал не столько перевод, сколько адаптацию пьесы Бомарше. Моцарт получил либретто в августе, а к концу года опера была практически готова. Несмотря на все ухищрения да Понте, в ней все еще осталось достаточно крамолы» [46].
К сочинению музыки Моцарт приступил в декабре 1785 года, закончил его через пять месяцев. Премьера была назначена на 4 января 1786 года, но в это время в Вене проходил фестиваль Глюка, и Моцарт вынужден был отпустить своих музыкантов. Кроме того, он должен был принять участие в торжествах по случаю визита высочайших гостей: сестры императора Марии Кристины и ее супруга Альберта. Моцарт был рад отсрочке. Ему не хватало времени, и теперь он мог перевести дыхание и отшлифовать свое детище до блеска. Еще одна генеральная репетиция прошла 29 апреля в присутствии императора. Премьера состоялась 1 мая 1786 года. По свидетельству современников, успех был такой, что многие номера пришлось повторять по два раза, отчего опера шла вдвое дольше. А ведь она и так идет четыре часа! Император Йозеф отдал распоряжение: повторять на бис только отдельные арии, а не целые номера. «Только гений Моцарта мог превратить громоздкий и запутанный сюжет Бомарше в легкое, оживленное, плотно подогнанное, непрерывное действо, где преобладают ансамбли, а музыкальные характеристики точно ложатся на индивидуальность персонажей. По сути, он создал на основе итальянской комедии-буфф новый жанр – комическую оперу» [46]. Тем не менее, истинный успех пришел к «Фигаро» в Праге, городе, который с восторгом встречал сочинения композитора.
Если основной пафос комедии Бомарше носит остро социальный характер, опера концентрируется в большей степени на моментах межличностных отношений, интриги, эротики, что обусловлено самой спецификой жанра. Опера является сложным сочетанием музыкального, вербального и визуального элементов, и имманентная чувственность музыки не может не наложить отпечаток на смысловые акценты. По отношению к оригиналу Бомарше либретто да Понте можно назвать, по мнению автора одной из самых фундаментальных работ о Моцарте А.Эйнштейна, «трансфигурацией оригинала». Либретто представляет собой «упрощение, которое не жертвует ничем из оригинала, но переносит его на новую, более чистую, богатую и идеальную почву – на почву музыки» [185, p. 430].
По мнению А. Эйнштейна, пьеса и опера являются рядоположенными, имеющими каждая свою собственную значимость. Пьеса сохранила свое значение до наших дней по причине «своей революционной направленности, остроумия и выразительности. Работа Моцарта и да Понте – это нечто другое. Commedia per musica (музыкальная комедия), как говорится в названии (более не opera buffa), произведение, в котором никоим образом нет недостатка в социальных импликациях, но более веселое, человечное и вдохновенное» [185, p. 431]. И все же идея противостояния Фигаро и Сюзанны казалось бы незыблемой власти графа Альмавивы делает возможным социально акцентированную интерпретацию этого произведения. «… основная мысль пьесы Бомарше – идея морального превосходства простолюдина Фигаро над аристократом Альмавивой – получила в музыке оперы неотразимо убедительное художественное воплощение», – утверждают музыковеды [46]. Но более широкий взгляд на оперу как на культурный текст убеждает нас в том, что это превосходство – вопрос политики репрезентации, и в различные культурно-исторические периоды с различными культурными доминантами отношения героев пьесы могут меняться с точки зрения отношений власти вплоть до реверсии. В эпоху создания оперы она имела как социальное значение, связанное с ее литературным первоисточником, так и художественное, поскольку в ней были показаны новые возможности старой формы. «Историческое значение Свадьбы Фигаро заключается в том, что благодаря мастерству да Понте и величию Моцарта она больше не принадлежит к категории opera buffa, но скорее, используя любимое слово Вагнера, реабилитирует opera buffa и делает ее комедией в музыкальной форме» [185, p. 432]. Фиксированные маски уступают место живым человеческим характерам, что делает коллизии и конфликты сюжета более драматичными, а властные отношения – более сложными и динамичными, чем в традиционной «опере буффа».
Отношение господства/подчинения в его временной и универсальной обусловленности
Властные отношения, как у Бомарше, так и у Моцарта и да Понте проявляются в двух сферах – социальной и гендерной, причем эти сферы пересекаются, усиливая как доминантную, так и подчиненную позицию. Мы рассмотрим несколько вариантов соотношения «Господство/подчинение» применительно к главным героям – Фигаро и графу Альмавиве, с одной стороны, и их отношения с женскими персонажами – Сюзанной (невестой Фигаро) и графиней (той самой Розиной, чья любовная история рассказана в «Севильском цирюльнике»), с другой. Эти варианты воплощены в выбранных нами постановках, которые наиболее наглядно демонстрируют конструкцию властных отношений и воплощающих их фигур в зависимости от многих факторов: культурных доминант эпохи, политики репрезентации в данный период, личной позиции и личностных характеристик создателей и исполнителей спектакля.
Отношение господства/подчинения носит различный характер в зависимости от характера отношения. Согласно М. Веберу, существует три типа господства, которым соответствуют различные субъектно-объектные отношения в властном позиционировании Господина/Подчиненного. Первый из них – «легальный» – основан на соображениях закона и целерациональном действии. Второй тип господства – традиционный, основанный на вере «не только в законность, но даже в сакральность издревле существующих порядков и властей». Этот «патриархальный» тип господства по своей структуре сходе со структурой семьи, что делает его более устойчивым и прочным, чем другие виды господства. Третьим типом, выделяемым Вебером, является «харизматическое господство», которое представляет собой полную противоположность «традиционному». Он основан на аффективном типе социального действия. Вебер подчеркивает авторитарный характер харизматического господства, так как авторитет харизматика базируется на его силе – только не на грубой физической (во всяком случае, те только на ней), а на силе дара, делающего харизматика доминирующим субъектом, что не имеет рационального объяснения.
Оппозиция «господство/подчинение» воплощена прежде всего в образах Фигаро и графа Альмавивы, причем различные интерпретации могут наделять тот или иной персонаж различными типами господства. Так, граф Альмавива может быть представлен как воплощение «патриархального» или «легального» господства в зависимости от замыла постановщиков, в то время как Фигаро, которому отказано и в первом, и втором типе господства, может стать доминантной фигурой, только имея качества харизматика. «Вельможе Альмавиве противопоставлен простолюдин Фигаро, «наиболее смышленый человек нации». Однако здесь – не простое противопоставление, как в «Севильском цирюльнике», где плебей своим умом и жизнедеятельностью лишь выгодно отличался от аристократа. Здесь плебей и аристократ – враги. Между ними ожесточенная война» [8, c. 19].
Время действия оперы – время назревающих перемен, причем дух свободы уже носился в воздухе, что и придает вызову, который бросает слуга своему господину окраску ощущения ветра перемен. В то же время положение графа Альмавивы также неоднозначно – он уверен в своем праве феодала, представляя Фигуру Власти для своих подчиненных, но в то же время постоянно идет на уступки, как бы ощущая неустойчивость своего положения. «Речитатив и ария графа (Vedro, mentr’io sospiro, № 17) – взрыв страсти при мысли о том, что слуга будет наслаждаться счастьем, в котором отказано ему, аристократу» [8, c. 19].
Многие исследователи склонны видеть в Фигаро олицетворение будущей демократизации общества, «человека нового времени». «Главный герой Фигаро (баритон) показан в опере очень разнообразно. Арии Фигаро и ансамбли, в которых он участвует, раскрывают различные стороны его характера: находчивость, лукавство, остроумие… Остроумие и смелость Фигаро запечатлены в каватине «Если захочет барин попрыгать», ирония которой подчеркнута танцевальным ритмом. Первый и третий раздел каватины выдержаны в жанре галантного менуэта – это мысленное учтиво-предупредительное обращение Фигаро к своему барину. А вот средняя часть каватины рисует подлинный, без маски, портрет самого Фигаро – смелого, напористого, энергичного. Ещё более выпукло музыкальный портрет героя очерчен в его арии, завершающей первое действие. Чеканная маршевая музыка с характерными возгласами труб и ударами литавр образно передаёт картину походной солдатской жизни. Ария написана в форме рондо. Основная маршевая тема повторяется трижды с одними и теми же словами («Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый»), а в заключение звучит у всего оркестра forte. В эпизодах появляется то лёгкая, изящная музыка, то фанфарная» [266].
Высокая оценка важности Фигаро как главного персонажа оперы (с учетом знания об исторических событиях, сделавших Фигаро и Сюзанну вскоре после их свадьбы героями нового времени) предполагает его музыкальное и сценическое превосходство над «обреченным» миром аристократов, что особо ярко проявляется во временном контексте создания оперы, когда идеи свободы носились в воздухе. Слуга действует не только хитростью и изворотливостью, как это с незапамятных времен было принято в комическом жанре, но и с открытым вызовом. Позиция Фигаро по отношению к графу меняется на протяжении оперы, хотя ведущим остается принцип «Хитрость против силы», который так ярко выражен в каватине «Si vuol ballare, Signor Contino…», но постепенно уступает место более открытому выражению эмоции и разочарованию в жизни, где все предназначено для ее «хозяев».
Фигаро бросает вызов: начало деконструкции традиции
В Доме Моцарта в Вене, в той самой комнате, где композитор писал свой шедевр, звучит запись каватины Фигаро. В атмосфере этого жилища 18 века, затерянного в тесных улочках старой Вены, появляется эмпатическое ощущение содержащегося в этой музыке вызова, который требовал и определенной смелости, и доли риска. Нежелание слуги подчиниться веками сформированной традиции (в данном случае «права первой ночи», которым граф хочет воспользоваться в отношении невесты своего камердинера) не агрессивно, но скорее рационально оправдано. Он составляет план, который собирается исполнять «тихо» («piano-piano»), как, впрочем, и Сюзанна, этот прообраз грядущей феминизации культуры. Она вовсе не собирается подчиняться графу, но в то же время и не отталкивает его, соблюдая свои (и своего жениха) интересы. Это вызов человека новой цивилизации, наступившей под знаком Просвещения и основанный скорее на интеллекте, чем на грубой силе.
Граф Альмавива – «утонченный господин, который хочет быть полновластным хозяином в своем замке» [31, p. 51] – фигура более сложная, чем Фигаро, сочетающая в себе осознание своего права распоряжаться судьбами других людей, и в то же время желание казаться великодушным. Эту неоднозначность характера графа подчеркивает один из лучших исполнителей этой роли Тито Гобби: «Очень сложный человек. Соблазнитель, быть может, не всегда удачливый, но всегда желающий диктовать условия, к тому же ревнивец. Он довольно легко попадается в ловушки, которые ему подстраивают, но тем не менее все время помнит о своем родовом достоинстве» [31, p. 51]. Граф Альмавива, как он представлен в «Свадье Фигаро», осознавая свое право распоряжаться судьбой подвластной ему Сюзанны (а именно, использовать в отношении нее «право первой ночи»), тем не менее не использует силу принуждения – скорее, он обходителен с девушкой и хочет, чтобы она разделила его удовольствие, что вполне соответствует гедонистическому характеру эпохи Беранже и Моцарта. Н. Луман, характеризуя общее этическое настроение в обществе в эпоху, предшествующую веку Просвещения, пишет: «Людям в любом случае свойственно искать удовольствие (plaisir), как для себя, так и для других. при помощи галантных или заинтересованных форм ухаживания, при помощи истинной или притворной любви. Удовольствие становится основополагающим принципом жизни… и основано на субъективной фактуальности, лишенной каких-либо имманентных критериев» [218, p. 87]. Поиск удовольствия характерен для тех персонажей оперы, которые живут в рамках устоев Галантного века, в то время как люди грядущего нового времени стремятся к достойной жизни, ставшей принципом буржуазного индивидуализма.
Анализируя многочисленные версии оперы с точки зрения доминации того или иного персонажа, можно сделать вывод, что главное место может занимать как Фигаро, так и граф, в зависимости от установки режиссера и личности исполнителя. Обратимся к одной из лучших постановок «Свадьбы Фигаро», которая была переведена в формат фильма-оперы (1976), с участием лучших исполнителей не только своего времени, но и XX векам в целом. Вклад режиссера, Жан-Пьера Поннеля (1932–1988) «… в создание кинооперы весьма значителен, и в его творчестве исключительно наглядно воплотился тот хрупкий мост, который опере приходится преодолевать по пути со сцены на экран»[87].
Постановки Поннеля показывают, как «складываются реальные судьбы реальных людей, что основано на музыке, а не на своевольной концепции режиссера» [320].
Скрупулезное воссоздание режиссером атмосферы эпохи дает более четкое представление о столкновении интересов и характеров, об интригах и непонимании, о стремлении к счастью и желании настоять на своем, показанных на примере одного дня в хозяйстве графа Альмавивы в исполнении одного из величайших вокалистов XX века Дитриха Фишер-Дискау. Он «… постоянно смущён интригами и уловками Фигаро и Сюзанны, в исполнении бойкой Миреллы Френи, которая поёт и играет как во сне» [297].
Граф Альмавива исполнен чувства собственного достоинства и уверенности в своем праве распоряжаться судьбами своих подчиненных, но в то же время он не чужд хитрости и интриги, к которой прибегает, чтобы осуществить свои замыслы в отношении невесты Фигаро, сохранив при этом маску благожелательности и справедливости. Фигаро же в исполнении Германа Прея более откровенен и не скрывает своей враждебности по отношению к человеку, для которого он так много сделал, помогая ему в осуществлении его любви к Розине. Противопоставление этих двух персонажей блестяще показано лучшими исполнителями своего времени. «Немногие баритоны имеют в репертуаре партии Фигаро и Россини, и Моцарта, но в распоряжении Поннеля был один из этих немногих. К середине 70-х годов Герман Прей принадлежал к числу крупнейших вокалистов современности… В придачу к великолепному голосу у Фишера-Дискау были откалиброванная техника и привычка скрупулезно анализировать сценические образы, а у Прея – кристальная искренность и невозможное личное обаяние» [87].
Несомненно, большая роль в общем восприятии «Свадьбы Фигаро» Поннеля принадлежит музыкальной составляющей, которая является основой оперного жанра, несмотря на важность сценографии и режиссуры (о чем нередко забывают адепты современной «режоперы»). «Венский филармонический оркестр на пике своей формы, во главе с опытным знатоком Моцарта Карлом Бёмом, дирижирующим этой стильной и стремительной постановкой. Это, без сомнения, лучшая постановка «Фигаро», доступная на видео. Состав исполнителей идеален, даже в сравнении с теми, кто успешно исполняет эту оперу и сегодня» [297].
Если граф Альмавива представляет собой фигуру Власти благодаря, прежде всего, своему положению, то Фигаро, который по социальным критериям, занимает позицию подчиненного, также может быть представлен как доминирующая фигура по двум причинам. Во-первых, благодаря своему уму и ловкости, которые ранее помогли графу соединиться с любимой Розиной. Эти качества слуги являются вполне традиционными в комедии, где жизнеспособность и смекалка «подчиненного» становятся решающими в проблемах его господина. Но сила Фигаро – не только в его личных качествах. Он – человек переходной эпохи – уже провозвестник грядущего века, где положение в обществе определяется далеко не только и не столько правом рождения, сколько деловыми качествами, ведущими к социальному и личностному успеху. Из комедии Бомарше мы узнаем о жизненном пути Фигаро, который был исполнен приключений, смены деятельности и некоторого авантюризма. «Жизнь Фигаро – постоянная, незатихающая, напряженная и ожесточенная борьба простолюдина за свое существование. Ни минуты покоя, ни дня отдыха – всегда и везде дамоклов меч нужды, угроза остаться на улице без крова. Он перепробовал все профессии – был парикмахером и драматургом, занимался медициной и политической экономией, сталкивался с судебными властями. За критические выступления в печати подвергался репрессиям, сидел в тюрьме. Он «все видел, все испытал». И этот тернистый путь Фигаро проходит, не теряя ни своей жизнерадостности, ни оптимизма» [8, c. 19]. В пьесе Фигаро сам рассказывает о перипетиях своей судьбы в известном монологе 5 акта:
«Какая, однако, у меня необыкновенная судьба. Неизвестно чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли» [20, c. 313].