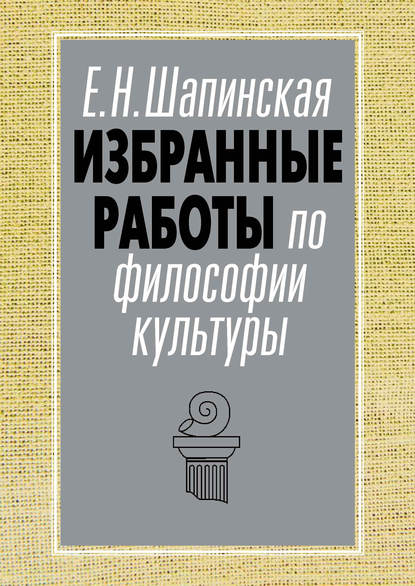По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранные работы по философии культуры
Жанр
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В области репрезентации русской культуры соседствуют стереотипы, основанные на традиционных бинарных оппозициях типа «Россия/Запад», с одной стороны, и новые формы репрезентации, осуществляемые в рамках интенсивной глобализации и межкультурной коммуникации. Поскольку грань между популярной и «высокой» культурой в плюралистическом обществе сегодняшнего дня весьма зыбкая, то и тексты, получившие статус русской классики, чаще всего становятся объектом «упрощенных» экранных репрезентаций, входят в поле медиакультуры, которая является средой формирования представлений и вкусов (пост)современного человека. В то же время, как мы это покажем ниже, западная культура проявляет серьезный интерес к глубинным смыслам русских классических произведений, к их общечеловеческому звучанию, к эмоциональному миру героев. Обе эти тенденции важны для позиционирования своей культуры в современном культурном пространстве, для установления продуктивного межкультурного диалога, основанного на признании правомочности взгляда на Себя как Другого и, в конечном итоге, вхождении в пространство интерсубъективности, в котором возможно сосуществование различных культур как равных в ценностном отношении.
Время, в которое мы живем, характеризуется пересмотром многих понятий, деконструкцией привычных оппозиций, появлением на культурной сцене новых групп, которые были исключенным из доминантной культуры или маргинальными, демифологизацией старых героев и в то же время расцветом новой мифологии, избыточностью и легкодоступностью информации. Недаром культурное состояние рубежа тысячелетий часто называется «посткультурой», о чем мы уже писали выше. Проблема Другого обретает в посткультуре новое звучание, Другой обретает голос, получает право на утверждение собственной идентичности, что ведет и к пересмотру распространенного отношения к Другому как к врагу. Причины этого отношения связаны с проблемами самоидентификации человека в сложном мире культурного плюрализма. «Определение себя самого, определение своей самости по отношению к другому по мере достижения статуса другого уничтожает собственное основание. Тогда – именно в ситуации неразличимости – начинается насильственная эскалация отличия. Оно предельно концентрируется в создании образа врага, в отношении которого оправдано насилие…» [147, с. 74].
Такой образ весьма распространен в текстах популярной культуры, где он конструируется в гипертрофированном виде, с преувеличением черт враждебной «другости» в соответствии с господствующими в обществе идеологическими установками. По мере того, как к тому или иному типу Другого отношение враждебности сменяется пониманием, толерантностью или установлением диалога возникают новые устрашающие образы, показывающие, что человек нуждается во враждебном Другом, чтобы ощутить в себе силу борьбы с тем, что представляет угрозу стабильности его существования. Достаточно вспомнить образы русских злодеев из «Бондианы» Флеминга, актуальных во времена холодной войны, которые потеряли свою пафосность в постсоветский период и были заменены образами террористов нового типа, угрожающих западной демократии.
Необходимость человека в Другом, как на уровне индивида, так и группы, настолько велика, что «другость» продолжает оставаться одной из ведущих составляющих как социокультурной реальности, так и области репрезентаций. Известный социолог XX века З. Бауман отмечает эту связь Другого с человеческим существованием: «Из всех различий и разделений, позволяющих мне наблюдать «перерывы постепенности», воспринимать различия там, где иначе мог быть плавный переход, подразделять людей на категории в зависимости от их отношения и поведения, одно различие проявляется сильнее и больше влияет на мои отношения с другими, чем все остальные. – различие между «Мы» и «Они» – это не определения двух отдельных групп людей, а название различия между двумя совершенно разными отношениями: эмоциональной привязанностью и антипатией, доверием и подозрительностью, безопасностью и страхом, общительностью и неуживчивостью. «Мы» – группа, к которой я принадлежу. Я хорошо понимаю, что происходит внутри группы и, поскольку я это понимаю, я знаю, как мне действовать дальше, чувствую себя уверенно, как дома… «Они», напротив, – это та группа, к которой я не могу и не хочу принадлежать. Мое представление о происходящем в ней весьма смутно и отрывисто, я плохо понимаю ее поведение, поэтому ее действия для меня большей частью непредсказуемы и отпугивают» [14, с. 46].
Бауман излагает традиционную позицию отторжения по отношению к Другому и подчеркивает, что она основана на незнании и непонимании. Соответственно, в эпоху расширения коммуникаций до всемирного масштаба, воплощенного в сети Интернет, казалось бы, незнание должно быть преодолено. Тем не менее, это преодоление идет медленно и встречает сопротивление со стороны культурной индустрии, получающей прибыль из популярных форм репрезентации расхожих стереотипов. С одной стороны, многие этнокультурные стереотипы не выдерживают расширения знания о Других культурах и широкого распространения информации о художественных практиках Другого. С другой – стереотипы продолжают проявлять необыкновенную устойчивость даже перед лицом опровергающей их реальности и формируют представления о «русскости» в массовом сознании. Это происходит не только в случае с голливудскими боевиками, где герой попадает в мифологическую Россию со всеми ее атрибутами в виде матрешек, медведей и водки, но и в различных интерпретациях русской классики. Оговоримся сразу, что мы имеем в виду маскультовские образцы, а Можно привести в качестве примера многочисленные (всего около 30) экранизации романа Толстого «Анна Каренина, в которых приметы «русскости» с разной степенью экзотичности показываются в рамках давно устаревших стереотипов. Такая политика репрезентации несомненно рассчитана на коммерческий успех у малоподготовленного зрителя. Тем не менее, как отмечает известный исследователь культуры постмодернизма, Ф. Джеймисон, «…эта привлекательность этничности идет сегодня на убыль, может, потому что существует слишком много групп населения, и потому что их связь с репрезентацией (по большей части медийной) становится все яснее и подрывает онтологические основы фикциональности» (фикциональных образов этничности – прим. автора) [210, с. 342].
Если в популярной культуре конструкция образа «русскости» основана на стереотипах массового сознания и потреблении «экзотики», в культурных формах, основанных на классических текстах и претендующих на серьезное осмысление наследия Другого (в данном случае, русской классики), акцент делается не столько на внешнюю экзотичность, сколько на понимание «русской души» и на выявление универсальных смыслов, делающих то или иное произведение явлением, выходящим за рамки локальной культуры. Можно привести много примеров из области кино, драматического и музыкального театра, обращавшихся и обращающихся сегодня к русской классике. осознавая великий вклад русской культуры в мировой культурный ресурс, западные деятели культуры пытаются создать собственные интерпретации, основанные не на внешних деталях, а на проникновении во внутренний мир автора и его героев. Для понимания созданных на Западе художественных текстов такого рода, мы обратимся к автору, который редко попадает в пространство интерпретации на Западе, несмотря на его несоизмеримый статус в русской литературе и культуре в целом – А.С. Пушкину и его хрестоматийному «Евгению Онегину».
Статус Пушкина в русской литературе и культуре в целом не вызывает сомнения, и в то же время произведения Пушкина плохо поддаются переводу на иностранные языки, в основном, несомненно, по причине сложности передачи поэтической формы одного языка на другом. В то же время Пушкин стал богатейшим источником создания культурных текстов в области музыки и кинематографа, то есть как поэзия, так и проза обладают способностью создавать новые формы с использованием выразительных средств других языков культуры. Именно тексты Пушкина легли в основу величайших опер Чайковского – «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», романсового творчества М. Глинки, кинорежиссеры перенесли на экран практически всю прозу Пушкина. Тем не менее, для западного мира Пушкин в большей степени Другой, чем более известные авторы-прозаики, такие как Достоевский или Чехов. Насколько поэзия поддается переводу на иностранные языки как литературная форма, насколько можно передать содержание поэтического произведения, неразрывно связанное со стихотворной формой, поэтическим языком с его специфической звуковой и семантической системой – вопрос сложный. В нашем случае интерес представляет фокус внимания интерпретатора, баланс между «русскостью» и общечело-вечскими эмоциями и ценностями, способы его достижения в различных видах репрезентации. Выбор такого произведения как «Евгений Онегин» представляет очень сложную задачу для зарубежного интерпретатора, прежде всего, по причине поэтического характера текста, который стал хрестоматийным для поколений русских школьников и давным-давно разошелся на цитаты в русском обществе.
Мы рассмотрим те пространства репрезентации, в которых «Евгений Онегин» стал объектом интерпретации английскими режиссерами и исполнителями – кинематограф и оперу. Каждое из этих культурных пространств обладает своим собственным языком, в большей или меньшей степени позволяющим передавать смысл литературного текста-первоосновы.
Вначале обратимся к фильму «Онегин» (реж. Марта Файнз, 1999). Задача создателей фильма вдвойне трудна – им предстояло «перевести» литературное произведение на экранный язык, а, кроме того, донести до зрителя переведенный текст иноязычного автора, то есть осуществить двойную трансляцию. Проблема «перевода» одного языка культуры на другой, в частности, возможность «рассказать» литературное произведение языком экрана, является весьма важной в современной теории культуры. Разницу в возможностях репрезентации в этих культурных формах анализирует известный отечественный теоретик культуры Н. Хренов: «…в кино существует много элементов, сближающих его с литературой. В то же время исследователи констатируют и целый ряд особенностей, демонстрирующих несходство литературных и кинематографических структур. Оно связано с тем, что иногда называют кинематографичностью или зрелищностью кино. Предполагается, что понятие «зрелищность» не только не тождественно понятию «литературность», но и противоположно ему. Это справедливая, хотя и односторонняя точка зрения» [135, с. 112].
Автор отмечает, что в своих ранних формах литература была также скорее зрелищна, чем нарративна и считает зрелищность начальной формой литературного развития. Кинематограф, с точки зрения Н. Хренова, лучше всего соответствует именно этим ранним литературным формам, что делает их сопоставление вполне возможным. «Поскольку зрелищность в какой-то степени представляет инобытие литературности, а точнее, литературности в начальных формах ее развития, кинематограф можно рассматривать в ряду литературных явлений. С этой точки зрения понятие зрелищности как бы не противостоит понятию литературности» [135, с. 113].
Соглашаясь с тем, что литературные тексты могут быть «зрелищными», мы все же обращаем внимание на противоположное явление – на то, что экранные тексты могут быть нарративными. Это означает, прежде всего, расстановку акцентов в репрезентации – то, как то или иное событие или персонаж показан или то, как о нем рассказано. В предпринятом нами исследовании «другости» в кино именно нарративный кинотекст играет наиболее важную роль. Во-первых, как мы уже указывали, он преобладает в популярной культуре, наиболее обширном культурном пространстве, где складываются представления о Другом. Кроме того, через нарратив, представление о Другом раскрывается постепенно, формируя цельную картину, а не отрывочные впечатления. Нарративные тексты формируют весьма устойчивые представления, воплощая художественные архетипы. В то же время кинематографический нарратив усилен визуальными средствами. Если мы имеем дело с высоким уровнем профессионализма и ответственности, можно говорить о том, что визуальный образ помогает в формировании у зрителя образа, соответствующего реальности. Если оставить в стороне многочисленные фильмы про «русских», основанные на востребованной публикой ложной экзотике, визуальные образы помогают сформировать представления о литературных персонажах, особенно в том случае (как это преимущественно и случается в наши дни), когда знакомство с экранным текстом предшествует чтению книги. Тема Другого, согласно Ж. Делезу, является очень важной и для кино, во всяком случае звукового. «Неизбежностью было то, что звуковое кино избрало в качестве привилегированного объекта внешне наиболее поверхностные и преходящие, равно как и наименее «естественные» и структурированные социальные формы, – встречи с Другим: с другим полом, с другим классом, с другим регионом, с другой нацией, с другой цивилизацией» [43, с. 553].
Отношения с Другим могут быть поверхностными и преходящими именно внешне, поскольку их конфигурации зависят от самых разных обстоятельств, в том числе и от субъектной позиции автора и зрителя, которая имеет тенденцию становиться более подвижной. Но на более глубоком уровне обращение к Другому связано с сущностной потребностью в нем, которую сам же Делез и отмечает, цитируя формулу Рембо «Я – это другой» [43, с. 553].
Фильм «Онегин» является, несомненно, кинематографическим нарративом – авторы сознательно отказываются от поэтической составляющей, рассматривая пушкинский роман в стихах (а именно так определен жанр произведения самим автором) как рассказ о жизненных судьбах героев, помещенный в контекст некоего довольно условного пространства «русскости», что особенно ощущается в музыкальных «несуразностях». Так, в фильме звучит вальс «На сопках Маньчжурии», написанный в 1906 году, Ольга с Ленским поют дуэтом песню «Ой, цветёт калина в поле у ручья», написанную в 1950 году И. Дунаевским для фильма «Кубанские казаки». И, тем не менее, фильм стал рассказом о человеческих чувствах и характерах, которые существовали и существуют вне зависимости от архитектурного или музыкального оформления. Вкрапления поэтического текста в прозаический нарратив подчеркивают эмоциональную важность любовных чувств, заставляющих даже самого обычного человека на время становиться поэтом. «Зарубежные авторы ленты «Онегин» (чуть отличающееся название будто даёт им определённую надежду на прощение) рискнули сделать то, на что не решился бы никто из отечественных экранизаторов, если бы довелось кому-нибудь набраться наглости и воплотить в кино роман в стихах «Евгений Онегин». Иностранцы вообще отказались от стихотворного текста, не считая писем Татьяны и Евгения. И то девичье признание в любви, наизусть заученное нами ещё в школе, не без оригинальности озвучивается вслух гораздо позже, когда спустя шесть лет Онегин, вновь встретив Ларину и влюбившись в неё, перечитывает старое письмо, прежде чем написать ей о своих новых чувствах. Если принять эти правила игры и не быть литературоведчески придирчивыми, то такое обращение с бессмертным пушкинским текстом действительно заслуживает снисхождения. Как и ряд иных вольностей, необходимых для того, чтобы по возможности насытить диалог героев живыми подробностями, позаимствованными из поэтических отступлений» [339].
Позиция, выраженная в данном отзыве, весьма распространена среди «этноцентристов», которые считают, что понять и представить культуру могут только ее носители. Возникает вопрос – нужно ли рассматривать обращение к культурным текстам Другого достойным лишь снисхождения? Не является взгляд на себя «со стороны» крайне полезным для самоидентификации в глобальном культурно пространстве? К тому же, существует немало примеров блестящей интерпретации мировой классики представителями другой культуры, достаточно вспомнить «Гамлета» Козинцева или образ Шерлока Холмса в блестящем исполнении В. Ливанова.
Авторы фильма сознательно придерживаются концепции В. Набокова, а также его прозаического перевода пушкинской поэмы – как известно, Набоков считал невозможным передать художественную сторону поэмы, а единственной задачей переводчика считал наиболее точную передачу информации и однозначно отвечая «нет» на вопрос о возможности передачи рифмованных стихов на иностранном языке… «Перед нами вовсе не картина русской жизни, – писал Набоков о «Евгении Онегине», – в лучшем случае это картина, изображающая небольшую группу русских людей, живущих во втором десятилетии 19 века, имеющими черты сходства с более очевидными персонажами западноевропейских романов и помещенных в стилизованную Россию…» [80, с. 36].
Не делая акцента на «русскость» персонажей и сценографии, М. Файнз идет вслед за В. Набоковым, своим прозаическим переводом подчеркивавшим общеевропейский характер пушкинского шедевра.
Хотя нарративная ткань пушкинского «Онегина» вплетает в себя разнообразный круг действующих лиц, все же главное в нем – судьба героя, который закономерно становится центром экранной интерпретации Р.Файнза, замечательного, тонкого актера, для которого обращение к русской классике далеко не случайно. Именно вокруг печальной судьбы главного героя плетется ткань нарратива. Если Татьяна – олицетворение юности, непосредственности, эмоциональности, которые не способна уничтожить до конца даже холодность громадного аристократического дома, в котором она после замужества ведет жизнь светской дамы, то Онегин воплощает в себе вечную проблему человека, не нашедшего смысл жизни. Но трудно представить себе посткультурную интерпретацию классического образа без постмодернистской иронии, что и отмечали критики фильма, который, надо сказать, был весьма неоднозначно воспринят как профессионалами-киноведами, так и публикой. «Рейф Файнз в роли Евгения Онегина настолько мрачно романтичен и цинично холоден, что временами это начинает производить почти комический, пародийный эффект. Остраняемая поэтом и не без иронии поданная чайлд-гарольдская внешность героя понята актером словно всерьез, и несколько его естественных реакций не могут изменить складывающееся превратное впечатление об Онегине как о скучающем мизантропе, который готов всех презирать» [339].
Подчеркнуто мрачный образ Онегина может, несомненно, рассматриваться в контексте всего постмодернистского культурного производства, в котором осознается, что все культурные формы репрезентации – литературные, визуальные, акустические – в высоком искусстве или в масс медиа, являются идеологически обоснованными, что они не могут избежать вовлеченности в социальные и политические отношения. С этой точки зрения помещение героя поэмы Пушкина в некий условный общеевропейский контекст вполне соответствует процессам глобализации, быстро нивелирующим этнокультурные различия. С другой стороны – Онегин – вечный Другой, не зависящий от этнокультурных примет «другости», он – персонаж универсальный, «человек мира», в том понимании мира, которое существовало в европейском дискурсе в предшествующую деколонизации эпоху, поэтому приметы «русскости» в его интерпретации становятся лишними. Он принадлежит миру, и в то же время – он – вечный Другой в этом мире.
Другой пример обращения британских деятелей искусства к пушкинскому роману в стихах лежит в области музыки – это постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в лондонском Ковент Гардене (реж. Каспер Холтен, 2013). Постановка эта симптоматична с точки зрения общего интереса к русской музыкальной классике на Западе, причем в опере реализация этого интереса гораздо сложнее, чем в других музыкальных формах, поскольку предполагается исполнение на русском языке. В лингвистическом отношении «другость» русской культуры преодолевается с большим трудом, чем в случае других, более привычных языков исполнения. «В постановке «Евгений Онегин» театра «Ковент-Гарден» заняты певцы из разных стран (болгарка Крассимира Стоянова – Татьяна, россиянка Елена Максимова – Ольга, словак Павол Бреслик – Ленский и другие). Оказывается, петь на русском – не так легко, как нам может казаться, особенно для певцов, не владеющих славянскими языками. И если Крассимира Стоянова поёт с едва уловимым акцентом, то британский бас Петер Роуз (князь Гремин) звучит приблизительно так: «Оньегин, я скрывать не стану, бьезумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя тьекла, она явилась и зажгля…» [268].
Эта лингвистическая «другость» ощущается, несомненно, только носителями языка и присутствует в любом виде межкультурной коммуникации, не только художественной. Для англоязычной критики более важна фразировка и свобода произношения, хотя в данном случае работа по освоению русского текста была проделана самая серьезная. Исполнитель роли Онегина известный английский баритон Саймон Кинлисайд, за плечами которого не одна постановка «Онегина» в европейских театрах, настолько хорошо «использовал язык, что каждая строчка была спроецирована и, хотя он не говорит свободно по-русски, казалось, что он чувствует себя в этом языке абсолютно свободно» [229].
Как режиссер, так и исполнитель говорят о том, что только в слитности языка и музыки проявляется вся красота произведения Пушкина и Чайковского, и несмотря на все трудности исполнения на незнакомом языке и необходимости понимания каждого слова только такое исполнение дает зрителю/слушателю полноту ощущения [308].
Но трудности русского произношения – не главное для создания убедительного художественного прочтения произведения, прочно вошедшего в мировой классический фонд и сохраняющее, в то же время, статус жемчужины русской культуры. Опера изначально является культурной формой, испытавшей большое влияние межкультурного взаимодействия. Русская оперная школа также сложилась в результате комбинирования «своих» и «чужих» элементов, а при перенесении в инокультурную среду комплексность ее музыкально-вербально-образной струткуры только усиливается. Э. Саид, выдающийся исследователь культуры, основоположник и классик постколониальных исследований, подчеркивает, что «…вся оперная форма представляет собой гибрид, радикально неоднородное произведение, которое в равной степени принадлежит и истории культуры, и историческому опыту заморского государства» [101, с. 247]. Данное замечание относится к анализу Саидом «Аиды» Верди, но в полной мере применимо и к постановка русской оперы на Западе, поскольку Россия в культурном восприятии Запада стоит недалеко от статуса «заморского государства».
Другая трудность в постановках такого рода – найти в растиражированном тексте, давно разобранном на цитаты, поставленным самыми разными русскими и зарубежными оперными театрами, известного английскому зрителю по фильму, о котором мы писали выше, оригинальное решение там, где существует огромное множество вариантов, показать Другого как привлекательного и интересного. Молодой режиссёр данной версии «Евгения Онегина» – Каспер Холтен, который дебютировал в «Ковент-Гардене» этим спектаклем, был заинтересован, прежде всего, историей утраченного прошлого, любви, которая осталась в молодости, лиризмом воспоминания. Отсюда его необычное дублирование Онегина и Татьяны в исполнении Саймона Кинлисайда и Крассимиры Стояновой балетной парой, которая в танце показывает историю несостоявшейся любви в молодости героев. Идеи режиссера, принадлежащего поколению глобализации и снятия «другости» совпадают с тем, что высказала по этому поводу режиссер фильма «Онегин» Марта Файнз: «…великие истории пересекают границы времени. Перемены приходят со временем – социальные различия, политика, технология… Но есть вещи, которые остаются – смерть, наше отношение к смерти – они не изменились. И что невероятно – не изменилась природа любви, природа отвержения или неадекватности или чувства недостойности. Эти базовые вещи и истории любви обычно работают очень хорошо, а эта – в особенности» [302]. Именно универсальность этой истории во времени и пространстве и интересует режиссера, и, поскольку любовь рассматривается как общечеловеческий феномен, ее конкретный контекст «другости», «русскости» не столь важен, сколько вечное звучание любовной тоски и несбывшихся надежд. Интересно, что из многочисленных отзывов зрителей/слушателей лондонского «Онегина» только в одном была отмечена этнокультурная специфика оперы: «Русскость была безошибочна в сценографии, пении, костюмах и составе» [306].
Что касается состава, в нем была только одна русская исполнительница – Ольга, которую пела Елена Максимова. Международный состав – еще один показатель преодоления «другости» в интерпретациях русской классики на современной сцене, поскольку еще не так давно русский оперный репертуар был не слишком востребован в мире, а для исполнения приглашались в основном русские артисты, служа признаком «аутентичности». Сегодня современная оперная сцена поистине является примером поликультурного пространства, а исполнителям приходится осваивать не только языки оригинала, но и различные культурные коды. В случае с «Онегиным» единственным стереотипом «русскости» были, пожалуй, снопы соломы, разбросанные в качестве ностальгического воспоминания в комнате Татьяны в финальной сцене. Главным как для режиссера, так и для исполнителей стала история потерянной любви юности, которая может случится и часто случается с каждым. Молодой дирижер Роберт Тиччиатти подчеркивает драматический аспект оперы, «любовь, потеря, детство, взросление – в ней есть все» [307]. Это вполне согласуется с «Набоковым…, Пушкиным… и Чайковским, для которых великий трагический нарратив Евгения Онегина является по сути камерным, историей раненой страсти и трагически кончившейся дружбы четырех молодых людей, связанных честью и нравами своего времени» [156].
Режиссера Каспера Холтена также привлекает не «другость» сюжета или культурные реалии России XIX века, а внутренний мир героев и его отражение в музыке. Свой прием соотнесения Онегина и Татьяны, которые показаны людьми вполне зрелого возраста, со своими молодыми двойниками он объясняет стремлением выразить ностальгический лиризм Пушкина и Чайковского. Отсюда постепенное появление символов прошлого героев в финальной сцене – комната заполняется книгами, которые составляли жизненную среду молодой Татьяны, снопами соломы – символами деревенской жизни, близкой к природе и, в данном случае, отсылкой к «русскости». Но главным для него является то, что мы видим историю истинной любви, не юношеского увлечения, а чувства, которые герои проносят через всю жизнь. Несомненно, одним из самых важных моментов в постановке произведения, принадлежащей к «другой» культуре, является интерпретация образов главных героев, в данном случае Онегина и Татьяны, причем в случае с оперным Онегиным понимание и воплощение героя более сложно, чем «прозрачный» и лиричный образ Татьяны, «русской душою», но воспитанной на французских романах и мечтающей о любви как любая девушка ее возраста. Онегин – персонаж более сложный, как мы уже писали выше, воплощая все черты «экзистенциального Другого». Для «инокультурного» исполнителя важно понять его «сущностную» другость, являющуюся, возможно, сердцевиной его характера. Саймон Кинлисайд говорит о сложности характера молодого Онегина, в котором сочетаются цинизм, очарование, чувство юмора и «который, к сожалению, не понял главное в жизни» [307].
«Другость» Онегина подчеркнута исполнителем, его «антигерой с начала до конца социально и эмоционально дисфункционален, что представляет собой интереснейший материал для исследования – и Кинлисайд, который доминирует на сцене своим голосом, манерой и жестикуляцией, прекрасно с этим справляется». (267) Эта трактовка образа героя близка к кинематографической интерпретации Р. Файнза, который рассуждает о важности истории Онегина для сегодняшнего дня: «Это история об упущенных возможностях, поскольку человек слишком занят собой, и тем как можно защитить себя от эмоциональной вовлеченности, от эмоциональной открытости, которая дана Татьяне и не дана Онегину. Он сформировал себя…как интригующий, но холодный образ. Но он не глуп, он человек тонкого восприятия, но он проигрывает, поскольку он не осмелился быть ранимым. Я думаю, настоящая эмоциональная честность более трудна для мужчин, чем для женщин» [302].
Совпадение трактовки образа героя в фильме и опере не случайно, оно показывает тенденцию европейских «культурных производителей» искать в литературном или музыкальном тексте общечеловеческие проблемы, возможности их разрешения или ухода от них, новых взглядов на такие аспекты человеческого бытия, не исчезнувшие даже в «посткультуре», как любовь, память, верность и на весь спектр межличностных отношений. Если «другость» и присутствует в этих интерпретациях, то это не этнокультурная, а «экзистенциальная» другость не интегрированного в общество героя, в то время как этнокультурный момент «русскости» (кроме языковой составляющей) присутствует лишь в виде символов и намеков. На наш взгляд, это симптоматично для современного взгляда на классическое наследие, которое притягательно не своей экзотической «другостью», принадлежащей сегодня массовой культуре и туриндустрии, а великими общечеловеческими ценностями, заключенными в ней и ждущей талантливого и бережного интерпретатора в любой форме художественной культуры.
Описанные нами примеры симптоматичны для культуры наших дней, когда даже самый наивный потребитель понимает сконструированность расхожих стереотипов о различных культурах. «Демистификация всех культурных конструктов, как «наших», так и «их» – новый факт, который осваивают ученые, критики и художники» [101, с. 605].
В плюралистическом мире бесчисленных «других» сознание некоего нового пространства сосуществования различных культурных форм возникает иллюзия потеря «другости» как отличительного признака того или иного этнокультурного сообщества, утеря аутентичности в пользу преобладания общечеловеческих элементов в репрезентации разнородных культурных текстов и форм. В предпринятом нами анализе двух очень качественных и серьезных репрезентаций текста, принадлежащего изначально русской культуре, утверждается именно антропологический универсализм последнего. Тем не менее, точку в нашем исследовании ставить еще рано, поскольку любая универсалия нуждается в реификации в культурной практике и детализации в рефлексии. Взгляд Другого на русскую культуру заставляет задуматься об общем и специфичном элементе в ее текстах, о контекстуальной обусловленности репрезентации и разнице в восприятии культурного феномена как «своего» и как «другого». В контексте интенсивных поисков определения собственной идентичности, ведущихся как в области теории, так и самых разных социокультурных практик, посмотреть на Себя-как-на-Другого представляется очень важным моментом в самоидентификации. Мы осознаем, что концептуализация «Мы-идентичности» для такого сложного поликультурного пространства как современная Россия очень трудна, практически невозможна на всем социокультурном пространстве нашей страны. Тем не менее, отдельные пространства воплощения в культурные формы и практики взаимоотношения «Я/Другой» могут помочь в прояснении общей картины взаимоотношений многочисленных «Мы» и «Они» (пост)современного мира, и именно с этой целью мы предприняли наш анализ одного конкретного примера такого отношения.
Глава 4
Проблема кризиса идентичности в искусстве модернизма: трагизм «Пиковой дамы» П.И. Чайковского и «Воццека» А. Берга в контексте вызовов современности
Sed semel insanivimus omnes
Однажды мы все бываем безумны
Обращение к модернизму как признак исчерпанности культуры
В художественной жизни наших дней мы видим многочисленные римейки старых фильмов, явные и неявные ссылки на тексты прошлого, многочисленное цитирование, что является показателем исчерпанности культуры, о котором заявляли теоретики постмодернизма. Возврат, поиски созвучий в культурных текстах прошлого – далеко не исключительная привилегия человека «посткультуры» – по сути дела, вся история культуры – во всяком случае значительная ее часть – это «переписывание», новая интерпретация определенных архетипических сюжетов, несущих в себе антропологически универсальный смысл. Такие сюжеты и герои открыты для множественности интерпретаций и, сохраняя подлежащую инвариантную структуру образа или общечеловеческую проблему, становятся основой для новых текстов или новых репрезентаций, отвечающим потребностям того или иного периода. Если какой-то текст прошлого входит в культурное пространство и становится в нем востребованным, значит в нем есть то сочетание универсальности и хроно-топо-центризма, которое заставляет культурных производителей обращаться к тому или иному тексту прошлого. а публику – смотреть, слушать, обсуждать очередную интерпретацию хорошо знакомой истории [146, с. 159].
В наши дни – время информационных технологий, глокализации, торжества массовой культуры и креативных индустрий – обращение к искусству модернизма, весьма далекому от популизма и стратегий культурной индустрии, может показаться странным. Тем не менее, тексты культуры модернизма – литературные, изобразительные, музыкальные – весьма востребованы, находят новых читателей и зрителей, становятся неотъемлемой частью гетерогенного культурного пространства начала XXI века. Одним из таких обращений к модернизму является опера А. Берга «Воццек», считающаяся высшим достижением музыкального экспрессионизма, которая ставится на многих сценах в разных странах, будучи одной из наиболее привлекательных произведений для режиссеров, стремящихся создать новые интерпретации оперных текстов и найти новые выразительные средства для передачи произведения, получившего культовый статус в музыкальном мире XX века. Т. Адорно называет «Воццека» великой оперой, ставшей закономерным результатом предшествующих поисков представителей «радикальной» музыки. «Из монодрамы «Ожидание», развертывавшей вечность секунды на протяжении четырехсот тактов, из вращающихся картинок «Счастливой руки», отказавшихся от собственной жизни до тех пор, пока они не нашли пристанища во времени – из всего этого получилась великая опера Берга «Воццек». Ничего не поделаешь, великая опера» [2, с. 78]. Причины востребованности этой тяжелой для восприятия, трагической по мироощущению и далекой от развлекательных тенденций массовой культуры оперы мы попытаемся понять, предполагая, что наше исследование может дать ключ к пониманию вспышки интереса к модернизму в целом.
История создания «Воццека»: литературный сюжет и музыкальное воплощение
Альбан Берг (1885–1935), ученик Шенберга, использовал все возможности, которые дали ему драматические изменения в художественном языке в разных видах искусства, происшедшие в конце XIX – начале XX века. Он использовал новые формы музыкальной эксперссии для выражения трагизма бытия человека в непонятном и жестоком мире. Литературная основа его самого знаменитого произведения – пьеса Г. Бюхнера «Войцек». В её основу положена реальная история Иоганна Кристиана Войцека, обезглавленного в Лейпциге в 1824 году за убийство сожительницы. Пьеса Бюхнера относится к периоду романтизма, в котором, несомненно, было место для изображения мрачных сторон человеческой натуры, для кровавых сюжетов и неоднозначных героев. Интерес к фантазмам, к монструозности, к помраченному сознанию (вспомним изучение Т. Жерико умалишенных, выразившееся в серии портретов душевнобольных) был заметен в литературных и живописных произведениях. Тем не менее, произведение Бюхнера не вписывается в канонические рамки романтической литературы хотя бы потому, что ее протагонист не имеет ничего общего с романтическим героем». Войцек, солдат, как обезьяна ярмарочного зазывалы, – «низшая ступень рода человеческого», преследуемый голосами словно приказами, арестант, гуляющий на свободе, кому предназначено быть арестантом…низведенный до состояния животного доктором, который осмеливается ему сказать: «Войцек, человек свободен, в человеке индивидуальность преображается в свободу», подразумевая под этим всего только то, что Войцек долен уметь удерживать мочу. это свобода покорствовать любому злоупотреблению его человеческой природой, свобода закабаляться за три гроша, которые он получает за питание горохом» [58, с. 117].
Э. Канетти, получивший премию Георга Бюхнера в 1972 г., рассказывает, какое впечатление произвела на него эта драма. В 1931 г., чувствуя себя опустошенным и разочарованным, «выжженным дотла и слепым в сотворенным мной самим пустыне», Канетти раскрыл драму Бюхнера, сцену между Войцеком и доктором. «Меня она как громом поразила, и мне представляется жалким, что я не нахожу для этого более сильных слов… Не знаю. что еще так потрясло меня за всю мою жизнь, отнюдь не бедную впечатлениями» [58, с. 117].
Главное, что отмечает Канетти в «Войцеке» Бюхнера – это основанная на эмпирике ощущений конкретная, привязанная к страху и боли философия Войцека. «Он боится, когда мыслит, а голоса, которые его преследуют, для него существенней, чем растроганность капитана по поводу его висящего мундира и бессмертные гороховые эксперименты доктора» [58, с. 118].
Философия, основанная на страхе перед действительностью, дополняется еще одним открытием Бюхнера, которое затем станет основой многих художественных произведений, относящихся к более поздним стилевым направлениям – по словам Канетти,»открытие малого». В отношении к нему автора, а затем и читателя/зрителя/слушателя коренится суть подхода к интерпретации «Войцека» и других произведений о судьбе «маленького человека», который должен быть основан на сострадании, но сострадании скрытом. «Писатель, который чванится своими чувствами, который раздувает Малое своим состраданием, – оскверняет и разрушает его» [58, с. 118].
Основанная на сюжете Бюхнера опера «Воццек» был задумана А.Бергом в период первой мировой войны, а первое исполнение ее на сцене состоялось в Берлине в 1925 году. В интеллектуальных и художественных кругах в это время наблюдался большой интерес к учению З. Фрейда, к литературным экспериментам Ф. Кафки, к поискам художников самых разных направлений, условно объединенных термином «модернизм». В музыке это был период ломки старых идеалов мелодии и – даже в еще большей степени – гармонии.
Сюжет драмы Бюхнера и оперы Берга основан на истории солдата Воццека (так он назван в опере) и его любовницы, матери его сына, Мари, которая что изменяет ему с тамбурмажором, а одержимый безумными видениями Воццек убивает ее, а сам тонет в пруду, что можно расценивать как самоубийство. «Эта мрачная история, отмеченная не только печатью веризма и влиянием традиционной драмы адюльтера, но и невиданным прежде умением изображать умоисступление, обогащает картину современного театра образом, вернее, двумя образами обездоленных» [285].
Музыкальная форма вполне соответствует сюжету. «Вокальная линия, то резкая, то угловатая (благодаря, в частности, неожиданным и широким, скачкообразным интервалам), то жалобная, изображающая мучительный бред, подчиняет себе оркестр, который создает волнующий, жгучий образ деформированной реальности. Опера Берга – наиболее типичное произведение экспрессионизма, напоминающее по духу мрачные страницы Кафки. Атонализм в сочетании со строгой архитектоничностью музыкальной формы создает эффект безысходности» [285].
Предшественники музыкального экспрессионизма
Музыкальный экспрессионизм, яркой манифестацией которого является музыка А. Берга, был преемственно связан с поздним романтизмом. Зловеще-мрачные образы нередко встречаются в произведениях Малера (поздние симфонии), Р. Штрауса (оперы «Саломея», «Электра»), Хиндемита (оперы «Убийца – надежда женщин», «Святая Сусанна»), Бартока (балет «Чудесный мандарин»). Хронологически их сочинения стоят рядом с экспрессионизмом в живописи и литературе, однако в целом творчество этих композиторов опирается на традиции романтизма, как и ранние произведения Шёнберга и Берга.
Что касается тематики произведений позднего романтизма и модернизма, можно видеть, что и там, и здесь разлад человека с окружающей действительностью выступает на первый план. Безумие как крайняя форма неадекватности отношений с внешним миром, причины которой могут быть как «внешними», так и «внутренними», как социальными, так и психологическими, становится темой для философской рефлексии и художественного творчества. Очень интересный пример, показывающий зарождение нового мироощущения в еще не выходящей за рамки традиции культурной форме – опера П.И. Чайковского «Пиковая дама», написанная по мотивам произведения Пушкина, но отражающая совсем другую эпоху и другие настроения. Тема безумия Германа, героя «Пиковой дамы» Чайковского (в отличие от пушкинского Германна), не нашедшего возможности реализовать в реальной жизни свои амбиции и свою любовь, звучит как экзистенциальная трагедия, как столкновение рока и желания, как неосуществимость и в то же время торжество любви в прекрасной музыке Чайковского, основанной на музыкальных традициях, идущих со времен Моцарта, но уже содержащей в себе признаки нового стиля и художественного языка.
Одна из самых популярных в мире опер, «Пиковая дама», стала объектом бесчисленного количества интепретаций и экспериментов, изменений, сокращений, добавлений, переосмыслений (порой до абсурдного искажения самой сути музыки, ее смысла), осуществляемых постановщиками.
«Почти каждое новое сценическое воплощение оперы сопровождается бурными дискуссиями и спорами. Первопричина этого – в кардинальном, принципиальном различии идейно-художественных концепций Пушкина и Чайковского, трактовок центрального образа Германа. Музыкальная драматургия Чайковского, как никакая другая, представляет единство музыки и слова, частей и целого» [288].
Несмотря на то, что в музыке «Пиковой дамы» звучит и романтизм, и рокайльные элементы, ощущение тревоги, нарастание трагизма в грозной теме рока предвещает прорыв к новому музыкальному языку, уже готовому прийти на смену долгой традиции. Во время работы над оперой Чайковский обращался к музыке эпохи Моцарта, используя ее как основу для сцены пасторали: «По временам казалось, что я живу в XVIII веке и что дальше Моцарта ничего не было», говорил композитор. Но это подражание узорам рококо и галантности персонажей пасторали не вписываются в драматургию оперы в целом, оставаясь вставным эпизодом. Композитор находился в настроении лихорадочного напряжения, стремясь передать разрушение человеческих судеб. неотвратимость рока и бессилие человека и его разума перед враждебными обстоятельствами. «Быть может, в одержимом Германе, требующем от графини назвать три карты и тем обрекающим себя на смерть, ему виделся он сам, а в графине – его покровительница баронесса фон Мекк. Их странные, единственные в своем роде отношения, поддерживавшиеся только в письмах, отношения словно двух бесплотных теней, закончились разрывом как раз в 1890 году» [282].
Время, в которое мы живем, характеризуется пересмотром многих понятий, деконструкцией привычных оппозиций, появлением на культурной сцене новых групп, которые были исключенным из доминантной культуры или маргинальными, демифологизацией старых героев и в то же время расцветом новой мифологии, избыточностью и легкодоступностью информации. Недаром культурное состояние рубежа тысячелетий часто называется «посткультурой», о чем мы уже писали выше. Проблема Другого обретает в посткультуре новое звучание, Другой обретает голос, получает право на утверждение собственной идентичности, что ведет и к пересмотру распространенного отношения к Другому как к врагу. Причины этого отношения связаны с проблемами самоидентификации человека в сложном мире культурного плюрализма. «Определение себя самого, определение своей самости по отношению к другому по мере достижения статуса другого уничтожает собственное основание. Тогда – именно в ситуации неразличимости – начинается насильственная эскалация отличия. Оно предельно концентрируется в создании образа врага, в отношении которого оправдано насилие…» [147, с. 74].
Такой образ весьма распространен в текстах популярной культуры, где он конструируется в гипертрофированном виде, с преувеличением черт враждебной «другости» в соответствии с господствующими в обществе идеологическими установками. По мере того, как к тому или иному типу Другого отношение враждебности сменяется пониманием, толерантностью или установлением диалога возникают новые устрашающие образы, показывающие, что человек нуждается во враждебном Другом, чтобы ощутить в себе силу борьбы с тем, что представляет угрозу стабильности его существования. Достаточно вспомнить образы русских злодеев из «Бондианы» Флеминга, актуальных во времена холодной войны, которые потеряли свою пафосность в постсоветский период и были заменены образами террористов нового типа, угрожающих западной демократии.
Необходимость человека в Другом, как на уровне индивида, так и группы, настолько велика, что «другость» продолжает оставаться одной из ведущих составляющих как социокультурной реальности, так и области репрезентаций. Известный социолог XX века З. Бауман отмечает эту связь Другого с человеческим существованием: «Из всех различий и разделений, позволяющих мне наблюдать «перерывы постепенности», воспринимать различия там, где иначе мог быть плавный переход, подразделять людей на категории в зависимости от их отношения и поведения, одно различие проявляется сильнее и больше влияет на мои отношения с другими, чем все остальные. – различие между «Мы» и «Они» – это не определения двух отдельных групп людей, а название различия между двумя совершенно разными отношениями: эмоциональной привязанностью и антипатией, доверием и подозрительностью, безопасностью и страхом, общительностью и неуживчивостью. «Мы» – группа, к которой я принадлежу. Я хорошо понимаю, что происходит внутри группы и, поскольку я это понимаю, я знаю, как мне действовать дальше, чувствую себя уверенно, как дома… «Они», напротив, – это та группа, к которой я не могу и не хочу принадлежать. Мое представление о происходящем в ней весьма смутно и отрывисто, я плохо понимаю ее поведение, поэтому ее действия для меня большей частью непредсказуемы и отпугивают» [14, с. 46].
Бауман излагает традиционную позицию отторжения по отношению к Другому и подчеркивает, что она основана на незнании и непонимании. Соответственно, в эпоху расширения коммуникаций до всемирного масштаба, воплощенного в сети Интернет, казалось бы, незнание должно быть преодолено. Тем не менее, это преодоление идет медленно и встречает сопротивление со стороны культурной индустрии, получающей прибыль из популярных форм репрезентации расхожих стереотипов. С одной стороны, многие этнокультурные стереотипы не выдерживают расширения знания о Других культурах и широкого распространения информации о художественных практиках Другого. С другой – стереотипы продолжают проявлять необыкновенную устойчивость даже перед лицом опровергающей их реальности и формируют представления о «русскости» в массовом сознании. Это происходит не только в случае с голливудскими боевиками, где герой попадает в мифологическую Россию со всеми ее атрибутами в виде матрешек, медведей и водки, но и в различных интерпретациях русской классики. Оговоримся сразу, что мы имеем в виду маскультовские образцы, а Можно привести в качестве примера многочисленные (всего около 30) экранизации романа Толстого «Анна Каренина, в которых приметы «русскости» с разной степенью экзотичности показываются в рамках давно устаревших стереотипов. Такая политика репрезентации несомненно рассчитана на коммерческий успех у малоподготовленного зрителя. Тем не менее, как отмечает известный исследователь культуры постмодернизма, Ф. Джеймисон, «…эта привлекательность этничности идет сегодня на убыль, может, потому что существует слишком много групп населения, и потому что их связь с репрезентацией (по большей части медийной) становится все яснее и подрывает онтологические основы фикциональности» (фикциональных образов этничности – прим. автора) [210, с. 342].
Если в популярной культуре конструкция образа «русскости» основана на стереотипах массового сознания и потреблении «экзотики», в культурных формах, основанных на классических текстах и претендующих на серьезное осмысление наследия Другого (в данном случае, русской классики), акцент делается не столько на внешнюю экзотичность, сколько на понимание «русской души» и на выявление универсальных смыслов, делающих то или иное произведение явлением, выходящим за рамки локальной культуры. Можно привести много примеров из области кино, драматического и музыкального театра, обращавшихся и обращающихся сегодня к русской классике. осознавая великий вклад русской культуры в мировой культурный ресурс, западные деятели культуры пытаются создать собственные интерпретации, основанные не на внешних деталях, а на проникновении во внутренний мир автора и его героев. Для понимания созданных на Западе художественных текстов такого рода, мы обратимся к автору, который редко попадает в пространство интерпретации на Западе, несмотря на его несоизмеримый статус в русской литературе и культуре в целом – А.С. Пушкину и его хрестоматийному «Евгению Онегину».
Статус Пушкина в русской литературе и культуре в целом не вызывает сомнения, и в то же время произведения Пушкина плохо поддаются переводу на иностранные языки, в основном, несомненно, по причине сложности передачи поэтической формы одного языка на другом. В то же время Пушкин стал богатейшим источником создания культурных текстов в области музыки и кинематографа, то есть как поэзия, так и проза обладают способностью создавать новые формы с использованием выразительных средств других языков культуры. Именно тексты Пушкина легли в основу величайших опер Чайковского – «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», романсового творчества М. Глинки, кинорежиссеры перенесли на экран практически всю прозу Пушкина. Тем не менее, для западного мира Пушкин в большей степени Другой, чем более известные авторы-прозаики, такие как Достоевский или Чехов. Насколько поэзия поддается переводу на иностранные языки как литературная форма, насколько можно передать содержание поэтического произведения, неразрывно связанное со стихотворной формой, поэтическим языком с его специфической звуковой и семантической системой – вопрос сложный. В нашем случае интерес представляет фокус внимания интерпретатора, баланс между «русскостью» и общечело-вечскими эмоциями и ценностями, способы его достижения в различных видах репрезентации. Выбор такого произведения как «Евгений Онегин» представляет очень сложную задачу для зарубежного интерпретатора, прежде всего, по причине поэтического характера текста, который стал хрестоматийным для поколений русских школьников и давным-давно разошелся на цитаты в русском обществе.
Мы рассмотрим те пространства репрезентации, в которых «Евгений Онегин» стал объектом интерпретации английскими режиссерами и исполнителями – кинематограф и оперу. Каждое из этих культурных пространств обладает своим собственным языком, в большей или меньшей степени позволяющим передавать смысл литературного текста-первоосновы.
Вначале обратимся к фильму «Онегин» (реж. Марта Файнз, 1999). Задача создателей фильма вдвойне трудна – им предстояло «перевести» литературное произведение на экранный язык, а, кроме того, донести до зрителя переведенный текст иноязычного автора, то есть осуществить двойную трансляцию. Проблема «перевода» одного языка культуры на другой, в частности, возможность «рассказать» литературное произведение языком экрана, является весьма важной в современной теории культуры. Разницу в возможностях репрезентации в этих культурных формах анализирует известный отечественный теоретик культуры Н. Хренов: «…в кино существует много элементов, сближающих его с литературой. В то же время исследователи констатируют и целый ряд особенностей, демонстрирующих несходство литературных и кинематографических структур. Оно связано с тем, что иногда называют кинематографичностью или зрелищностью кино. Предполагается, что понятие «зрелищность» не только не тождественно понятию «литературность», но и противоположно ему. Это справедливая, хотя и односторонняя точка зрения» [135, с. 112].
Автор отмечает, что в своих ранних формах литература была также скорее зрелищна, чем нарративна и считает зрелищность начальной формой литературного развития. Кинематограф, с точки зрения Н. Хренова, лучше всего соответствует именно этим ранним литературным формам, что делает их сопоставление вполне возможным. «Поскольку зрелищность в какой-то степени представляет инобытие литературности, а точнее, литературности в начальных формах ее развития, кинематограф можно рассматривать в ряду литературных явлений. С этой точки зрения понятие зрелищности как бы не противостоит понятию литературности» [135, с. 113].
Соглашаясь с тем, что литературные тексты могут быть «зрелищными», мы все же обращаем внимание на противоположное явление – на то, что экранные тексты могут быть нарративными. Это означает, прежде всего, расстановку акцентов в репрезентации – то, как то или иное событие или персонаж показан или то, как о нем рассказано. В предпринятом нами исследовании «другости» в кино именно нарративный кинотекст играет наиболее важную роль. Во-первых, как мы уже указывали, он преобладает в популярной культуре, наиболее обширном культурном пространстве, где складываются представления о Другом. Кроме того, через нарратив, представление о Другом раскрывается постепенно, формируя цельную картину, а не отрывочные впечатления. Нарративные тексты формируют весьма устойчивые представления, воплощая художественные архетипы. В то же время кинематографический нарратив усилен визуальными средствами. Если мы имеем дело с высоким уровнем профессионализма и ответственности, можно говорить о том, что визуальный образ помогает в формировании у зрителя образа, соответствующего реальности. Если оставить в стороне многочисленные фильмы про «русских», основанные на востребованной публикой ложной экзотике, визуальные образы помогают сформировать представления о литературных персонажах, особенно в том случае (как это преимущественно и случается в наши дни), когда знакомство с экранным текстом предшествует чтению книги. Тема Другого, согласно Ж. Делезу, является очень важной и для кино, во всяком случае звукового. «Неизбежностью было то, что звуковое кино избрало в качестве привилегированного объекта внешне наиболее поверхностные и преходящие, равно как и наименее «естественные» и структурированные социальные формы, – встречи с Другим: с другим полом, с другим классом, с другим регионом, с другой нацией, с другой цивилизацией» [43, с. 553].
Отношения с Другим могут быть поверхностными и преходящими именно внешне, поскольку их конфигурации зависят от самых разных обстоятельств, в том числе и от субъектной позиции автора и зрителя, которая имеет тенденцию становиться более подвижной. Но на более глубоком уровне обращение к Другому связано с сущностной потребностью в нем, которую сам же Делез и отмечает, цитируя формулу Рембо «Я – это другой» [43, с. 553].
Фильм «Онегин» является, несомненно, кинематографическим нарративом – авторы сознательно отказываются от поэтической составляющей, рассматривая пушкинский роман в стихах (а именно так определен жанр произведения самим автором) как рассказ о жизненных судьбах героев, помещенный в контекст некоего довольно условного пространства «русскости», что особенно ощущается в музыкальных «несуразностях». Так, в фильме звучит вальс «На сопках Маньчжурии», написанный в 1906 году, Ольга с Ленским поют дуэтом песню «Ой, цветёт калина в поле у ручья», написанную в 1950 году И. Дунаевским для фильма «Кубанские казаки». И, тем не менее, фильм стал рассказом о человеческих чувствах и характерах, которые существовали и существуют вне зависимости от архитектурного или музыкального оформления. Вкрапления поэтического текста в прозаический нарратив подчеркивают эмоциональную важность любовных чувств, заставляющих даже самого обычного человека на время становиться поэтом. «Зарубежные авторы ленты «Онегин» (чуть отличающееся название будто даёт им определённую надежду на прощение) рискнули сделать то, на что не решился бы никто из отечественных экранизаторов, если бы довелось кому-нибудь набраться наглости и воплотить в кино роман в стихах «Евгений Онегин». Иностранцы вообще отказались от стихотворного текста, не считая писем Татьяны и Евгения. И то девичье признание в любви, наизусть заученное нами ещё в школе, не без оригинальности озвучивается вслух гораздо позже, когда спустя шесть лет Онегин, вновь встретив Ларину и влюбившись в неё, перечитывает старое письмо, прежде чем написать ей о своих новых чувствах. Если принять эти правила игры и не быть литературоведчески придирчивыми, то такое обращение с бессмертным пушкинским текстом действительно заслуживает снисхождения. Как и ряд иных вольностей, необходимых для того, чтобы по возможности насытить диалог героев живыми подробностями, позаимствованными из поэтических отступлений» [339].
Позиция, выраженная в данном отзыве, весьма распространена среди «этноцентристов», которые считают, что понять и представить культуру могут только ее носители. Возникает вопрос – нужно ли рассматривать обращение к культурным текстам Другого достойным лишь снисхождения? Не является взгляд на себя «со стороны» крайне полезным для самоидентификации в глобальном культурно пространстве? К тому же, существует немало примеров блестящей интерпретации мировой классики представителями другой культуры, достаточно вспомнить «Гамлета» Козинцева или образ Шерлока Холмса в блестящем исполнении В. Ливанова.
Авторы фильма сознательно придерживаются концепции В. Набокова, а также его прозаического перевода пушкинской поэмы – как известно, Набоков считал невозможным передать художественную сторону поэмы, а единственной задачей переводчика считал наиболее точную передачу информации и однозначно отвечая «нет» на вопрос о возможности передачи рифмованных стихов на иностранном языке… «Перед нами вовсе не картина русской жизни, – писал Набоков о «Евгении Онегине», – в лучшем случае это картина, изображающая небольшую группу русских людей, живущих во втором десятилетии 19 века, имеющими черты сходства с более очевидными персонажами западноевропейских романов и помещенных в стилизованную Россию…» [80, с. 36].
Не делая акцента на «русскость» персонажей и сценографии, М. Файнз идет вслед за В. Набоковым, своим прозаическим переводом подчеркивавшим общеевропейский характер пушкинского шедевра.
Хотя нарративная ткань пушкинского «Онегина» вплетает в себя разнообразный круг действующих лиц, все же главное в нем – судьба героя, который закономерно становится центром экранной интерпретации Р.Файнза, замечательного, тонкого актера, для которого обращение к русской классике далеко не случайно. Именно вокруг печальной судьбы главного героя плетется ткань нарратива. Если Татьяна – олицетворение юности, непосредственности, эмоциональности, которые не способна уничтожить до конца даже холодность громадного аристократического дома, в котором она после замужества ведет жизнь светской дамы, то Онегин воплощает в себе вечную проблему человека, не нашедшего смысл жизни. Но трудно представить себе посткультурную интерпретацию классического образа без постмодернистской иронии, что и отмечали критики фильма, который, надо сказать, был весьма неоднозначно воспринят как профессионалами-киноведами, так и публикой. «Рейф Файнз в роли Евгения Онегина настолько мрачно романтичен и цинично холоден, что временами это начинает производить почти комический, пародийный эффект. Остраняемая поэтом и не без иронии поданная чайлд-гарольдская внешность героя понята актером словно всерьез, и несколько его естественных реакций не могут изменить складывающееся превратное впечатление об Онегине как о скучающем мизантропе, который готов всех презирать» [339].
Подчеркнуто мрачный образ Онегина может, несомненно, рассматриваться в контексте всего постмодернистского культурного производства, в котором осознается, что все культурные формы репрезентации – литературные, визуальные, акустические – в высоком искусстве или в масс медиа, являются идеологически обоснованными, что они не могут избежать вовлеченности в социальные и политические отношения. С этой точки зрения помещение героя поэмы Пушкина в некий условный общеевропейский контекст вполне соответствует процессам глобализации, быстро нивелирующим этнокультурные различия. С другой стороны – Онегин – вечный Другой, не зависящий от этнокультурных примет «другости», он – персонаж универсальный, «человек мира», в том понимании мира, которое существовало в европейском дискурсе в предшествующую деколонизации эпоху, поэтому приметы «русскости» в его интерпретации становятся лишними. Он принадлежит миру, и в то же время – он – вечный Другой в этом мире.
Другой пример обращения британских деятелей искусства к пушкинскому роману в стихах лежит в области музыки – это постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в лондонском Ковент Гардене (реж. Каспер Холтен, 2013). Постановка эта симптоматична с точки зрения общего интереса к русской музыкальной классике на Западе, причем в опере реализация этого интереса гораздо сложнее, чем в других музыкальных формах, поскольку предполагается исполнение на русском языке. В лингвистическом отношении «другость» русской культуры преодолевается с большим трудом, чем в случае других, более привычных языков исполнения. «В постановке «Евгений Онегин» театра «Ковент-Гарден» заняты певцы из разных стран (болгарка Крассимира Стоянова – Татьяна, россиянка Елена Максимова – Ольга, словак Павол Бреслик – Ленский и другие). Оказывается, петь на русском – не так легко, как нам может казаться, особенно для певцов, не владеющих славянскими языками. И если Крассимира Стоянова поёт с едва уловимым акцентом, то британский бас Петер Роуз (князь Гремин) звучит приблизительно так: «Оньегин, я скрывать не стану, бьезумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя тьекла, она явилась и зажгля…» [268].
Эта лингвистическая «другость» ощущается, несомненно, только носителями языка и присутствует в любом виде межкультурной коммуникации, не только художественной. Для англоязычной критики более важна фразировка и свобода произношения, хотя в данном случае работа по освоению русского текста была проделана самая серьезная. Исполнитель роли Онегина известный английский баритон Саймон Кинлисайд, за плечами которого не одна постановка «Онегина» в европейских театрах, настолько хорошо «использовал язык, что каждая строчка была спроецирована и, хотя он не говорит свободно по-русски, казалось, что он чувствует себя в этом языке абсолютно свободно» [229].
Как режиссер, так и исполнитель говорят о том, что только в слитности языка и музыки проявляется вся красота произведения Пушкина и Чайковского, и несмотря на все трудности исполнения на незнакомом языке и необходимости понимания каждого слова только такое исполнение дает зрителю/слушателю полноту ощущения [308].
Но трудности русского произношения – не главное для создания убедительного художественного прочтения произведения, прочно вошедшего в мировой классический фонд и сохраняющее, в то же время, статус жемчужины русской культуры. Опера изначально является культурной формой, испытавшей большое влияние межкультурного взаимодействия. Русская оперная школа также сложилась в результате комбинирования «своих» и «чужих» элементов, а при перенесении в инокультурную среду комплексность ее музыкально-вербально-образной струткуры только усиливается. Э. Саид, выдающийся исследователь культуры, основоположник и классик постколониальных исследований, подчеркивает, что «…вся оперная форма представляет собой гибрид, радикально неоднородное произведение, которое в равной степени принадлежит и истории культуры, и историческому опыту заморского государства» [101, с. 247]. Данное замечание относится к анализу Саидом «Аиды» Верди, но в полной мере применимо и к постановка русской оперы на Западе, поскольку Россия в культурном восприятии Запада стоит недалеко от статуса «заморского государства».
Другая трудность в постановках такого рода – найти в растиражированном тексте, давно разобранном на цитаты, поставленным самыми разными русскими и зарубежными оперными театрами, известного английскому зрителю по фильму, о котором мы писали выше, оригинальное решение там, где существует огромное множество вариантов, показать Другого как привлекательного и интересного. Молодой режиссёр данной версии «Евгения Онегина» – Каспер Холтен, который дебютировал в «Ковент-Гардене» этим спектаклем, был заинтересован, прежде всего, историей утраченного прошлого, любви, которая осталась в молодости, лиризмом воспоминания. Отсюда его необычное дублирование Онегина и Татьяны в исполнении Саймона Кинлисайда и Крассимиры Стояновой балетной парой, которая в танце показывает историю несостоявшейся любви в молодости героев. Идеи режиссера, принадлежащего поколению глобализации и снятия «другости» совпадают с тем, что высказала по этому поводу режиссер фильма «Онегин» Марта Файнз: «…великие истории пересекают границы времени. Перемены приходят со временем – социальные различия, политика, технология… Но есть вещи, которые остаются – смерть, наше отношение к смерти – они не изменились. И что невероятно – не изменилась природа любви, природа отвержения или неадекватности или чувства недостойности. Эти базовые вещи и истории любви обычно работают очень хорошо, а эта – в особенности» [302]. Именно универсальность этой истории во времени и пространстве и интересует режиссера, и, поскольку любовь рассматривается как общечеловеческий феномен, ее конкретный контекст «другости», «русскости» не столь важен, сколько вечное звучание любовной тоски и несбывшихся надежд. Интересно, что из многочисленных отзывов зрителей/слушателей лондонского «Онегина» только в одном была отмечена этнокультурная специфика оперы: «Русскость была безошибочна в сценографии, пении, костюмах и составе» [306].
Что касается состава, в нем была только одна русская исполнительница – Ольга, которую пела Елена Максимова. Международный состав – еще один показатель преодоления «другости» в интерпретациях русской классики на современной сцене, поскольку еще не так давно русский оперный репертуар был не слишком востребован в мире, а для исполнения приглашались в основном русские артисты, служа признаком «аутентичности». Сегодня современная оперная сцена поистине является примером поликультурного пространства, а исполнителям приходится осваивать не только языки оригинала, но и различные культурные коды. В случае с «Онегиным» единственным стереотипом «русскости» были, пожалуй, снопы соломы, разбросанные в качестве ностальгического воспоминания в комнате Татьяны в финальной сцене. Главным как для режиссера, так и для исполнителей стала история потерянной любви юности, которая может случится и часто случается с каждым. Молодой дирижер Роберт Тиччиатти подчеркивает драматический аспект оперы, «любовь, потеря, детство, взросление – в ней есть все» [307]. Это вполне согласуется с «Набоковым…, Пушкиным… и Чайковским, для которых великий трагический нарратив Евгения Онегина является по сути камерным, историей раненой страсти и трагически кончившейся дружбы четырех молодых людей, связанных честью и нравами своего времени» [156].
Режиссера Каспера Холтена также привлекает не «другость» сюжета или культурные реалии России XIX века, а внутренний мир героев и его отражение в музыке. Свой прием соотнесения Онегина и Татьяны, которые показаны людьми вполне зрелого возраста, со своими молодыми двойниками он объясняет стремлением выразить ностальгический лиризм Пушкина и Чайковского. Отсюда постепенное появление символов прошлого героев в финальной сцене – комната заполняется книгами, которые составляли жизненную среду молодой Татьяны, снопами соломы – символами деревенской жизни, близкой к природе и, в данном случае, отсылкой к «русскости». Но главным для него является то, что мы видим историю истинной любви, не юношеского увлечения, а чувства, которые герои проносят через всю жизнь. Несомненно, одним из самых важных моментов в постановке произведения, принадлежащей к «другой» культуре, является интерпретация образов главных героев, в данном случае Онегина и Татьяны, причем в случае с оперным Онегиным понимание и воплощение героя более сложно, чем «прозрачный» и лиричный образ Татьяны, «русской душою», но воспитанной на французских романах и мечтающей о любви как любая девушка ее возраста. Онегин – персонаж более сложный, как мы уже писали выше, воплощая все черты «экзистенциального Другого». Для «инокультурного» исполнителя важно понять его «сущностную» другость, являющуюся, возможно, сердцевиной его характера. Саймон Кинлисайд говорит о сложности характера молодого Онегина, в котором сочетаются цинизм, очарование, чувство юмора и «который, к сожалению, не понял главное в жизни» [307].
«Другость» Онегина подчеркнута исполнителем, его «антигерой с начала до конца социально и эмоционально дисфункционален, что представляет собой интереснейший материал для исследования – и Кинлисайд, который доминирует на сцене своим голосом, манерой и жестикуляцией, прекрасно с этим справляется». (267) Эта трактовка образа героя близка к кинематографической интерпретации Р. Файнза, который рассуждает о важности истории Онегина для сегодняшнего дня: «Это история об упущенных возможностях, поскольку человек слишком занят собой, и тем как можно защитить себя от эмоциональной вовлеченности, от эмоциональной открытости, которая дана Татьяне и не дана Онегину. Он сформировал себя…как интригующий, но холодный образ. Но он не глуп, он человек тонкого восприятия, но он проигрывает, поскольку он не осмелился быть ранимым. Я думаю, настоящая эмоциональная честность более трудна для мужчин, чем для женщин» [302].
Совпадение трактовки образа героя в фильме и опере не случайно, оно показывает тенденцию европейских «культурных производителей» искать в литературном или музыкальном тексте общечеловеческие проблемы, возможности их разрешения или ухода от них, новых взглядов на такие аспекты человеческого бытия, не исчезнувшие даже в «посткультуре», как любовь, память, верность и на весь спектр межличностных отношений. Если «другость» и присутствует в этих интерпретациях, то это не этнокультурная, а «экзистенциальная» другость не интегрированного в общество героя, в то время как этнокультурный момент «русскости» (кроме языковой составляющей) присутствует лишь в виде символов и намеков. На наш взгляд, это симптоматично для современного взгляда на классическое наследие, которое притягательно не своей экзотической «другостью», принадлежащей сегодня массовой культуре и туриндустрии, а великими общечеловеческими ценностями, заключенными в ней и ждущей талантливого и бережного интерпретатора в любой форме художественной культуры.
Описанные нами примеры симптоматичны для культуры наших дней, когда даже самый наивный потребитель понимает сконструированность расхожих стереотипов о различных культурах. «Демистификация всех культурных конструктов, как «наших», так и «их» – новый факт, который осваивают ученые, критики и художники» [101, с. 605].
В плюралистическом мире бесчисленных «других» сознание некоего нового пространства сосуществования различных культурных форм возникает иллюзия потеря «другости» как отличительного признака того или иного этнокультурного сообщества, утеря аутентичности в пользу преобладания общечеловеческих элементов в репрезентации разнородных культурных текстов и форм. В предпринятом нами анализе двух очень качественных и серьезных репрезентаций текста, принадлежащего изначально русской культуре, утверждается именно антропологический универсализм последнего. Тем не менее, точку в нашем исследовании ставить еще рано, поскольку любая универсалия нуждается в реификации в культурной практике и детализации в рефлексии. Взгляд Другого на русскую культуру заставляет задуматься об общем и специфичном элементе в ее текстах, о контекстуальной обусловленности репрезентации и разнице в восприятии культурного феномена как «своего» и как «другого». В контексте интенсивных поисков определения собственной идентичности, ведущихся как в области теории, так и самых разных социокультурных практик, посмотреть на Себя-как-на-Другого представляется очень важным моментом в самоидентификации. Мы осознаем, что концептуализация «Мы-идентичности» для такого сложного поликультурного пространства как современная Россия очень трудна, практически невозможна на всем социокультурном пространстве нашей страны. Тем не менее, отдельные пространства воплощения в культурные формы и практики взаимоотношения «Я/Другой» могут помочь в прояснении общей картины взаимоотношений многочисленных «Мы» и «Они» (пост)современного мира, и именно с этой целью мы предприняли наш анализ одного конкретного примера такого отношения.
Глава 4
Проблема кризиса идентичности в искусстве модернизма: трагизм «Пиковой дамы» П.И. Чайковского и «Воццека» А. Берга в контексте вызовов современности
Sed semel insanivimus omnes
Однажды мы все бываем безумны
Обращение к модернизму как признак исчерпанности культуры
В художественной жизни наших дней мы видим многочисленные римейки старых фильмов, явные и неявные ссылки на тексты прошлого, многочисленное цитирование, что является показателем исчерпанности культуры, о котором заявляли теоретики постмодернизма. Возврат, поиски созвучий в культурных текстах прошлого – далеко не исключительная привилегия человека «посткультуры» – по сути дела, вся история культуры – во всяком случае значительная ее часть – это «переписывание», новая интерпретация определенных архетипических сюжетов, несущих в себе антропологически универсальный смысл. Такие сюжеты и герои открыты для множественности интерпретаций и, сохраняя подлежащую инвариантную структуру образа или общечеловеческую проблему, становятся основой для новых текстов или новых репрезентаций, отвечающим потребностям того или иного периода. Если какой-то текст прошлого входит в культурное пространство и становится в нем востребованным, значит в нем есть то сочетание универсальности и хроно-топо-центризма, которое заставляет культурных производителей обращаться к тому или иному тексту прошлого. а публику – смотреть, слушать, обсуждать очередную интерпретацию хорошо знакомой истории [146, с. 159].
В наши дни – время информационных технологий, глокализации, торжества массовой культуры и креативных индустрий – обращение к искусству модернизма, весьма далекому от популизма и стратегий культурной индустрии, может показаться странным. Тем не менее, тексты культуры модернизма – литературные, изобразительные, музыкальные – весьма востребованы, находят новых читателей и зрителей, становятся неотъемлемой частью гетерогенного культурного пространства начала XXI века. Одним из таких обращений к модернизму является опера А. Берга «Воццек», считающаяся высшим достижением музыкального экспрессионизма, которая ставится на многих сценах в разных странах, будучи одной из наиболее привлекательных произведений для режиссеров, стремящихся создать новые интерпретации оперных текстов и найти новые выразительные средства для передачи произведения, получившего культовый статус в музыкальном мире XX века. Т. Адорно называет «Воццека» великой оперой, ставшей закономерным результатом предшествующих поисков представителей «радикальной» музыки. «Из монодрамы «Ожидание», развертывавшей вечность секунды на протяжении четырехсот тактов, из вращающихся картинок «Счастливой руки», отказавшихся от собственной жизни до тех пор, пока они не нашли пристанища во времени – из всего этого получилась великая опера Берга «Воццек». Ничего не поделаешь, великая опера» [2, с. 78]. Причины востребованности этой тяжелой для восприятия, трагической по мироощущению и далекой от развлекательных тенденций массовой культуры оперы мы попытаемся понять, предполагая, что наше исследование может дать ключ к пониманию вспышки интереса к модернизму в целом.
История создания «Воццека»: литературный сюжет и музыкальное воплощение
Альбан Берг (1885–1935), ученик Шенберга, использовал все возможности, которые дали ему драматические изменения в художественном языке в разных видах искусства, происшедшие в конце XIX – начале XX века. Он использовал новые формы музыкальной эксперссии для выражения трагизма бытия человека в непонятном и жестоком мире. Литературная основа его самого знаменитого произведения – пьеса Г. Бюхнера «Войцек». В её основу положена реальная история Иоганна Кристиана Войцека, обезглавленного в Лейпциге в 1824 году за убийство сожительницы. Пьеса Бюхнера относится к периоду романтизма, в котором, несомненно, было место для изображения мрачных сторон человеческой натуры, для кровавых сюжетов и неоднозначных героев. Интерес к фантазмам, к монструозности, к помраченному сознанию (вспомним изучение Т. Жерико умалишенных, выразившееся в серии портретов душевнобольных) был заметен в литературных и живописных произведениях. Тем не менее, произведение Бюхнера не вписывается в канонические рамки романтической литературы хотя бы потому, что ее протагонист не имеет ничего общего с романтическим героем». Войцек, солдат, как обезьяна ярмарочного зазывалы, – «низшая ступень рода человеческого», преследуемый голосами словно приказами, арестант, гуляющий на свободе, кому предназначено быть арестантом…низведенный до состояния животного доктором, который осмеливается ему сказать: «Войцек, человек свободен, в человеке индивидуальность преображается в свободу», подразумевая под этим всего только то, что Войцек долен уметь удерживать мочу. это свобода покорствовать любому злоупотреблению его человеческой природой, свобода закабаляться за три гроша, которые он получает за питание горохом» [58, с. 117].
Э. Канетти, получивший премию Георга Бюхнера в 1972 г., рассказывает, какое впечатление произвела на него эта драма. В 1931 г., чувствуя себя опустошенным и разочарованным, «выжженным дотла и слепым в сотворенным мной самим пустыне», Канетти раскрыл драму Бюхнера, сцену между Войцеком и доктором. «Меня она как громом поразила, и мне представляется жалким, что я не нахожу для этого более сильных слов… Не знаю. что еще так потрясло меня за всю мою жизнь, отнюдь не бедную впечатлениями» [58, с. 117].
Главное, что отмечает Канетти в «Войцеке» Бюхнера – это основанная на эмпирике ощущений конкретная, привязанная к страху и боли философия Войцека. «Он боится, когда мыслит, а голоса, которые его преследуют, для него существенней, чем растроганность капитана по поводу его висящего мундира и бессмертные гороховые эксперименты доктора» [58, с. 118].
Философия, основанная на страхе перед действительностью, дополняется еще одним открытием Бюхнера, которое затем станет основой многих художественных произведений, относящихся к более поздним стилевым направлениям – по словам Канетти,»открытие малого». В отношении к нему автора, а затем и читателя/зрителя/слушателя коренится суть подхода к интерпретации «Войцека» и других произведений о судьбе «маленького человека», который должен быть основан на сострадании, но сострадании скрытом. «Писатель, который чванится своими чувствами, который раздувает Малое своим состраданием, – оскверняет и разрушает его» [58, с. 118].
Основанная на сюжете Бюхнера опера «Воццек» был задумана А.Бергом в период первой мировой войны, а первое исполнение ее на сцене состоялось в Берлине в 1925 году. В интеллектуальных и художественных кругах в это время наблюдался большой интерес к учению З. Фрейда, к литературным экспериментам Ф. Кафки, к поискам художников самых разных направлений, условно объединенных термином «модернизм». В музыке это был период ломки старых идеалов мелодии и – даже в еще большей степени – гармонии.
Сюжет драмы Бюхнера и оперы Берга основан на истории солдата Воццека (так он назван в опере) и его любовницы, матери его сына, Мари, которая что изменяет ему с тамбурмажором, а одержимый безумными видениями Воццек убивает ее, а сам тонет в пруду, что можно расценивать как самоубийство. «Эта мрачная история, отмеченная не только печатью веризма и влиянием традиционной драмы адюльтера, но и невиданным прежде умением изображать умоисступление, обогащает картину современного театра образом, вернее, двумя образами обездоленных» [285].
Музыкальная форма вполне соответствует сюжету. «Вокальная линия, то резкая, то угловатая (благодаря, в частности, неожиданным и широким, скачкообразным интервалам), то жалобная, изображающая мучительный бред, подчиняет себе оркестр, который создает волнующий, жгучий образ деформированной реальности. Опера Берга – наиболее типичное произведение экспрессионизма, напоминающее по духу мрачные страницы Кафки. Атонализм в сочетании со строгой архитектоничностью музыкальной формы создает эффект безысходности» [285].
Предшественники музыкального экспрессионизма
Музыкальный экспрессионизм, яркой манифестацией которого является музыка А. Берга, был преемственно связан с поздним романтизмом. Зловеще-мрачные образы нередко встречаются в произведениях Малера (поздние симфонии), Р. Штрауса (оперы «Саломея», «Электра»), Хиндемита (оперы «Убийца – надежда женщин», «Святая Сусанна»), Бартока (балет «Чудесный мандарин»). Хронологически их сочинения стоят рядом с экспрессионизмом в живописи и литературе, однако в целом творчество этих композиторов опирается на традиции романтизма, как и ранние произведения Шёнберга и Берга.
Что касается тематики произведений позднего романтизма и модернизма, можно видеть, что и там, и здесь разлад человека с окружающей действительностью выступает на первый план. Безумие как крайняя форма неадекватности отношений с внешним миром, причины которой могут быть как «внешними», так и «внутренними», как социальными, так и психологическими, становится темой для философской рефлексии и художественного творчества. Очень интересный пример, показывающий зарождение нового мироощущения в еще не выходящей за рамки традиции культурной форме – опера П.И. Чайковского «Пиковая дама», написанная по мотивам произведения Пушкина, но отражающая совсем другую эпоху и другие настроения. Тема безумия Германа, героя «Пиковой дамы» Чайковского (в отличие от пушкинского Германна), не нашедшего возможности реализовать в реальной жизни свои амбиции и свою любовь, звучит как экзистенциальная трагедия, как столкновение рока и желания, как неосуществимость и в то же время торжество любви в прекрасной музыке Чайковского, основанной на музыкальных традициях, идущих со времен Моцарта, но уже содержащей в себе признаки нового стиля и художественного языка.
Одна из самых популярных в мире опер, «Пиковая дама», стала объектом бесчисленного количества интепретаций и экспериментов, изменений, сокращений, добавлений, переосмыслений (порой до абсурдного искажения самой сути музыки, ее смысла), осуществляемых постановщиками.
«Почти каждое новое сценическое воплощение оперы сопровождается бурными дискуссиями и спорами. Первопричина этого – в кардинальном, принципиальном различии идейно-художественных концепций Пушкина и Чайковского, трактовок центрального образа Германа. Музыкальная драматургия Чайковского, как никакая другая, представляет единство музыки и слова, частей и целого» [288].
Несмотря на то, что в музыке «Пиковой дамы» звучит и романтизм, и рокайльные элементы, ощущение тревоги, нарастание трагизма в грозной теме рока предвещает прорыв к новому музыкальному языку, уже готовому прийти на смену долгой традиции. Во время работы над оперой Чайковский обращался к музыке эпохи Моцарта, используя ее как основу для сцены пасторали: «По временам казалось, что я живу в XVIII веке и что дальше Моцарта ничего не было», говорил композитор. Но это подражание узорам рококо и галантности персонажей пасторали не вписываются в драматургию оперы в целом, оставаясь вставным эпизодом. Композитор находился в настроении лихорадочного напряжения, стремясь передать разрушение человеческих судеб. неотвратимость рока и бессилие человека и его разума перед враждебными обстоятельствами. «Быть может, в одержимом Германе, требующем от графини назвать три карты и тем обрекающим себя на смерть, ему виделся он сам, а в графине – его покровительница баронесса фон Мекк. Их странные, единственные в своем роде отношения, поддерживавшиеся только в письмах, отношения словно двух бесплотных теней, закончились разрывом как раз в 1890 году» [282].