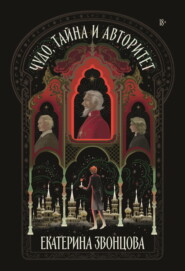По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма к Безымянной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Письма к Безымянной
Екатерина Звонцова
Магические миры Екатерины Звонцовой
1782 год. Двенадцатилетний Людвиг не чувствует себя родным в собственной семье. Он не стал вторым Моцартом, и за это его не могут простить. А тяжелее всего, что рядом нет ни одного настоящего друга.
Но однажды появляется таинственная девушка, природа которой непостижима. Она пройдёт вместе с Людвигом через всю его непростую, мятежную, полную испытаний жизнь. И тот, кто не стал вторым Моцартом, станет первым и единственным Бетховеном…
Биография великого композитора Людвига ван Бетховена, рассмотренная через призму магического реализма.
Бережное обращение с реальными историческими источниками, куда вплетены легенды о немецких фейри – ветте.
Возможность пройти вместе с героями через знаковые страницы нашей истории и повстречаться с такими легендами как Наполен Бонапарт, Антонио Сальери, Вольфганг Амадей Моцарт и не только.
Мистическая обложка, сказочное оформление и больше 20 черно-белых иллюстраций внутри от популярной художницы Илоны Шавлоховой (HAIME).
Екатерина Звонцова – автор бестселлеров «Теория бесконечных обезьян» и «Серебряная клятва». Успешно издавалась сначала под псевдонимом Эл Ригби, потом под собственным именем.
Екатерина Звонцова
Письма к Безымянной
© Звонцова Е., текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Пролог
1826
Я не помню, кто рассказал мне эту историю – не ты ли? – но однажды на далеком Востоке мудрый учитель поссорился с учеником, не поделив то ли колдовской меч, то ли сердце дракона. И когда эти двое расходились разными дорогами, учитель проклял ученика словами «Мир больше не скроет от тебя своей усталости». Не знаю, сбылось ли проклятье тогда, но сейчас оно вездесуще и нерушимо. С туманных болот печали воет нам само время – потерявший путь неупокоенный призрак.
Впрочем, хватит фантасмагорий, хватит, обычно я далек от поэтичных испражнений любого толка. Гордись, всю неделю я послушен наставлениям – твоим и врачей! Высыпаюсь и ем, дышу воздухом так, будто должен надышаться на остаток жизни. Но сегодня я провинился – за полночь, а я не смыкал глаз. Морфеевы чары не несут мне ни необходимого покоя, ни тех ужасных сновидений, на которые горазд беспокойный разум под чужим кровом. Я гляжу в потолок, и мне даже не видится в нем чистый лист. Блеклая лепнина напоминает скорее о костях, выбеленных временем и морем, похороненных на бескрайнем темном дне. Чьи-то кости – поверженных химер, утонувших мореплавателей, их безутешных подруг? Вот… опять поэзия. Видишь, куда заводит меня бессонница? Давай же, смейся. Тоска, все она – тоска по тебе, по ускользнувшим минутам нашего «вместе».
О, если бы ты понимала мою пытку, пытку снова мечтать о тебе, едва написав очередную строку письма. Моя далекая, как терзает меня страх более тебя не найти, страх проиграть все, что с таким рыком я выгрызал у Судьбы. Открыть дверь пустого дома, поймать флер клевера в незадернутых гардинах, найти несколько птичьих черепков в ящике – не более. Неужели на это я отныне обречен? Нет, пока я жив – буду надеяться, ведь ты исчезала, всегда исчезала, чтобы вернуться. Исчезала юркая девчонка, дразнившая меня; исчезала фройляйн, прогулка с которой сделала бы любому честь; исчезала святая, не боявшаяся тягот. Каждый раз, говоря, что однажды ты будешь моей, я лишь растравлял себя, и… вот мы здесь. Я не смею сказать многого еще, но смирился: таково, видно, мое испытание. Небо ниспослало мне Музыку, которую я щедро Ему возвращаю, не слыша уже своих даров. Ниспослало тебя, которую я никому не отдам, но не получу и сам. И ниспослало туманный вой времени. Уверен, Оно сделало это с неким замыслом, который просто мне непонятен, но, может, понятен тебе, моя любовь? Ведь ты знаешь все. Как ты там?..
Знаешь, в минуты, когда я сел писать тебе, на меня снизошла хрупкая иллюзия: будто я вновь слышу густой и пестрый шум листвы, купающейся в ненастье. Я, конечно, только видел его за окном, но каким настоящим он казался! Я даже поверил, что моя нескончаемая молитва с гулкого колодезного дна услышана и болезнь отступила. Но иллюзия прошла, зато вторая – что ты не получишь вестей, если я не поспешу, – осталась, шепчет новые спешные, нежные слова. И я благодарен за нее. Небу. Усталому миру. Тебе. Нам.
Теперь я все же попробую вздремнуть, тем более от свечи мало что осталось. Но боюсь, и на этом письмо не иссякнет, ведь у меня будет еще целая вечность.
Вечность без тебя. Светлых снов.
Часть 1
Карпы и драконы
1782
Подменыш
Ноющее колотье в пальцах замучило до злых слез. Сегодня оно особенно болезненно, никак не проходит, будто не урок был, а на руки долго-долго роняли камни, причем такие тяжелые булыжники, что из них можно что-нибудь построить. И не отогнать образ – обнесенную тремя рвами, охраняемую голодным Фафниром крепость, куда обязательно принесут клавесин, а его, Людвига, закуют в зачарованные колодки и посадят на жесткую банкетку. Привяжут, плюхнут пухлые потрепанные ноты «Хорошо темперированного клавира»[1 - Das Wohltemperierte Klavier – сборник клавирных пьес И. С. Баха, включающий 48 прелюдий и фуг, охватывающих все мажорные и минорные тональности. Практика обучения по нему началась уже в XIX веке, хотя и была еще распространена не столь широко. Бетховена познакомил с этим сборником его боннский учитель.] и…
«…Еще раз, ну-ка. Ты допустил четыре ошибки. И перейдем к скрипке, ведь музыкант, если желает успешно устроиться, должен быть всему обучен и ничего не чураться. Ты уже лишен одного из необходимых даров: голос твой больше подошел бы жабе, никак не ангелу Господню. Знать бы, кто так тебя проклял и за какие грехи нашей семьи. Ведь все мы музыканты, все – с чудными голосами. Не подменыш ли ты? Не украли ли тебя ветте[2 - Ветте – существа из германо-скандинавского фольклора. Обладали неземной красотой, были способны превращаться в животных и насылать беды. После принятия христианства среди населения стали распространяться легенды, что ветте начали похищать некрещенных младенцев и оставлять в колыбелях подменышей или сами ложились на место ребенка.]?»
Можно ли в такие минуты украдкой ненавидеть то, что полюбил с первого звука? Проклятье ли то, что даже имя, имя досталось от умершего во младенчестве брата? Не прошлого ли крошку Людвига украли ветте, и если украли, то… может, прав отец? Ничего не получается. Ничего не получается, как он бы хотел; все сыро, грубо, рвано или – за последнее щедрее всего сыплются тумаки – дерзко! И бессмысленно гадать, что же тому причина. Лучше опять убежать и хоть немного побыть одному здесь, у родной реки.
Боль, ломкая, упрямая, впилась в каждую косточку и подушечку пальца, как вшивый пес. Кусая губы, Людвиг подползает к краю берега; примяв траву, ложится на живот и свешивается низко-низко, к самой воде, к ее широкому зеленоватому полотну. Рейн сегодня рассеян и сонлив. Людвигу по душе эта река с переменчивыми, как у него самого, настроениями. Рейн почтенен, но не вроде брюзгливых соседей, мимо которых не пройдешь в мятой рубашке неосвистанным. Рейн весельчак, но главное – он, кое-где по берегам поросший лесом, как бородой, ничего не требует от тех, кто ищет рядом утешения. У старой реки достаточно своего добра на дне, в заводях, по прибрежным откосам: ила и камешков, лягушек и мальков, русалок, утопленников, волн, ив, порогов, песка, монетных бликов утра и чернильных капелек ночи, сдобренной упавшими звездами. Рейн видится Людвигу похожим на дедушку, хотя дедушки в воспоминаниях нет, одни легенды о нем.
У дедушки-то получалось и пение, и сочинительство, и актерство. Дедушка был окружен друзьями и нужен всему Бонну, как эта спасительная река. Людвиг часто думает о том, что здорово было бы знать дедушку, и заниматься музыкой с ним, и любить его, надеясь на ответную любовь, и чувствовать с ним ту же связь, что с Рейном, – но увы. Вместо любви вопрос: неужели дедушка, задумчиво глядящий со старых портретов, тоже сказал бы, что внук расхныкался, обленился? Проревел бы на весь город: «Подменыш! Подменыш! Иди вон!» Или понял бы, пожалел, похвалил немногое, чего Людвиг не стыдился? Дедушка ведь, пусть мертвый, имеет в подобных вопросах куда больше веса, чем живая мать; он будто и поныне обитает в угрюмом доме таким же угрюмым призраком. «Что сказал бы твой талантливый тезка?», «Ради чего мы назвали тебя в его честь?». В его честь, а не в честь мертвого брата. Такая была в семье мечта – кому-то передать это имя, имя-талисман. Подумать страшно, сколько отец плодил бы Людвигов, сколько их могло бы умереть или быть похищенными Тайным народцем, пока не родится достаточно крепкий младенец, способный выжить и забрать дедушкино имя себе. Имя, но не дар. Как болят пальцы.
Людвиг дотягивается до воды, и она заботливо обволакивает горящие руки, омывает мозоли, журчит все с тем же старческим добродушием:
«Ну-ну, малыш. Не вешай нос. Все пройдет».
Руки скоро немеют – такая вода холодная. Убегает противный пес Боль, унося обиду на отца. Тогда, отряхнув кисти, Людвиг поудобнее упирает локти в землю и задумчиво всматривается в речную рябь. Там проступает постепенно его отражение – взъерошенное, темноглазое. Если Людвига заносит в незнакомые уголки Бонна, на него из-за смуглости и неопрятности часто косятся: не бродяга-цыган ли, не разбойник ли с ножом в сапоге? А мальчишки, с которыми отец изредка, смилостивившись, разрешает побегать, после того как клавиши перестают слушаться или смычок падает из рук, зовут Людвига мавром, за ту же грозную кудлатость и крепкие кулаки. Хорошо, что его не видят сейчас. Нет в гордом мальчишеском обществе позора страшнее, чем клеймо «Я слаб!». Таких не берут в товарищи по играм.
Но правда, сил бегать, смеяться, дразниться нет. Поэтому он здесь, под прохладным боком природы. Его самого иногда удивляет эта любовь к штилям, чуждая, как говорит мать, «таким шкодникам-ураганам». Но сегодня любовь эта напомнила о себе. Увела с улиц, где можно разглядывать кареты и витрины, мечтать о марципанах и засахаренных цветах, морщиться при виде кривоногих собачек, разряженных дам и чистоплюев-щеголей в напудренных паричках. Захотелось бежать от всего – гремящего и тявкающего, шуршащего, стучащего, благоухающего. Мимо домов и костелов, рынка и трактира, лачуг и кладбища. В зеленое безлюдье, к холмам, где если и живет Лесной Царь, похититель детей, то не тронет, не позарится на столь жалкую добычу.
В прозрачной глади проплывают две важные рыбы – ни дать ни взять подводные сановники. Их перламутрово-багряные хвосты вальяжно рассекают толщу, усы шевелятся с презрительной ленцой, а чешуя блестит, словно дорогая жилетная ткань. О чем таком беседуют жирные сановники, о погоде на излучине Рейна или о беззаконии хитрых сетей? Людвиг бездумно рассматривает их и уже тянется вспугнуть, но рядом, в паре шагов раздается:
– Каждый карп рождается, чтобы стать драконом. – Голос чистый, а эта задумчивость скорее озорная. – Хотя это, наверное, никакие не карпы.
В воду шлепается венок из клевера, и рыбы кидаются наутек. Обиженный плеск их удаляющихся хвостов провожают смех и неодобрительное замечание:
– Эти точно ни во что не превратятся, слишком трусливые! А я, знаешь, так не люблю всяких трусов… пусть лучше спят в своем иле. Да?
По воде все бегут круги от венка. Оторвав от них взгляд, Людвиг поворачивает наконец голову не без любопытства: кто болтает небылицы? Рядом села девочка – непонятно откуда взявшаяся, белокурая, загорелая, с острыми плечами и тоненьким нежным лицом. Она в белом платье с голубым пояском; кто-то заплел ей причудливую косу и крендельком скрутил вокруг макушки, а вот чулки все в травяном соке; туфельки пыльные и без бантов. На локтях и костяшках пальцев ссадины – будто подралась. Может, правда? Так по-мальчишески незнакомка глядит в упор, так вздергивает подбородок, будто и не учили ее смиренно потупляться и стыдиться пятнышек на нарядах.
– Ну чего молчишь? – И снова девочка смеется, рассматривая его глазищами в цветках ресниц, морща острый нос. – Тоже надутый такой, словно… карп!
Поднеся к ноздрям указательный палец и чуть согнув его, она изображает шевелящиеся рыбьи усы. Любопытство и удивление Людвига сменяются смущением, тут же – возмущением. Да когда она прискакала сюда? Чего уставилась и дразнится?
– Никакой я не карп, – бурчит он, просто чтобы не приняла его еще и за глухого.
– А по-моему, похож! – Но дурачиться девчонка перестает, наоборот, напускает на себя самый строгий вид. – Признавайся, хочешь стать драконом?
Снова Людвиг опускает глаза на воду, где кружит венок из цветочных головок, розовых и белых. Та волнуется – неужели Рейн рад незамысловатому подарку чудачки? Почему нет, старик любит чудаков. Смешит, прячет и помогает найтись. Утонет венок – и достанется какой-нибудь русалке на День не-ангела, говорливой и наглой, как незнакомка с косой-крендельком. На дне ведь плести венки не из чего, водоросли – одна уродливее другой. Так что Рейну и его дочерям визит подобной особы в радость, а вот он, Людвиг, не любит, когда на него вот так смотрят; не любит пустые шуточки ни о чем. Хватит. Никто не украдет у него тишину. Он не отдал ее даже приятелям, а уж чтоб его поймали с девчонкой?
– Карпы, драконы… да кто тебе наговорил таких глупостей? – Он сплевывает в сторону и посильнее хмурится: пусть она надуется и отстанет, пусть поймет, что себе дороже приставать к грубиянам. – И почему ты болтаешь их мне?
Но маленькая чужачка широко, белозубо улыбается – и нипочем ей сдвинутые брови.
– Я подумала, тебе может быть интересно… – Она медлит, и вид ее становится еще наглее. – Если, конечно, сам ты не из трусов, зарывающихся в ил!
У нее зеленые, зеленее травы, глаза-миндалинки – чуть-чуть сумасшедшие, чуть-чуть печальные, такие чаще у старушек, уставших жить. Глаза и улыбка будто не вместе; фрагменты разных портретов, изрезанных в клочья. Людвига в дрожь бросает от этих глаз, а еще от собственного плевка, кажущегося теперь вдруг постыдным. Тут же он спохватывается: дрожать перед девчонкой? Которая даже не принцесса какая-нибудь? Этому не бывать!
– Где же водятся рыбы-драконы? – только и спрашивает он снисходительно.
А девчонка и рада.
Екатерина Звонцова
Магические миры Екатерины Звонцовой
1782 год. Двенадцатилетний Людвиг не чувствует себя родным в собственной семье. Он не стал вторым Моцартом, и за это его не могут простить. А тяжелее всего, что рядом нет ни одного настоящего друга.
Но однажды появляется таинственная девушка, природа которой непостижима. Она пройдёт вместе с Людвигом через всю его непростую, мятежную, полную испытаний жизнь. И тот, кто не стал вторым Моцартом, станет первым и единственным Бетховеном…
Биография великого композитора Людвига ван Бетховена, рассмотренная через призму магического реализма.
Бережное обращение с реальными историческими источниками, куда вплетены легенды о немецких фейри – ветте.
Возможность пройти вместе с героями через знаковые страницы нашей истории и повстречаться с такими легендами как Наполен Бонапарт, Антонио Сальери, Вольфганг Амадей Моцарт и не только.
Мистическая обложка, сказочное оформление и больше 20 черно-белых иллюстраций внутри от популярной художницы Илоны Шавлоховой (HAIME).
Екатерина Звонцова – автор бестселлеров «Теория бесконечных обезьян» и «Серебряная клятва». Успешно издавалась сначала под псевдонимом Эл Ригби, потом под собственным именем.
Екатерина Звонцова
Письма к Безымянной
© Звонцова Е., текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Пролог
1826
Я не помню, кто рассказал мне эту историю – не ты ли? – но однажды на далеком Востоке мудрый учитель поссорился с учеником, не поделив то ли колдовской меч, то ли сердце дракона. И когда эти двое расходились разными дорогами, учитель проклял ученика словами «Мир больше не скроет от тебя своей усталости». Не знаю, сбылось ли проклятье тогда, но сейчас оно вездесуще и нерушимо. С туманных болот печали воет нам само время – потерявший путь неупокоенный призрак.
Впрочем, хватит фантасмагорий, хватит, обычно я далек от поэтичных испражнений любого толка. Гордись, всю неделю я послушен наставлениям – твоим и врачей! Высыпаюсь и ем, дышу воздухом так, будто должен надышаться на остаток жизни. Но сегодня я провинился – за полночь, а я не смыкал глаз. Морфеевы чары не несут мне ни необходимого покоя, ни тех ужасных сновидений, на которые горазд беспокойный разум под чужим кровом. Я гляжу в потолок, и мне даже не видится в нем чистый лист. Блеклая лепнина напоминает скорее о костях, выбеленных временем и морем, похороненных на бескрайнем темном дне. Чьи-то кости – поверженных химер, утонувших мореплавателей, их безутешных подруг? Вот… опять поэзия. Видишь, куда заводит меня бессонница? Давай же, смейся. Тоска, все она – тоска по тебе, по ускользнувшим минутам нашего «вместе».
О, если бы ты понимала мою пытку, пытку снова мечтать о тебе, едва написав очередную строку письма. Моя далекая, как терзает меня страх более тебя не найти, страх проиграть все, что с таким рыком я выгрызал у Судьбы. Открыть дверь пустого дома, поймать флер клевера в незадернутых гардинах, найти несколько птичьих черепков в ящике – не более. Неужели на это я отныне обречен? Нет, пока я жив – буду надеяться, ведь ты исчезала, всегда исчезала, чтобы вернуться. Исчезала юркая девчонка, дразнившая меня; исчезала фройляйн, прогулка с которой сделала бы любому честь; исчезала святая, не боявшаяся тягот. Каждый раз, говоря, что однажды ты будешь моей, я лишь растравлял себя, и… вот мы здесь. Я не смею сказать многого еще, но смирился: таково, видно, мое испытание. Небо ниспослало мне Музыку, которую я щедро Ему возвращаю, не слыша уже своих даров. Ниспослало тебя, которую я никому не отдам, но не получу и сам. И ниспослало туманный вой времени. Уверен, Оно сделало это с неким замыслом, который просто мне непонятен, но, может, понятен тебе, моя любовь? Ведь ты знаешь все. Как ты там?..
Знаешь, в минуты, когда я сел писать тебе, на меня снизошла хрупкая иллюзия: будто я вновь слышу густой и пестрый шум листвы, купающейся в ненастье. Я, конечно, только видел его за окном, но каким настоящим он казался! Я даже поверил, что моя нескончаемая молитва с гулкого колодезного дна услышана и болезнь отступила. Но иллюзия прошла, зато вторая – что ты не получишь вестей, если я не поспешу, – осталась, шепчет новые спешные, нежные слова. И я благодарен за нее. Небу. Усталому миру. Тебе. Нам.
Теперь я все же попробую вздремнуть, тем более от свечи мало что осталось. Но боюсь, и на этом письмо не иссякнет, ведь у меня будет еще целая вечность.
Вечность без тебя. Светлых снов.
Часть 1
Карпы и драконы
1782
Подменыш
Ноющее колотье в пальцах замучило до злых слез. Сегодня оно особенно болезненно, никак не проходит, будто не урок был, а на руки долго-долго роняли камни, причем такие тяжелые булыжники, что из них можно что-нибудь построить. И не отогнать образ – обнесенную тремя рвами, охраняемую голодным Фафниром крепость, куда обязательно принесут клавесин, а его, Людвига, закуют в зачарованные колодки и посадят на жесткую банкетку. Привяжут, плюхнут пухлые потрепанные ноты «Хорошо темперированного клавира»[1 - Das Wohltemperierte Klavier – сборник клавирных пьес И. С. Баха, включающий 48 прелюдий и фуг, охватывающих все мажорные и минорные тональности. Практика обучения по нему началась уже в XIX веке, хотя и была еще распространена не столь широко. Бетховена познакомил с этим сборником его боннский учитель.] и…
«…Еще раз, ну-ка. Ты допустил четыре ошибки. И перейдем к скрипке, ведь музыкант, если желает успешно устроиться, должен быть всему обучен и ничего не чураться. Ты уже лишен одного из необходимых даров: голос твой больше подошел бы жабе, никак не ангелу Господню. Знать бы, кто так тебя проклял и за какие грехи нашей семьи. Ведь все мы музыканты, все – с чудными голосами. Не подменыш ли ты? Не украли ли тебя ветте[2 - Ветте – существа из германо-скандинавского фольклора. Обладали неземной красотой, были способны превращаться в животных и насылать беды. После принятия христианства среди населения стали распространяться легенды, что ветте начали похищать некрещенных младенцев и оставлять в колыбелях подменышей или сами ложились на место ребенка.]?»
Можно ли в такие минуты украдкой ненавидеть то, что полюбил с первого звука? Проклятье ли то, что даже имя, имя досталось от умершего во младенчестве брата? Не прошлого ли крошку Людвига украли ветте, и если украли, то… может, прав отец? Ничего не получается. Ничего не получается, как он бы хотел; все сыро, грубо, рвано или – за последнее щедрее всего сыплются тумаки – дерзко! И бессмысленно гадать, что же тому причина. Лучше опять убежать и хоть немного побыть одному здесь, у родной реки.
Боль, ломкая, упрямая, впилась в каждую косточку и подушечку пальца, как вшивый пес. Кусая губы, Людвиг подползает к краю берега; примяв траву, ложится на живот и свешивается низко-низко, к самой воде, к ее широкому зеленоватому полотну. Рейн сегодня рассеян и сонлив. Людвигу по душе эта река с переменчивыми, как у него самого, настроениями. Рейн почтенен, но не вроде брюзгливых соседей, мимо которых не пройдешь в мятой рубашке неосвистанным. Рейн весельчак, но главное – он, кое-где по берегам поросший лесом, как бородой, ничего не требует от тех, кто ищет рядом утешения. У старой реки достаточно своего добра на дне, в заводях, по прибрежным откосам: ила и камешков, лягушек и мальков, русалок, утопленников, волн, ив, порогов, песка, монетных бликов утра и чернильных капелек ночи, сдобренной упавшими звездами. Рейн видится Людвигу похожим на дедушку, хотя дедушки в воспоминаниях нет, одни легенды о нем.
У дедушки-то получалось и пение, и сочинительство, и актерство. Дедушка был окружен друзьями и нужен всему Бонну, как эта спасительная река. Людвиг часто думает о том, что здорово было бы знать дедушку, и заниматься музыкой с ним, и любить его, надеясь на ответную любовь, и чувствовать с ним ту же связь, что с Рейном, – но увы. Вместо любви вопрос: неужели дедушка, задумчиво глядящий со старых портретов, тоже сказал бы, что внук расхныкался, обленился? Проревел бы на весь город: «Подменыш! Подменыш! Иди вон!» Или понял бы, пожалел, похвалил немногое, чего Людвиг не стыдился? Дедушка ведь, пусть мертвый, имеет в подобных вопросах куда больше веса, чем живая мать; он будто и поныне обитает в угрюмом доме таким же угрюмым призраком. «Что сказал бы твой талантливый тезка?», «Ради чего мы назвали тебя в его честь?». В его честь, а не в честь мертвого брата. Такая была в семье мечта – кому-то передать это имя, имя-талисман. Подумать страшно, сколько отец плодил бы Людвигов, сколько их могло бы умереть или быть похищенными Тайным народцем, пока не родится достаточно крепкий младенец, способный выжить и забрать дедушкино имя себе. Имя, но не дар. Как болят пальцы.
Людвиг дотягивается до воды, и она заботливо обволакивает горящие руки, омывает мозоли, журчит все с тем же старческим добродушием:
«Ну-ну, малыш. Не вешай нос. Все пройдет».
Руки скоро немеют – такая вода холодная. Убегает противный пес Боль, унося обиду на отца. Тогда, отряхнув кисти, Людвиг поудобнее упирает локти в землю и задумчиво всматривается в речную рябь. Там проступает постепенно его отражение – взъерошенное, темноглазое. Если Людвига заносит в незнакомые уголки Бонна, на него из-за смуглости и неопрятности часто косятся: не бродяга-цыган ли, не разбойник ли с ножом в сапоге? А мальчишки, с которыми отец изредка, смилостивившись, разрешает побегать, после того как клавиши перестают слушаться или смычок падает из рук, зовут Людвига мавром, за ту же грозную кудлатость и крепкие кулаки. Хорошо, что его не видят сейчас. Нет в гордом мальчишеском обществе позора страшнее, чем клеймо «Я слаб!». Таких не берут в товарищи по играм.
Но правда, сил бегать, смеяться, дразниться нет. Поэтому он здесь, под прохладным боком природы. Его самого иногда удивляет эта любовь к штилям, чуждая, как говорит мать, «таким шкодникам-ураганам». Но сегодня любовь эта напомнила о себе. Увела с улиц, где можно разглядывать кареты и витрины, мечтать о марципанах и засахаренных цветах, морщиться при виде кривоногих собачек, разряженных дам и чистоплюев-щеголей в напудренных паричках. Захотелось бежать от всего – гремящего и тявкающего, шуршащего, стучащего, благоухающего. Мимо домов и костелов, рынка и трактира, лачуг и кладбища. В зеленое безлюдье, к холмам, где если и живет Лесной Царь, похититель детей, то не тронет, не позарится на столь жалкую добычу.
В прозрачной глади проплывают две важные рыбы – ни дать ни взять подводные сановники. Их перламутрово-багряные хвосты вальяжно рассекают толщу, усы шевелятся с презрительной ленцой, а чешуя блестит, словно дорогая жилетная ткань. О чем таком беседуют жирные сановники, о погоде на излучине Рейна или о беззаконии хитрых сетей? Людвиг бездумно рассматривает их и уже тянется вспугнуть, но рядом, в паре шагов раздается:
– Каждый карп рождается, чтобы стать драконом. – Голос чистый, а эта задумчивость скорее озорная. – Хотя это, наверное, никакие не карпы.
В воду шлепается венок из клевера, и рыбы кидаются наутек. Обиженный плеск их удаляющихся хвостов провожают смех и неодобрительное замечание:
– Эти точно ни во что не превратятся, слишком трусливые! А я, знаешь, так не люблю всяких трусов… пусть лучше спят в своем иле. Да?
По воде все бегут круги от венка. Оторвав от них взгляд, Людвиг поворачивает наконец голову не без любопытства: кто болтает небылицы? Рядом села девочка – непонятно откуда взявшаяся, белокурая, загорелая, с острыми плечами и тоненьким нежным лицом. Она в белом платье с голубым пояском; кто-то заплел ей причудливую косу и крендельком скрутил вокруг макушки, а вот чулки все в травяном соке; туфельки пыльные и без бантов. На локтях и костяшках пальцев ссадины – будто подралась. Может, правда? Так по-мальчишески незнакомка глядит в упор, так вздергивает подбородок, будто и не учили ее смиренно потупляться и стыдиться пятнышек на нарядах.
– Ну чего молчишь? – И снова девочка смеется, рассматривая его глазищами в цветках ресниц, морща острый нос. – Тоже надутый такой, словно… карп!
Поднеся к ноздрям указательный палец и чуть согнув его, она изображает шевелящиеся рыбьи усы. Любопытство и удивление Людвига сменяются смущением, тут же – возмущением. Да когда она прискакала сюда? Чего уставилась и дразнится?
– Никакой я не карп, – бурчит он, просто чтобы не приняла его еще и за глухого.
– А по-моему, похож! – Но дурачиться девчонка перестает, наоборот, напускает на себя самый строгий вид. – Признавайся, хочешь стать драконом?
Снова Людвиг опускает глаза на воду, где кружит венок из цветочных головок, розовых и белых. Та волнуется – неужели Рейн рад незамысловатому подарку чудачки? Почему нет, старик любит чудаков. Смешит, прячет и помогает найтись. Утонет венок – и достанется какой-нибудь русалке на День не-ангела, говорливой и наглой, как незнакомка с косой-крендельком. На дне ведь плести венки не из чего, водоросли – одна уродливее другой. Так что Рейну и его дочерям визит подобной особы в радость, а вот он, Людвиг, не любит, когда на него вот так смотрят; не любит пустые шуточки ни о чем. Хватит. Никто не украдет у него тишину. Он не отдал ее даже приятелям, а уж чтоб его поймали с девчонкой?
– Карпы, драконы… да кто тебе наговорил таких глупостей? – Он сплевывает в сторону и посильнее хмурится: пусть она надуется и отстанет, пусть поймет, что себе дороже приставать к грубиянам. – И почему ты болтаешь их мне?
Но маленькая чужачка широко, белозубо улыбается – и нипочем ей сдвинутые брови.
– Я подумала, тебе может быть интересно… – Она медлит, и вид ее становится еще наглее. – Если, конечно, сам ты не из трусов, зарывающихся в ил!
У нее зеленые, зеленее травы, глаза-миндалинки – чуть-чуть сумасшедшие, чуть-чуть печальные, такие чаще у старушек, уставших жить. Глаза и улыбка будто не вместе; фрагменты разных портретов, изрезанных в клочья. Людвига в дрожь бросает от этих глаз, а еще от собственного плевка, кажущегося теперь вдруг постыдным. Тут же он спохватывается: дрожать перед девчонкой? Которая даже не принцесса какая-нибудь? Этому не бывать!
– Где же водятся рыбы-драконы? – только и спрашивает он снисходительно.
А девчонка и рада.