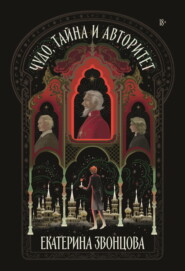По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма к Безымянной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я посмотрел на обрывки внимательнее и покачал головой.
– Прости, я не запоминал ее, а теперь, наверное, многого не хватает. Я уверен был, что смогу завершить, забрав вместе с вещами, когда…
«…буду съезжать отсюда». Я не закончил, но ты поняла – и принялась соединять обрывки. Ты делала это так же быстро, как когда-то плела венок, я не успевал уследить и не понимал цель этого действа. Но менее чем через минуту ты протягивала мне целый, не тронутый ничьим гневом лист и знакомо, по-мальчишески улыбалась.
Свечей нет; на улице беззвездно, безмолвно смеркается. Шумит дождь, но музыка и мрак легко уживаются с ударами капель. Безымянная стоит у окна. Людвиг играет ей, играет, успокаиваясь и забываясь. Нащупывает звуки, точно потерявшихся друзей, тянет ближе – и возвращает к жизни. Это лучше, чем приводить в порядок комнату. Тревожиться о грядущем. И вслушиваться, не раздастся ли кашель матери где-то там, в пещере, охраняемой Фафниром.
«Вернитесь, друзья, которых у меня нет. Вернитесь и спойте для нас».
– Красиво, – шепчет она, медленно расплетая косу, сияющую серебром. – Иногда не знаю, что я люблю больше, твой смех или твою музыку… Истинное волшебство.
«Волшебство – ты». Но эти слова тоже за раскаленной печатью. Людей и нелюдей отпугивает откровенность, отпугивают попытки привязать и привязаться, отпугивает обнаженная нежность, о которой не просили. Людвигу ли не знать?
– Похоже, наверное, звучит моя душа, – признается он, просто чтобы не молчать. – Сколько ни рви ее и ни складывай как-нибудь иначе… другого не получится.
– Давно ты узнал, что у каждой души есть мелодия? – В ладонь она собирает немного дождинок, качает их и превращает в горсть жемчужин. – Страшные, загадочные… – Жемчуг ложится на волосы ажурной короной. – И неповторимые.
Хотелось бы соврать, что он знал всегда, чувствовал, слышал и ловил… но ее так не обмануть, себя тоже. Только Великий Амадеус мог открыть такую правду, чарующую и гибельную. Возможно, эта мудрость и была темной, злой гранью его гения.
– Только когда он показал мне свою душу. И она оттолкнула меня.
Молчание. Недолгое. Наконец Безымянная, вглядываясь в последнюю жемчужину на ладони, шепчет:
– Не держи на него зла, Людвиг. Однажды все мы становимся тем заледенелым океаном, который отталкивает даже самые яркие падающие звезды.
Она все знает. Не могла не узнать. Но Людвигу больше не хочется говорить о Великом Амадеусе, не хочется в круг мыслей, забравших столько сил. Пусть Великий Амадеус живет со своими несчастьями и Тортиком, пишет шедевры и забирает весь свет Сиятельного Сальери… А к Людвигу, вернулась его ветте. Последняя жемчужина улетает за окно светлячком. Людвиг задумчиво провожает ее глазами.
– Я сыграю и твою душу однажды, – говорит он, думая сделать ей приятное. – Можно?.. Верю, это будет лучшее, что я напишу.
Но ее скорее забавляет, чем смущает это обещание, вместо нежного румянца во мраке сверкает лукавая улыбка-вызов.
– Ты даже имя мое никак не угадаешь. – Звонкий смешок безмятежного ребенка срывается с нежных губ печальной девы. – Дурачок…
Но от нее это совсем не как «глупый ребенок».
– Не будь столь строга! – Людвиг тоже смеется, запрокидывая голову, жадно вдыхает воздух, насыщенный грозой, и продолжает играть. – Так можно?
– Да. – Посерьезнев, она кивает. – Но сейчас я хочу слушать твою. И чтобы слушал ты.
И Людвиг слушает собственное адажио, неразрывное с ночью, дождем и печалью развороченной комнаты. Какие темные аккорды, но в какой рокочущий поток они сливаются – и как взлетают там, где тревога сменяется надеждой. Цепи упадут. Двери откроются. Вторая часть будет сильнее. Светлее. Нежнее. Если захочется ее создать.
– Она прекрасна. Видишь? Каждая река – лишь хор бегущих капель.
Людвиг оборачивается. Белеет обращенное к нему лицо; белеет лен волос, которые она успела распустить; белеют тонкие лепестки рук, зябко обхвативших плечи. Сумеречный силуэт, окутанный завесой полупрозрачной шали, все выше, тоньше. И кажется, Людвиг наконец понял, угадал, нашел самое чистое, верное имя. Только бы шагнуть навстречу, удержать еще хотя бы ненадолго…
– Катарина? – Он прерывает игру.
Она тает – безмолвно и беспечально, не кивнув и не махнув рукой. За исчезающим силуэтом проступают облака, бегущие на ночлег за линию горизонта; улыбается серебро месяца, проглядывающего в ненастной мгле. Дождь усиливается. Наверное, будет стучать в окна всю ночь, надеясь, что кто-нибудь его впустит или хотя бы протянет в знак приветствия собранную лодочкой ладонь…
Обрывки недописанной сонаты лежат на полу.
…Многого я еще не знал, – хотя в твоих глазах и в стенании «Ты тонешь…» уже читались скорбные предсказания. Что мать не пробудет на свете и двух месяцев – угаснет так же тихо, как жила, и ничто не сможет облегчить ее страданий. Что маленькая Гретхен последует за ней. Что отец, совсем в эти месяцы зачахший, даже не посмеет винить меня. Что многое перестанет для меня существовать, а многое, наоборот, приблизится и устало навалится, заглядывая в лицо слезящимися глазами и прося: «Кто-то должен быть старшим, Людвиг. Должен заботиться об остальных».
Ты-то понимала: о побегах мне скоро придется забыть. Ты с нами с детства, ты видела: ни один большой или маленький мужчина в нашей злосчастной семье не создан достаточно рачительным хозяином; деньги уходят будто песок сквозь пальцы; стирать и штопать одежду – суровое испытание, когда нет ни слуг, ни женщин. Даже простой завтрак… порой казалось, убить кого-то в лесу и зажарить проще, чем рассчитать крупу для каши. А каково отскребать ее, пригоревшую и гневно на тебя шипящую, от чана?
Братьям, буйно взрослеющим, теперь требовалось втрое больше строгости и заботы, но получали они чаще первое, ведь опекуном их стал гадкий я. В той же незавидной роли я оказался по отношению к отцу. Если раньше нравственные силы и любовь матери еще помогали ему обуздывать страсть к вину, хотя бы не являться пьяным в капеллу, то теперь он опустился окончательно. Работу пришлось оставить: единственным местом, где он отныне пел, точнее, выл, была мамина могила. Даже в трактире Кохов он сумеречно молчал, глядя в пол.
Он терял связь с миром, о связи с нами нечего и говорить. Он даже не ссорился более со мной – только когда напивался настолько, что оплакивал всю, до последней детали, неудавшуюся жизнь, а я тащил его из околотка за сальный, заплеванный ворот. В один из таких дней он с оглушительным «Ты наше проклятье, не смей командовать!» споткнулся и упал прямо в лужу лицом, а я поначалу не помог ему – просто смотрел, как он возится, как шарит по мостовой. Его опухшее морщинистое лицо стало грязным, настолько, что пропало и так-то скудное сходство с нами. Ты сама наверняка заметила: в сравнении со мной отец был слишком аморфен и низкоросл, в сравнении с Николаусом, которого выделяет длинный, как у лягушонка, улыбчивый рот, – слишком хмур, а Каспар… Каспар вообще больше, чем я, заслуживает звания подменыша: он единственный из всех нас рыж, коренаст и обладает крайне отталкивающей, тяжелой линией бровей. И вот теперь отец – чумазый пьяница, неразборчиво проклинающий всех на свете мостильщиков, тучи и Господа, – выглядел, словно не имел к нашей семье никакого отношения, и у меня мелькнула дикая мысль просто развернуться и уйти. Может, отец и дорогу-то не найдет. Может, сам вглядится в свое мутное отражение, ужаснется и пойдет как паломник прочь – каяться. А может, захлебнется в луже, недостаточной для утопления и мыши… последнее сначала злобно, устрашающе взбудоражило меня, а потом отрезвило. Я наклонился и тихо позвал:
– Отец! – А ведь я не произносил этого слова с весны, каждый раз будто давился им и замолкал.
Он, крупно вздрогнув, точно его пнули в ребра, приподнял наконец голову и одну руку, стер пятерней грязь с лица и совсем поседевших, истончившихся волос. Наши глаза встретились. Было так странно, почти жутко смотреть на свой кошмар, своего тюремщика-Фафнира сверху вниз, что я потупился первым, в ожидании, пока меня польют бранью. А он сказал:
– Я не могу встать, Людвиг.
Не пьяное «Живо подними меня», не заискивающее «Дай-ка руку, сын» – просто усталая роспись в бессилии, роспись без сожаления, страха или надежды. Может, от утомления, а может, от чего-то, что я уже столько времени – с разговора о Леопольде Моцарте – давил в себе, грудь мою пережало, холодная судорога побежала от головы по всему телу, сгустилась в подогнувшихся коленях…
– Сейчас встанешь, – прохрипел я и протянул ему руку, стараясь скрыть, как она ходит ходуном. – И мы пойдем домой. И ты поспишь. Я тебя не брошу.
Он встал. Его вырвало розоватой от вина кислой капустой. И мы пошли.
Я не дал ему отрезвляющую оплеуху ни в тот день – хотя он висел на мне весь путь и честил каждого встречного, – ни позже. Но постепенно отец, как и братья, начал бояться меня, слушаться и признавать мое главенство, – потому что, пытаясь прокормить нас, домой со служб, концертов и занятий я возвращался измотанным, злым, отчужденным и печальным. От меня зависело все, от распорядка дня до еды на столе. Половину моего времени занимали мысли, как бы, благодаря кому бы получше устроить братьев. Никто отныне мной не помыкал – но о такой ли свободе я мечтал?
И ведь я удержал невзгоды на плечах. Удивительно, но, лишаясь кусочка сердца или даже сердца целиком, мы нередко обретаем в разы больше сил, чтобы жить без него. Благодаря новым горестям мой позор с Моцартом ушел в прошлое быстро. Думать о нем я не переставал, но то были уже другие мысли, более цепкие, приземленные и порой мстительные. Вот бы Моцарт увидел мой успех, вспомнил свое высокомерие и пожалел об этом. Но я также понимал, что, если он хотя бы улыбнется мне при встрече, если подойдет, я на свой страх и риск повторю ошибку: сам протяну ему руку в надежде на дружбу.
С удвоенной силой я работал в капелле. Мои сочинения печатали все больше, в газетах мелькали заметки, где меня называли «крайне одаренный юноша, лишь чудом не похищенный Веной». Судьба благоволила. Может, потому, что ты почти всюду была со мной? Помнишь? Ты даже помогала тащить отца, а он не замечал; наступал трясущимися ногами на твой подол – и за нами оставался грязный шлейф рваного кружева цвета кофе со сливками. Ты спасала меня… особенно в редкие утра, когда я открывал глаза уже без сил, а ты сидела надо мной, или когда я, отводя душу, копался с герром Нефе в садике, а ты украдкой срывала крокусы. Ты не бросала меня, пусть иррациональный страх опять мешал мне с тобой говорить, да и вообще я не находил слов, не для тебя одной – в таком смятении жил. Все из-за матери… я так скучал по ней. То и дело вспоминались последние, сумеречные ее дни: пустой взгляд, судорожное желание брать нас за руки, гладить по волосам. Она так обреченно угасала; она боялась – а в глазах все время читался какой-то вопрос.
«Что ждет меня там?» Не знаю…
Помнишь, что еще изменилось? Ты так боялась моей меланхолии, что чаще просила не быть затворником, а я слушался. Я сходился с новыми людьми из всех слоев боннского общества, заводил связи, более не стесняясь своей угрюмости и неопрятности, укрывая их за хорошей музыкой. Появились, будто в награду за долгое одиночество, друзья. Нет, они были и раньше, просто я взглянул на них теплее и подпустил ближе. Славные братья Лорхен, сочинявшие стихи; старина Франц, чей камзол оставался моим талисманом; курфюрст, милосердно не задавший мне ни одного едкого вопроса о Моцарте. К ним я спешил, когда совсем не хотел домой, а быт удавалось переложить на сердобольных соседей. Подруги скрашивали мои вечера на балах. Профессора университета завлекали на лекции по философии, истории – и их мало волновало, сколько ошибок я делаю в письмах, сколько раз причесываюсь и чищу ли обувь. А главное, именно с профессорами меня кое-что роднило.
Всех нас дразнили тревожные парижские ветра. Где-то далеко. Пока далеко.
Дружить с особой королевской крови и ждать, нет, жаждать революций? В этом был весь я. Революция ревела, будоражила, просачивалась в умы с каждым броским сочинением, прокламацией, рейдом жандармов в студенческую лачугу. Было очевидно: мир в последние десятилетия застыл в нездоровом сне и трясется при одном только лозунге: «Нет никого ничтожней вас, богов!»[24 - «Прометей» Гете.] Было очевидно: императоры и короли – большинство – плохо представляют, что нужно народам, а народы лишены шанса воспрянуть, сбросить кто нищету, а кто и цепи. Так ведь всегда: сначала спасительная власть приходит в золоте и пламени, чтобы обуздать хаос анархии, но потом золото тускнеет, а пламя гаснет. Новым поколениям нужны металлы попрочнее, чтобы жить, и свежие ветра, чтобы уцелели хотя бы угли, а позже согревающий свет вспыхнул заново.
Поэтому я смотрел на звезды с Максом Францем, но мысли мои заполнялись другими властителями. Их лиц я не видел, имена только начинали звучать, но я знал главное: ничего, никогда они не получали на блюде. Они понимали, что такое тащить братьев и немощных родителей. Каково заискивающе заглядывать в глаза кому-то сильному в надежде на благосклонность и помощь – а получать плевки. Боль побоев, отверженность, отчаяние и голод. Они были как я, нет, лучше, намного. Ведь они шли, чтобы отомстить, шли, чтобы разбудить мир, чтобы, сохранив в нем все лучшее, уничтожить гнилое.
Сохранить – уничтожить. Освободить народ – занять престол. Разбудить мир – подарить ему наконец покой. Мне все это виделось лишь двумя сторонами одной монеты. Монета стояла ребром, бешено крутилась, и моя юношеская наивность не давала мне задумываться о простом, очевидном факте.
О том, что однажды монета обязательно упадет.
Часть 2
Западный ветер
1789
Яблоки для слона