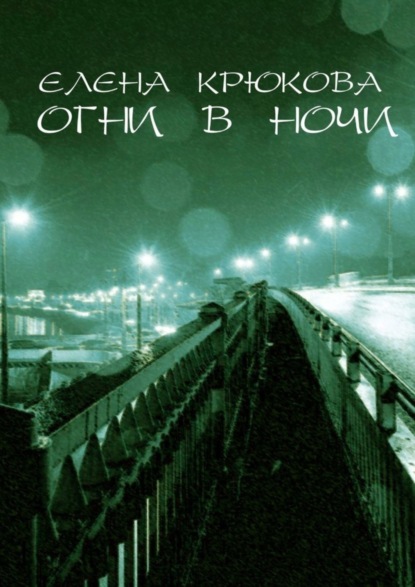По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огни в ночи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«С Рождеством Христовым!..»
Все поэты шагают на сцену, читают, уходят. Между стихами звучит, суровыми столпами встает музыка – поет мужской хор Новодевичьего монастыря. Я прочитала «Правду» из «Литургии оглашенных». Фёдор Григорьевич подходит близко, и снова мои руки – в его руках.
– Это – в сердце, навылет… Я слушал!..
Я порывисто обнимаю его, шепчу: «Спасибо, Фёдор Григорьич, я так рада, что вы здесь, рядом», – мы тут двое родных, земляки, нижегородцы, в столичной толпе, в вихрях московской культуры, в атмосфере гала-концерта – Фёдор Григорьевич сейчас из заснеженных волжских полей, из Красного Осёлка, я из шумного, железно-кирпичного рабочего города, что ещё носит гордое писательское имя «Горький». Два русских поэта, уцепились друг за друга, как в плывущей по бурному морю лодке, и глядят друг на друга, и смеются от радости: прочитали!
Прочитали людям – душу свою!
***
Какой путь лучше: от сложности к простоте или от простоты к сложности?
Никто не знает.
Вот Библия, она одновременно проста и сложна.
Просто понятно, что не каждый осилит Книгу Царств, а Песнь Песней поют, а Псалтырь читают-перечитывают, и вслух, и молча, ею молятся, ею исповедаются, ею – плачут.
Лев Толстой ушел из Ясной Поляны. Ренэ Генон – из католической Франции – в мир Ислама. Николай Клюев – из светских поэтических салонов – в мир нищеты и юродства. Цветаева, Бунин, Зайцев – из убитой старой России-Родины – на чужбину.
Федор Сухов тоже уходит.
Уходил. Ушёл.
И тем самым – вернулся.
К своей родной Библейской, возлюбленной вечности; к самому себе.
Навсегда.
Преисподнего царства страшилище,
Зверя дивьего цепкие лапища, —
Как из Ада я, как из узилища,
Уходил из зловонного капища.
Удалялся от Маркса, от Ленина,
От всесветного столпотворения,
От единственно верного мнения,
От его высочайшего тления.
От затменья мой посох утопывал,
Постигая иное учение,
Ожидая – о нет, не Андропова —
Покаяния и очищения.
Удаленья от дикого ужаса,
Всюду ужасы, ужасы, ужасы…
Дождевая пузырится лужица
Посреди обезлюдевшей улицы.
А когда свечереет, покажется
Боковина ущербного месяца,
И ветла. Под ветлою коряжистой
Водяная сутулится мельница.
Сколько косточек перемолола
На проворном крутящемся камене!
Потому покаянное слово
В отдалённой кручинится храмине.
В росяном оглашается ладане,
Возвышается в будничной рощице,
Умиляет мой Китеж, мой Радонеж,
В соловьином блукает урочище.
Созвездие Лебедя
Венок Фёдору Тютчеву
…детство, огромное, как ночное небо. Звёздное небо; и в нем тысяча солнц. Ты ещё не знаешь, что это далёкие солнца. И что многие из них уже погасли; а свет, пробежав немыслимые дороги в пустоте, достиг твоих глаз – и только там – на дне зрачка – на миг – вспыхнул.
…и вот ты взрослый. Тебе еще немного времени дано побыть в подлунном мире. Полюбоваться на солнце, луну и звёзды. На огонь и воду. На землю и небо. Вдохнуть ветер; обласкать глазами, руками первый снег. Сразиться со злом. Утвердить добро. Это только в том случае, если ты выбрал сердцем Бога – и пошёл за Ним.
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.
Если поэт живёт подлинностью своего дара, тогда он – неизбежно – философ. И наоборот: всякий великий философ – поэт. Так сплетаются ипостаси мыслителя и художника. Что же, какое же чудо пронзает, насквозь пробивает нам плотный защитный панцирь души, обнажает нас, ставя перед ликом торжественного Космоса?
Фёдор Иванович Тютчев сам есть Космос. Россия – счастливица: ей отныне и навеки дано держать великого Поэта на ладони; на руках, в руках, как держит младенца мать; глядя огромными озёрными, речными глазами на своё вечное сокровище, звёздно плача над поэтовой неоглядной, небесной судьбой. И шепчут губы Руси его строки: они наша русская Псалтырь, наши неохватные, алмазные, звёздные письмена.
Да, есть судьбы небесные и земные. И любовь есть – небесная и земная: как на знаменитой картине Тициана. Как этот нежный, в патриархальной дворянской семье рождённый мальчик, взращённый бывшим крепостным Николаем Афанасьевичем Хлоповым, вдруг ощутил в себе громадный, на полмира, Космос, звёздный вихрь чувств, музыки и слёз? Тогда ли, в тот день, когда они с воспитателем нашли в траве мёртвую голубку, и Фединька заплакал горько, неутешно, а потом голубку похоронил – и в слезах сидел за столом над листом бумаги, и капали с пера чернила, и лились слёзы, и, как слёзы, лились первые стихи?
Что такое стихотворенье? Краткий стих или мощный эпос? Как человек додумался складывать слова в песню, в молитву? Письмена явились позже, потом; сперва явился звук. Музыка. Внутри музыки таится вся мощь Космоса, довременное гуденье, сгущенье Большого Взрыва. А потом, когда в стороны, навстречу бесконечности, широко и радостно разлетаются звезды, галактики, туманности, кометы и планеты, музыку Бог высвобождает из оков, и она тоже летит – и поет вместе со всем освобождённым, приговоренным к жизни и смерти мiром.
***
…и начинается отсчет времени.
Время. Вот загадка. Вот та материя, с которой напрямую работает художник.
Фёдор Иванович с ним, с временем, тоже смело работал.
Он был с ним накоротке; но не фамильярничал; он понимал его неуклонность, его – для малого, бедного человека – могучую бесповоротность; он возлюбил его, ибо поэту Богом дано возлюбить время: под куполом Времени, во храме Времени поэт поёт о вечности, и не думает он о своём мессианстве, но твёрдо – кровью, сердцем, не умом! – знает: время – Космос; время – история; время – миф. Время – та мировая трансцендентность, о которую человек бьётся, как рыба об лёд, та волна, что исподволь, издали, из допотопного хаоса, катится к человеку, а потом внезапно, во весь рост, вырастает перед ним, и он, подхваченный волной, крича, плывёт, ещё плывёт, а потом – и тонет во времени.
Стихия! Разве с нею возможна борьба? Разве не лучше, не счастливее покориться ей?