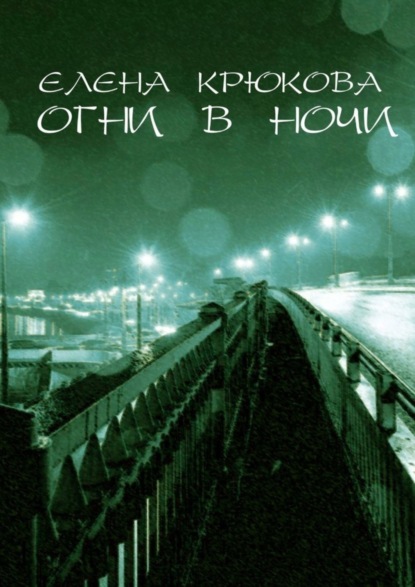По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огни в ночи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Овстуг. Опять Овстуг. Опять его лебеди – и в пруду, между лилий, и в небесной синеве. Нет, сини нынче нет, и рваные тучи несутся по небосводу, заволакивают пеленой солнце. А хочется света. И чтобы он, свет, выхватил изнутри, из довременной тьмы, тот Космос, что погиб, ушёл со смертью единственно любимой. Время! Ты перелистываешь нас, как страницы. И на какой из них записана твоя последняя дата? Время! Зачем мы тебя разлиновали, расчленили, втиснули в графы и реестры! МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС – исчислен, разделён и взвешен, так вещали письмена на стене той многолюдной дымной залы, где гудел и сверкал пир обреченного царя Валтасара. Что же оставит миру он, Фёдор Иванович Тютчев? Председатель Комитета цензуры иностранной? Государственные бумаги? Женские слёзные, отчаянные письма? На пиру какого жестокого – или милосердного – Царя он поднимет последнюю чашу?
Глаза не видят. Язык не молвит слово. Недвижность, вот что ждёт его. Кому диктовать статьи, кому бормотать стихи? Кому жаловаться на вспыхнувшую в Европе войну между немцами и французами, ужасаться ей, и без слёз, выжженной душою, оплакивать тех, кто лёг на поле брани? Всюду смерть. А небо? Где же небо? Где же Бог? Звёзды?
Он понимал: из собственной жизни, времени исторического, из собственной поэзии, времени сверхчувственного и тайного, он выходит в третье измерение – во время небесное, Божественное.
Вот он, его ночной Космос; на тёплой ладони земли, в виду родной усадьбы он лежит в поле, и небо над ним, и чего ещё желать?
Небо – в нём. Он – в небе. Всё соединилось. Всё сплелось.
Так просто. И так счастливо.
Как это у него в том молодом его стихотворении?.. ах, как точно всё он обозначил… пожалуй, лучше и не скажешь… вот об этом, об этом великом чувстве всеединства… о Космосе этом, о Боге, вся и всех соединяющем, всё примиряющем… Как давно он это сочинил! А ведь как просто…
Жизнь… тайна сия велика есть… да, как любовь…
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул…
Мотылька полёт незримый
Слышен в воздухе ночном…
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всём!..
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Всё залей и утиши —
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
Он закрывал глаза – и ночное небо обрушивалось на него всею радостью чистых звёзд: громадная звёздная люстра, она вращается, сияет, вспыхивают алмазы, горят золотые и медные плашки, тает под натиском могучего света адова чернота, умирает мрак, – а что же заступает место мрака? есть свет, есть только свет, белый лебедь, лучи весёлого солнца над Овстугом, и он, ребёнок, бежит по полю, раскинув руки, а потом, юноша, ложится на летнюю тёплую землю, на стерню, и глядит в небо, и улетает за взглядом, и вот уже летит, он уже лебедь, бессонный, странный, ширококрылый, в ночном небе летящий, он один такой, другого такого больше на земле не будет, летит между звёзд, и они родня ему, они его Родина, его благословенье, его искупленье, его прощенье, его упованье.
Смерть есть, от неё не уйти.
И смерти нет, пока он летит над Россией, над миром, белый лебедь, Фёдор Тютчев.
Летит между звёзд.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Апофатика русской Вселенной
Марианна Дударева:
апофатика русской культуры
как новое осмысление
культурной парадигмы
Сама жизнь апофатична. Непознаваема. Культура как составляющая жизни, а точнее сказать, её нравственный и образный концентрат, сгущение основного признака человеческой жизни – психизма, работы Духа, – апофатична тем более. Обращаясь к пространству мiрового христианского богословия (и Православного, и католического, и протестантского), мы можем довериться той простой мысли, что катафатическое богословие, восходящее от положений разума к существованию (сущности) Бога, к состоянию человека, предельно близко оказывающегося подле Божества и Божественного, – это богословие, этот вектор катафатики не противоречит богословию апофатическому. Феномен богословия, основанного на отрицании, говорит нам о непознаваемости Бога, а значит, и Мiра. Тютчевское «мысль изреченная есть ложь» – это не о лжи как о бытовом обмане, и даже не о так называемой «святой лжи»: это о невозможности, неспособности постигнуть Бога мыслью и претворить, перелить эту мысль в слово, в Логос. Хотя и тут парадокс – следуя Евангелию от Иоанна, мы вынуждены признать, что «Слово было Бог», и знак равенства тут торжественно ставится между Логосом и Теосом.
Разум – вполне определенное состояние Живого, тварного, сотворенного по образу и подобию Божию, и это состояние фиксирует, запечатлевает само себя посредством Логоса.
А апофатика? Чем тогда человек может принять, познать и понять Бога, если внутри апофатики он так или иначе отказывается от работы разума и обращается к материям трансцендентным – к неизреченности, безграничности, непостижимости?
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему…
А. С. Пушкин в стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный…» абсолютно чётко обозначил этот апофатический, непостижимый, необъяснимый объект: «одно виденье». Видение – непостижимо. Звёздное небо – необъяснимо. Жизнь и смерть – несказуемы. Эта частица-приставка «не-», это таинственное отрицание, отвечает сама за себя, обозначая негласное табу, территорию сакральности, границу которой не только нельзя переходить, запрещено перейти, но, в первую очередь, перейти НЕВОЗМОЖНО.
Писатель, филолог, фольклорист, танатолог, доктор культурологии, автор нескольких знаковых для современной русской культуры книг-исследований, Марианна Дударева совершила, на наш взгляд, серьезное философское открытие, впрямую применимое к новому познанию, рассмотрению и постижению сокровищ русской и мировой культуры в 21-м веке. Она первая стала исследовать апофатичность русской культуры, воплощенной в наиболее характерной и наиболее известной, знаменитой в мировых масштабах её ипостаси – в пространстве русской словесности.
Марианна Дударева, в своей книге «Танатологический дискурс русской словесности конца Нового времени. Введение в апофатику культуры», рассматривает конкретных авторов – русских писателей Нового и Новейшего времени, и конкретные литературные произведения как примеры русской культурной апофатики; таким образом, перед нами вырисовывается новая картина русского культурного Мiра, где все явления, вербальные и событийные, образные и интеллектуальные, не разложены по полочкам привычных классификаций и толкований (объяснений), а напротив, вписываются в общую гигантскую фреску Необъяснимого, в масштабное многофигурное изображение Великой Тайны, которая есть несказуемая тайна Бытия, тайна, связывающая воедино целый ряд бытийных архетипов.
Само существование этой тайны должно нас примирить с неизбежным земным страданием и заставить под иным углом, в ином ракурсе посмотреть на неотвратимость Смерти. Сама конечность жизни становится, в свете этой неведомой (и никогда и никем не разгаданной!) тайны, странным и прекрасным обещанием жизни в Мiре Ином; это Иномiрие, обладающее признаками и Рая, и Ада, где течёт и мёртвая, и живая вода, где по небесам плывёт дом-град-корабль Небесного Иерусалима, может приметами, штрихами, символами-знаками проникать в наш здешний и сиюминутный Мiръ, в Мiръ живых, и через сон, зеркало, видение, пророчество, через целое соцветие иных символик, намеков и указаний вести нас туда, куда, апофатически, никому из живущих на земле при жизни хода нет.
Марианна Дударева рассматривает ряд произведений русских писателей именно в таком апофатическом ключе, и перед нами вырисовывается новая, удивительная, вместе реальная и ирреальная картина русской литературы, где Время рифмуется со Смертью и вечностью, и в результате – с перманентным Рождением, с целым неохватным эоном Рождения-Ухода-Воскресения; мы понимаем, что русские писатели всегда, постоянно, лейтмотивно, судьбоносно обращались к тематике Смерти, чувство которой, прикосновение к которой дает героям романов, рассказов, повестей, стихотворений, поэм новое, обострённое, мистическое чувство жизни; и не просто жизни как торжества Биоса, апофеоза Природы, а жизни как необоримой и необъяснимой Божией силы. Это парадокс, да, спору нет, но русская литература, и Марианна Дударева превосходно показывает это, почти вся парадоксальна и апофатична.
Если принять во внимание, что Слово-Логос изначально Божественно, понятна его онтологическая апофатичность: хоть Логос – привычное нам сочетание звуков в греческом слове, обозначающем понятие, предмет, явление, чувство, – рождение Логоса в Мiре людей необъяснимо.
Хоть Бог послан человеку и человечеству как данность (верить в Бога или не верить – это уже вопрос человеческого выбора, который, кстати, человеку дает тоже Бог!..), его рождение необъяснимо, апофатично так же, как рождение (= сотворение) Мiра.
Если принять положение, что литература, созданная при помощи Божественного Логоса, во всех своих слоях, и описательно-бытовых, и космично-философских, и знаково-символических, обращается к идее Бога, к рассмотрению Его бытия в среде жизни человека, и художественным словом прикасается к проблемам рождения, жизни, смерти, бессмертия и возрождения (воскресения), то можно сказать, что тематика Смерти, танатологическая тематика, повсюду разлитая в русской литературе, во множестве её текстов, бесконечно точно и необъяснимо тонко уловленная и отраженная в исследовании Марианны Дударевой, разворачивает перед нами веер нового познания культуры – погружения в её апофатику.
Неизреченность Смерти порождает новое благоговение перед жизнью.
Здесь уместно вспомнить эту философскую, архетипическую формулу Альберта Швейцера.
Смерть становится единою с жизнью, а жизнь становится вечно повторяющейся, репризной ипостасью Смерти, вечно приходящей к каждому человеку и вечно уходящей вдаль с новым рождением человека на свет.
Рождение и смерть стоят не просто рядом – они являют собой единый, неразъёмно-цельный, мощный архетип. В произведениях Aлександра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Алексея Константиновича Толстого, Льва Николаевича Толстого, Фёдора Михайловича Достоевского, Антона Павловича Чехова, Ивана Алексеевича Бунина, Сергея Александровича Есенина и других русских писателей мы видим это необъяснимое, непознаваемое единство.
Марианна Дударева приоткрывает завесу молчания над апофатичностью крепчайших связей русского фольклора, русской и мировой мифологии, русской литературы.
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…
Апофатично само вступление к поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина; апофатичен сон Татьяны в пушкинском «Евгении Онегине»; апофатичны все проявления космизма, Божества в человеческой жизни; апофатична вся вертикаль русской литературы – от волшебной сказки («сказка ложь, да в ней намек…» – А. С. Пушкин, «Сказка о золотом петушке») до величайших человеческих трагедий, запечатленных Ф. М. Достоевским, величайших картин Мiроздания, воссозданных Л. Н. Толстым. Марианна Дударева рельефно и убедительно показывает, как через всю толщу сверхбогатой, изобилующей живописными подробностями реальности, великолепно изображаемой русскими писателями, мастерами Слова, проглядывает необъяснимый, апофатический, страшный и прекрасный лик Инобытия.
Конь несёт меня лихой!
А куда – не знаю…
Глаза не видят. Язык не молвит слово. Недвижность, вот что ждёт его. Кому диктовать статьи, кому бормотать стихи? Кому жаловаться на вспыхнувшую в Европе войну между немцами и французами, ужасаться ей, и без слёз, выжженной душою, оплакивать тех, кто лёг на поле брани? Всюду смерть. А небо? Где же небо? Где же Бог? Звёзды?
Он понимал: из собственной жизни, времени исторического, из собственной поэзии, времени сверхчувственного и тайного, он выходит в третье измерение – во время небесное, Божественное.
Вот он, его ночной Космос; на тёплой ладони земли, в виду родной усадьбы он лежит в поле, и небо над ним, и чего ещё желать?
Небо – в нём. Он – в небе. Всё соединилось. Всё сплелось.
Так просто. И так счастливо.
Как это у него в том молодом его стихотворении?.. ах, как точно всё он обозначил… пожалуй, лучше и не скажешь… вот об этом, об этом великом чувстве всеединства… о Космосе этом, о Боге, вся и всех соединяющем, всё примиряющем… Как давно он это сочинил! А ведь как просто…
Жизнь… тайна сия велика есть… да, как любовь…
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул…
Мотылька полёт незримый
Слышен в воздухе ночном…
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всём!..
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Всё залей и утиши —
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
Он закрывал глаза – и ночное небо обрушивалось на него всею радостью чистых звёзд: громадная звёздная люстра, она вращается, сияет, вспыхивают алмазы, горят золотые и медные плашки, тает под натиском могучего света адова чернота, умирает мрак, – а что же заступает место мрака? есть свет, есть только свет, белый лебедь, лучи весёлого солнца над Овстугом, и он, ребёнок, бежит по полю, раскинув руки, а потом, юноша, ложится на летнюю тёплую землю, на стерню, и глядит в небо, и улетает за взглядом, и вот уже летит, он уже лебедь, бессонный, странный, ширококрылый, в ночном небе летящий, он один такой, другого такого больше на земле не будет, летит между звёзд, и они родня ему, они его Родина, его благословенье, его искупленье, его прощенье, его упованье.
Смерть есть, от неё не уйти.
И смерти нет, пока он летит над Россией, над миром, белый лебедь, Фёдор Тютчев.
Летит между звёзд.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Апофатика русской Вселенной
Марианна Дударева:
апофатика русской культуры
как новое осмысление
культурной парадигмы
Сама жизнь апофатична. Непознаваема. Культура как составляющая жизни, а точнее сказать, её нравственный и образный концентрат, сгущение основного признака человеческой жизни – психизма, работы Духа, – апофатична тем более. Обращаясь к пространству мiрового христианского богословия (и Православного, и католического, и протестантского), мы можем довериться той простой мысли, что катафатическое богословие, восходящее от положений разума к существованию (сущности) Бога, к состоянию человека, предельно близко оказывающегося подле Божества и Божественного, – это богословие, этот вектор катафатики не противоречит богословию апофатическому. Феномен богословия, основанного на отрицании, говорит нам о непознаваемости Бога, а значит, и Мiра. Тютчевское «мысль изреченная есть ложь» – это не о лжи как о бытовом обмане, и даже не о так называемой «святой лжи»: это о невозможности, неспособности постигнуть Бога мыслью и претворить, перелить эту мысль в слово, в Логос. Хотя и тут парадокс – следуя Евангелию от Иоанна, мы вынуждены признать, что «Слово было Бог», и знак равенства тут торжественно ставится между Логосом и Теосом.
Разум – вполне определенное состояние Живого, тварного, сотворенного по образу и подобию Божию, и это состояние фиксирует, запечатлевает само себя посредством Логоса.
А апофатика? Чем тогда человек может принять, познать и понять Бога, если внутри апофатики он так или иначе отказывается от работы разума и обращается к материям трансцендентным – к неизреченности, безграничности, непостижимости?
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему…
А. С. Пушкин в стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный…» абсолютно чётко обозначил этот апофатический, непостижимый, необъяснимый объект: «одно виденье». Видение – непостижимо. Звёздное небо – необъяснимо. Жизнь и смерть – несказуемы. Эта частица-приставка «не-», это таинственное отрицание, отвечает сама за себя, обозначая негласное табу, территорию сакральности, границу которой не только нельзя переходить, запрещено перейти, но, в первую очередь, перейти НЕВОЗМОЖНО.
Писатель, филолог, фольклорист, танатолог, доктор культурологии, автор нескольких знаковых для современной русской культуры книг-исследований, Марианна Дударева совершила, на наш взгляд, серьезное философское открытие, впрямую применимое к новому познанию, рассмотрению и постижению сокровищ русской и мировой культуры в 21-м веке. Она первая стала исследовать апофатичность русской культуры, воплощенной в наиболее характерной и наиболее известной, знаменитой в мировых масштабах её ипостаси – в пространстве русской словесности.
Марианна Дударева, в своей книге «Танатологический дискурс русской словесности конца Нового времени. Введение в апофатику культуры», рассматривает конкретных авторов – русских писателей Нового и Новейшего времени, и конкретные литературные произведения как примеры русской культурной апофатики; таким образом, перед нами вырисовывается новая картина русского культурного Мiра, где все явления, вербальные и событийные, образные и интеллектуальные, не разложены по полочкам привычных классификаций и толкований (объяснений), а напротив, вписываются в общую гигантскую фреску Необъяснимого, в масштабное многофигурное изображение Великой Тайны, которая есть несказуемая тайна Бытия, тайна, связывающая воедино целый ряд бытийных архетипов.
Само существование этой тайны должно нас примирить с неизбежным земным страданием и заставить под иным углом, в ином ракурсе посмотреть на неотвратимость Смерти. Сама конечность жизни становится, в свете этой неведомой (и никогда и никем не разгаданной!) тайны, странным и прекрасным обещанием жизни в Мiре Ином; это Иномiрие, обладающее признаками и Рая, и Ада, где течёт и мёртвая, и живая вода, где по небесам плывёт дом-град-корабль Небесного Иерусалима, может приметами, штрихами, символами-знаками проникать в наш здешний и сиюминутный Мiръ, в Мiръ живых, и через сон, зеркало, видение, пророчество, через целое соцветие иных символик, намеков и указаний вести нас туда, куда, апофатически, никому из живущих на земле при жизни хода нет.
Марианна Дударева рассматривает ряд произведений русских писателей именно в таком апофатическом ключе, и перед нами вырисовывается новая, удивительная, вместе реальная и ирреальная картина русской литературы, где Время рифмуется со Смертью и вечностью, и в результате – с перманентным Рождением, с целым неохватным эоном Рождения-Ухода-Воскресения; мы понимаем, что русские писатели всегда, постоянно, лейтмотивно, судьбоносно обращались к тематике Смерти, чувство которой, прикосновение к которой дает героям романов, рассказов, повестей, стихотворений, поэм новое, обострённое, мистическое чувство жизни; и не просто жизни как торжества Биоса, апофеоза Природы, а жизни как необоримой и необъяснимой Божией силы. Это парадокс, да, спору нет, но русская литература, и Марианна Дударева превосходно показывает это, почти вся парадоксальна и апофатична.
Если принять во внимание, что Слово-Логос изначально Божественно, понятна его онтологическая апофатичность: хоть Логос – привычное нам сочетание звуков в греческом слове, обозначающем понятие, предмет, явление, чувство, – рождение Логоса в Мiре людей необъяснимо.
Хоть Бог послан человеку и человечеству как данность (верить в Бога или не верить – это уже вопрос человеческого выбора, который, кстати, человеку дает тоже Бог!..), его рождение необъяснимо, апофатично так же, как рождение (= сотворение) Мiра.
Если принять положение, что литература, созданная при помощи Божественного Логоса, во всех своих слоях, и описательно-бытовых, и космично-философских, и знаково-символических, обращается к идее Бога, к рассмотрению Его бытия в среде жизни человека, и художественным словом прикасается к проблемам рождения, жизни, смерти, бессмертия и возрождения (воскресения), то можно сказать, что тематика Смерти, танатологическая тематика, повсюду разлитая в русской литературе, во множестве её текстов, бесконечно точно и необъяснимо тонко уловленная и отраженная в исследовании Марианны Дударевой, разворачивает перед нами веер нового познания культуры – погружения в её апофатику.
Неизреченность Смерти порождает новое благоговение перед жизнью.
Здесь уместно вспомнить эту философскую, архетипическую формулу Альберта Швейцера.
Смерть становится единою с жизнью, а жизнь становится вечно повторяющейся, репризной ипостасью Смерти, вечно приходящей к каждому человеку и вечно уходящей вдаль с новым рождением человека на свет.
Рождение и смерть стоят не просто рядом – они являют собой единый, неразъёмно-цельный, мощный архетип. В произведениях Aлександра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Алексея Константиновича Толстого, Льва Николаевича Толстого, Фёдора Михайловича Достоевского, Антона Павловича Чехова, Ивана Алексеевича Бунина, Сергея Александровича Есенина и других русских писателей мы видим это необъяснимое, непознаваемое единство.
Марианна Дударева приоткрывает завесу молчания над апофатичностью крепчайших связей русского фольклора, русской и мировой мифологии, русской литературы.
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…
Апофатично само вступление к поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина; апофатичен сон Татьяны в пушкинском «Евгении Онегине»; апофатичны все проявления космизма, Божества в человеческой жизни; апофатична вся вертикаль русской литературы – от волшебной сказки («сказка ложь, да в ней намек…» – А. С. Пушкин, «Сказка о золотом петушке») до величайших человеческих трагедий, запечатленных Ф. М. Достоевским, величайших картин Мiроздания, воссозданных Л. Н. Толстым. Марианна Дударева рельефно и убедительно показывает, как через всю толщу сверхбогатой, изобилующей живописными подробностями реальности, великолепно изображаемой русскими писателями, мастерами Слова, проглядывает необъяснимый, апофатический, страшный и прекрасный лик Инобытия.
Конь несёт меня лихой!
А куда – не знаю…