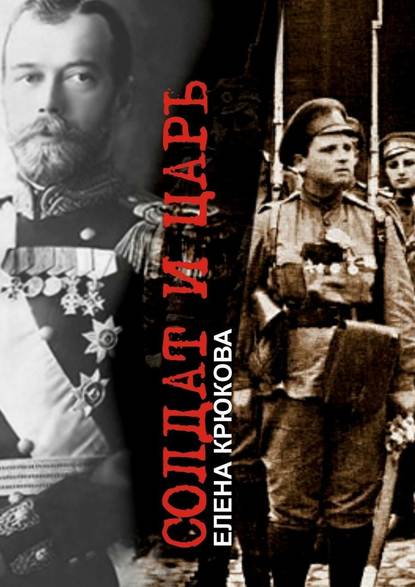По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Солдат и Царь. Два тома в одной книге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Михаил внезапно разозлился. И когда оно все закончится, каторга эта, цари? Устал. Надоело. Замучился. Да все они тут, все, тобольский караул…
– Все мы встали, дорогой… – Помедлил. – Товарищ Лямин.
Такие спокойные слова, и столько издевки.
Михаил чуть не загвоздил царю в скулу: рука так сильно зачесалась.
Был бы мужик напротив, красноармеец, – такой издевки б не спустил.
– Давай на завтрак! Все уж на столе! Стынет!
«Накармливай тут этих оглоедов. И раньше народу хребет грызли, и сейчас жрут. Нашу еду! Русскую! А сами, немчура треклятая!»
Уже беспощадно, бессмысленно матерился внутри, лишь губы небритые вздрагивали.
Царь посмотрел на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросил:
– А почему вы, товарищ Лямин, называете меня на «ты»?
Было видно, как трудно ему это говорить.
А Лямину – нечего ему было ответить.
…Когда в залу шли, гуськом, чинно, девицы в белых передничках – расслышал, как странно, тихо и глухо, на собачьем непонятном языке, переговариваются Романов с Романовой.
Потом – будто нехотя – по-русски забормотали.
– От Анэт письмо. Боричка жив, здоров.
– Какой Боричка? Теософ?
– Друга нашего друг.
– А, понял. Дай-то Бог ему. Да ведь он пулеметчиком?
– Все, к кому прикасалась рука Друга, священны.
– Знаю. Он жениться на Анэт не собрался?
– Нет. Лучше того. Он скоро будет здесь. У нас.
– Вот как. И зачем? Зачем нам революционер? Это чужак.
– Ты не понимаешь. Он родной. Деньги нам везет.
– Деньги? Какие?
– Анэт собрала. Но я ему не верю. Я боюсь.
– Чего ты боишься, душа моя?
– Всего. Возможно, Боричка ставленник Думы. А может, и Ленина.
– Пфф. Ленин – странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Он сгинет, упадет с балкона и разобьется. Я не держу его всерьез. Аликс, верь Анэт, она не подведет.
– Я… – Тут они оба перешагнули порог столовой залы, она чуть раньше. – Я верю только Другу. Он из-за гроба ведет нас.
Войдя в залу, замолкли. На столе стыла скудная еда: гречневая рассыпчатая каша, куски ситного без масла, жидкий чай в стаканах с подстаканниками.
Расселись. Девочки разгладили передники на коленях. Как ненавидел Михаил эту их вечную молитву перед трапезой!
Он и сам так молился все свое деревенское детство; почему его с души воротило, когда цари вставали вокруг стола и складывали руки, и читали про «хлеб наш насущный даждь нам днесь», – он не понимал. Рты им хотел позатыкать грязным полотенцем.
«Я схожу с ума, я спятил. Я кощунник! Или уж совсем в Бога не верую? Спокойней, Мишка, спокойней. Это ж всего лишь люди, Романовы им фамилия, и они читают обычную молитву перед вкушением пищи. Что разбушевался, рожа красная?»
В зеркале напротив, в черном пыльном стекле с него ростом, видел себя, рыжий клок волос надо лбом, гневной дурной кровью налитые щеки.
Помнил приказ: за семьей досматривать везде и всегда, поэтому не уходил из зала. Бегал глазами, щупал ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что под зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасиином носу, золотые, червонные пряди в темных косах Марии, гречишное разваренное зерно, как родинка, на верхней, еще безусой губе наследника. Желтую грязную луну медного маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку с кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ела, будто плакала.
Жевали молча. Отпивали из стаканов.
– Молочка бы. Холодненького, – тоскливо и голодно, тихо сказал наследник.
Царь дрогнул плечом под болотной гимнастеркой.
Мариин профиль тускло таял в свете раннего утра. По стеклам вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаил стоял у двери, и не выдержал. Отступил от притолоки, каблук ударился о плинтус. Шаг, вбок, еще шаг. Он двигался, как краб, чтобы встать удобнее и удобнее, исподтишка, рассматривать Марию.
Она почувствовала его взгляд и закраснелась щекой. Он ждал – она обернется. Не обернулась.
А жаль. «Поглядела бы, хоть чуток».
Тогда бы, смутно думал он, – а что тогда? Завязался бы узелок? Зачем? На что? Сто раз она глядела на него. Улыбалась ему. А все равно он для нее – стена. Бревно, полено, грязная лужа. И никакая улыбка не обманет.
А правда, кто тут кого обманывает?
…Словно яма распахнулась под ногами.
«Царь – нас обманывал. Ленин – нас обманывает? Охмуряет? Куда тянет за собой? Потонули в крови, а балакают о светлом будущем, о счастливом… где все счастьем – захлебнемся… Мы – красноармейцы – обманываем царей: ну, что охраняем их. Утешаем! Мол, не бойтесь! А что – не бойтесь-то?! Ведь все одно к яме ведет. К яме!»
И еще ударило, в бок, под дых: к яме ведут всех нас, идем – все мы.
«Так все одно все мы… там и будем… раньше ли, позже…»
Между бровей будто собралась тяжелая горючая тьма, величиной со спелую черную вишню. И давила, давила. А нас обманывают командиры, продолжал тяжело думать Лямин, да еще как надувают: отдают приказ, а мы и рады стараться; а они за спиной в это самое время…
Что – они за спиной, – он и сам бы не мог толком сказать; но понимал, что приказ – это для них, черных людей, а для господ большевиков – может, и не приказ вовсе.
Господа! Товарищи! Он еще вчера был царской армии солдат. И вот, вот ужас. Он – над своим царем – которому подчиняться должен, дрожа, от затылка до пят, от ресниц до мест срамных и потайных, – сейчас хозяин! Конвоир – уже хозяин. Ведет, сторожит, бдит, – а фигура на прицеле. На мушке. Не убежишь. Слюну без спросу не проглотишь.
– Все мы встали, дорогой… – Помедлил. – Товарищ Лямин.
Такие спокойные слова, и столько издевки.
Михаил чуть не загвоздил царю в скулу: рука так сильно зачесалась.
Был бы мужик напротив, красноармеец, – такой издевки б не спустил.
– Давай на завтрак! Все уж на столе! Стынет!
«Накармливай тут этих оглоедов. И раньше народу хребет грызли, и сейчас жрут. Нашу еду! Русскую! А сами, немчура треклятая!»
Уже беспощадно, бессмысленно матерился внутри, лишь губы небритые вздрагивали.
Царь посмотрел на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросил:
– А почему вы, товарищ Лямин, называете меня на «ты»?
Было видно, как трудно ему это говорить.
А Лямину – нечего ему было ответить.
…Когда в залу шли, гуськом, чинно, девицы в белых передничках – расслышал, как странно, тихо и глухо, на собачьем непонятном языке, переговариваются Романов с Романовой.
Потом – будто нехотя – по-русски забормотали.
– От Анэт письмо. Боричка жив, здоров.
– Какой Боричка? Теософ?
– Друга нашего друг.
– А, понял. Дай-то Бог ему. Да ведь он пулеметчиком?
– Все, к кому прикасалась рука Друга, священны.
– Знаю. Он жениться на Анэт не собрался?
– Нет. Лучше того. Он скоро будет здесь. У нас.
– Вот как. И зачем? Зачем нам революционер? Это чужак.
– Ты не понимаешь. Он родной. Деньги нам везет.
– Деньги? Какие?
– Анэт собрала. Но я ему не верю. Я боюсь.
– Чего ты боишься, душа моя?
– Всего. Возможно, Боричка ставленник Думы. А может, и Ленина.
– Пфф. Ленин – странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Он сгинет, упадет с балкона и разобьется. Я не держу его всерьез. Аликс, верь Анэт, она не подведет.
– Я… – Тут они оба перешагнули порог столовой залы, она чуть раньше. – Я верю только Другу. Он из-за гроба ведет нас.
Войдя в залу, замолкли. На столе стыла скудная еда: гречневая рассыпчатая каша, куски ситного без масла, жидкий чай в стаканах с подстаканниками.
Расселись. Девочки разгладили передники на коленях. Как ненавидел Михаил эту их вечную молитву перед трапезой!
Он и сам так молился все свое деревенское детство; почему его с души воротило, когда цари вставали вокруг стола и складывали руки, и читали про «хлеб наш насущный даждь нам днесь», – он не понимал. Рты им хотел позатыкать грязным полотенцем.
«Я схожу с ума, я спятил. Я кощунник! Или уж совсем в Бога не верую? Спокойней, Мишка, спокойней. Это ж всего лишь люди, Романовы им фамилия, и они читают обычную молитву перед вкушением пищи. Что разбушевался, рожа красная?»
В зеркале напротив, в черном пыльном стекле с него ростом, видел себя, рыжий клок волос надо лбом, гневной дурной кровью налитые щеки.
Помнил приказ: за семьей досматривать везде и всегда, поэтому не уходил из зала. Бегал глазами, щупал ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что под зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасиином носу, золотые, червонные пряди в темных косах Марии, гречишное разваренное зерно, как родинка, на верхней, еще безусой губе наследника. Желтую грязную луну медного маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку с кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ела, будто плакала.
Жевали молча. Отпивали из стаканов.
– Молочка бы. Холодненького, – тоскливо и голодно, тихо сказал наследник.
Царь дрогнул плечом под болотной гимнастеркой.
Мариин профиль тускло таял в свете раннего утра. По стеклам вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаил стоял у двери, и не выдержал. Отступил от притолоки, каблук ударился о плинтус. Шаг, вбок, еще шаг. Он двигался, как краб, чтобы встать удобнее и удобнее, исподтишка, рассматривать Марию.
Она почувствовала его взгляд и закраснелась щекой. Он ждал – она обернется. Не обернулась.
А жаль. «Поглядела бы, хоть чуток».
Тогда бы, смутно думал он, – а что тогда? Завязался бы узелок? Зачем? На что? Сто раз она глядела на него. Улыбалась ему. А все равно он для нее – стена. Бревно, полено, грязная лужа. И никакая улыбка не обманет.
А правда, кто тут кого обманывает?
…Словно яма распахнулась под ногами.
«Царь – нас обманывал. Ленин – нас обманывает? Охмуряет? Куда тянет за собой? Потонули в крови, а балакают о светлом будущем, о счастливом… где все счастьем – захлебнемся… Мы – красноармейцы – обманываем царей: ну, что охраняем их. Утешаем! Мол, не бойтесь! А что – не бойтесь-то?! Ведь все одно к яме ведет. К яме!»
И еще ударило, в бок, под дых: к яме ведут всех нас, идем – все мы.
«Так все одно все мы… там и будем… раньше ли, позже…»
Между бровей будто собралась тяжелая горючая тьма, величиной со спелую черную вишню. И давила, давила. А нас обманывают командиры, продолжал тяжело думать Лямин, да еще как надувают: отдают приказ, а мы и рады стараться; а они за спиной в это самое время…
Что – они за спиной, – он и сам бы не мог толком сказать; но понимал, что приказ – это для них, черных людей, а для господ большевиков – может, и не приказ вовсе.
Господа! Товарищи! Он еще вчера был царской армии солдат. И вот, вот ужас. Он – над своим царем – которому подчиняться должен, дрожа, от затылка до пят, от ресниц до мест срамных и потайных, – сейчас хозяин! Конвоир – уже хозяин. Ведет, сторожит, бдит, – а фигура на прицеле. На мушке. Не убежишь. Слюну без спросу не проглотишь.