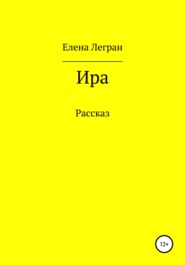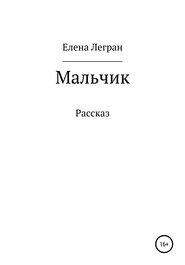По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Апостолы Революции. Книга вторая. Химеры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Твоя любовь к отечеству несомненна, – проговорил он, – иначе ты не был бы сейчас среди нас. Но я вижу, что ошибся, определив тебя в Бюро полиции. Здесь ты не можешь послужить Франции. Уверен, в армии твое рвение найдет лучшее применение. Я займусь твоим переводом сегодня же.
Смельчак опустил голову. Лежен, бледный от негодования, которое не в силах был сдержать, но и не находил в себе силы выпустить на свободу перед этими людьми, молчаливыми и робеющими или решительными и ревностными, сжал кулаки. Он должен что-то сделать, должен вступиться за смелого юношу или хотя бы отомстить за него!
– Ты не ответил на вопрос, Сен-Жюст, – его тихий, но твердый голос прозвучал непривычно громко среди тишины зала.
Сен-Жюст медленно повернул к нему голову, взглянул так, как смотрят на расшалившегося ребенка – строго, но снисходительно, и проговорил устало:
– Мой ответ прост, Лежен: досье, оказавшееся в Бюро полиции, не может касаться невиновного.
– То есть ты заранее обязуешь нас выносить смертные приговоры? – робко спросил еще один служащий, некрасивый, тощий человечек, со следами оспы на вытянутом лице. – Кто мы такие, чтобы брать на себя столь тяжкий груз? По какому праву ты наделяешь нас властью над жизнью и смертью?
– По праву, данному мне революционным правительством, которое одно смогло предотвратить катастрофу, на грани которой стояла республика меньше года назад, – отрезал Сен-Жюст. – Вы здесь не для того, чтобы заниматься благодеяниями, а чтобы защищать республику от гадины, жаждущей ее погибели.
– Почему бы нам не готовить более детальные отчеты по каждому делу? – раздался голос из дальнего угла. Лежен с интересом взглянул в сторону говорившего. – А ты на их основании будешь выносить решение. Это потребует от нас больше работы и времени, но зато вероятность совершить несправедливость уменьшится.
– А потому, Потье, – снисходительно ответил Сен-Жюст, ничуть не разозлившись, как ожидал Огюстен, – что читать ваши доклады и от меня потребует больше времени, а времени у меня как раз и нет. И у вас не будет, – пообещал он. – Похоже, вы не совсем представляете себе количество досье, с которым нам придется работать. Тысячи, десятки тысяч. Я достаточно ясно ответил на ваши вопросы? – он почему-то обернулся именно к Лежену. – Мы можем продолжать? Или кто-то еще желает выступить в защиту врагов народа?
Молчание было ответом на его вызов.
– Хорошо, – удовлетворенно проговорил Сен-Жюст. – Если общее направление ясно, займемся деталями.
«Деталями» они занимались до часу ночи, пока Лежен, освоившись с ролью начальника, не заявил, что время позднее и всем им необходим отдых.
– Добро пожаловать в Тюильри, Огюстен, – проговорил, спускаясь по лестнице, Сен-Жюст и взглянул на друга, потиравшего воспаленные от усталости глаза. – Тут ты без дела не останешься.
– И ты еще сетовал, что не продержишься допоздна после бессонной ночи! – покачал головой Лежен.
– Дело тренировки, друг мой. Привыкнешь. Здесь мы простимся, – Сен-Жюст остановился на площадке, ведущей в Зеленую комнату. – Я зайду в Комитет. Там и подкреплюсь заодно: Бийо, наверняка, послал за провизией в преддверии долгой ночи. Кстати, не стесняйся делать то же самое. Все текущие расходы оплачивает Комитет спасения. Завтра займемся твоим жалованьем.
На том они и расстались.
28 жерминаля II года республики (17 апреля 1794 г.)
Он заставил ее, заставил грубо, требовательно, применяя угрозы, напоминая о данной клятве, поймав в ловушку ее чувств и слов. Элеонора не хотела подчиняться, сперва умоляла, потом грозила и, наконец, призвав на помощь здравый смысл, убеждала. Но он победил. Его аргументы были сильнее, выкрики громче, слова выразительнее, ласки желаннее. И она сдалась. Сдалась настолько полно, что сейчас шла на улицу Комартен, будучи почти уверенной в том, что так и следовало поступить, что именно в этом было их спасение. Их? Разве дела Лузиньяка когда-либо касались ее? Разве сам он не заверял при каждой встрече, что не желает подвергать ее опасности и потому не посвящает в свои секреты? А вчера вдруг заявил, что этот камень, этот сверкающий всеми цветами радуги бриллиант размером с ноготь большого пальца – надежный гарант их безопасности, оружие против любого самого страшного обвинения, какое только может быть выдвинуто против одного из них. Вопрос Элеоноры, кто и в чем именно может их обвинить, утонул в новой тираде о козырной карте, которая окажется в их руках, как только камень будет спрятан в квартире Сен-Жюста. «Особняк Обер, улица Комартен», – уточнил Лузиньяк. Он хорошо подготовился: обзавелся новым адресом Сен-Жюста и до мельчайших деталей пересказал ей распорядок дня члена Комитета общественного спасения. «В шестом часу, можешь быть уверена, риск застать Сен-Жюста дома минимален», – заключил он. Но и после этого она сопротивлялась, говорила, что готова сделать для него все, что угодно, только не это, напоминала об опасности, о невозможности, о бесполезности затеи. «Ты поклялась, – отрезал он. – Помнишь? Когда просила прощения за предательство». Она помнила – и подчинилась.
В начале шестого вечера Элеонора подошла к особняку Обер. В отличие от скромного отеля «Соединенные Штаты», ворота которого были почти всегда открыты, массивные двери, ведущие во двор роскошного дома, некогда известного всему Парижу как обиталище знаменитого оратора Учредительного собрания графа Мирабо, были заперты. Она перехватила в левую руку небольшую корзинку, где среди свежего хлеба, сыра и колбасы, которыми она надеялась подкупить прислугу, покоился в маленьком кожаном мешочке бриллиант, призванный стать ее ангелом-хранителем (кажется, именно так выразился Лузиньяк, покидая утром ее особняк на острове Сен-Луи), и с силой трижды ударила по воротам круглой ручкой в виде цветочной гирлянды.
Топот грубых башмаков во дворе раздался почти незамедлительно. Перед ней возникло улыбающееся лицо того самого паренька, которого она уже видела за работой в отеле «Соединенные Штаты». Как же его звали? Впрочем, не он интересовал Элеонору. Если он здесь, значит и строгая девушка, его сестра, тоже. Вот прекрасная новость!
– Я пришла к гражданину Сен-Жюсту, – негромко проговорила Элеонора, чуть подавшись вперед.
– Его нет, приходи завтра утром.
Парень готов был уже толкнуть ворота, когда она призвала на помощь свою самую нежную улыбку и проговорила тоном заговорщицы:
– Он просил меня прийти сегодня. Сказал, что я должна подождать, если не застану его.
– Странно, – лицо парня приняло озабоченное выражение. – Он бы предупредил Виолетту…
Ах да, Виолетта, вот как зовут его сестру.
– Возможно, что и предупредил, – подсказала Элеонора и решительно шагнула вперед. – Пойду спрошу у нее.
Она огляделась. Двор был просторным и грязным. Слева от входа стояла на привязи пара лошадей. Запах их помета ударил в чувствительные ноздри гражданки Плесси. Она поспешно отвернулась и спросила у Жана:
– Так где я могу найти Виолетту?
– Мы занимаем две комнаты на первом этаже, вход прямо под лестницей, – махнул он рукой. – Я пойду спрошу…
– Нет-нет, – поспешно откликнулась Элеонора и даже позволила себе схватить его за руку. – Я сама, – и добавила, мягко улыбнувшись и отняв руку: – Спасибо, юноша.
– Постой! – закричал Жан, пристально вглядываясь в красивое почти идеальной красотой – той, что не позволяет ни одного изъяна – лицо. – Я знаю тебя! Ты уже приходила к гражданину Сен-Жюсту и разговаривала с Виолеттой.
– Все верно, – подтвердила Элеонора. – И вот пришла снова.
Жан понимающе кивнул и принял серьезно-благожелательный вид, признав в ней соратницу и единомышленницу.
Первая преграда успешно преодолена, похвалила она себя, входя в особняк и заглядывая под широкую мраморную лестницу, ведущую на верхние этажи, к жильцам. Действительно, за ней скрывалась небольшая дверца, поддавшаяся при первом же легком прикосновении. Элеонора оказалась в тесной прихожей, откуда расходились две небольшие комнаты. Из одной из них раздавалось тихое шуршание. В нее-то и вошла посетительница – да так и замерла на пороге.
Перед мольбертом вполоборота к ней стояла Виолетта в заляпанном разноцеветными мелками переднике. Справа от нее разместилась коробка с пастелью. Поглощенная работой, девушка не почувствовала постороннего присутствия. Ее правая рука медленно скользила по полотну, выводя невидимые гостье линии. Взгляд Виолетты был прикован к картине, губы слегка приоткрыты в счастливой улыбке. Точно такое же выражение Элеонора видела на искаженном увечьем лице великого Давида, когда он, захваченный творением, не замечал ничего вокруг и, казалось, пребывал в иных сферах, недоступных простым смертным. Элеонора перестала дышать, завороженная зрелищем: перед ней была художница. Она боялась пошевелиться, боялась тронуться с места, ибо малейшее движение могло разбить представшее ей видение.
Виолетта оторвала глаза от мольберта, заметила Элеонору и покраснела. Та ободряюще улыбнулась: мол, меня тебе нечего опасаться.
– Позволишь взглянуть? – осторожно спросила она.
Виолетта вытерла руки о передник и отступила на шаг, приглашая гостью занять место перед мольбертом. Элеонора, все с той же приветливой улыбкой, не отрывая глаз от юной художницы, подошла к картине. Но стоило ей повернуться к мольберту, как улыбка соскользнула с ее губ. С полотна, выписанные неуверенными, но правильными линиями, смотрели холодные серые глаза в обрамлении черных слегка вьющихся волос, спадавших на плечи. Прямая линия носа, точно такая же, как у оригинала, и еще только начинавшие выписываться губы, – это были, несомненно, его черты. Сен-Жюст, смотревший на нее с неоконченного портрета, выглядел старше того Сен-Жюста, что жил двумя этажами выше, но сходство с оригиналом было несомненно. Элеонора стояла у недописанной картины неприлично долго, не в силах оторвать глаз от этого пока еще эфемерного, но такого живого лица, созданного любящей рукой молоденькой девушки, которая – одному Богу известно, каким образом – смогла передать пренебрежительное высокомерие в мягких, даже нежных чертах молодого человека, пусть и несколько состаренного ее неопытной рукой. Виолетта молча косилась на гостью, будто старалась угадать ее мысли.
– Портрет прекрасен, – наконец, проговорила Элеонора, почему-то шепотом.
– В самом деле? – облегченно выдохнула художница. – Он не закончен, и я не знаю, смогу ли…
– У тебя дар, – перебила ее Элеонора, полностью отдавшись собственным мыслям и не слушая Виолетту, – настоящий дар. Откуда?
Она обращалась, скорее, к самой себе, но Виолетта сочла нужным объяснить:
– Мой отец неплохо рисовал. Он научил меня смешивать краски, объяснил пропорции, перспективу, а дальше… – она сделала неопределенный жест рукой.
– А дальше, – с улыбкой договорила Элеонора, – талант завершил дело. Ты могла бы зарабатывать этим, вместо того чтобы… – она спохватилась, боясь показаться бестактной и оскорбить девушку, но Виолетта совсем не обиделась.
– Э-э, не-ет, – покачала она головой, – пример отца, умершего в нищете, многому научил меня. Я должна была работать с ранних лет, иначе мы не выжили бы. Все это глупости, гражданка, – она небрежно махнула рукой в сторону картины. – Этим, – в ее тоне Элеонора уловила презрение, – не проживешь, если у тебя нет влиятельного учителя и ты не вышел из привилегированных.
– С привилегиями покончено, Виолетта, – возразила Элеонора. – Революция с ними покончила.
Но девушка лишь с сомнением покачала головой.
– Послушай, я знаю очень известного… – начала Элеонора и запнулась.
Что за безумие! Разве может простолюдинка, в виде которой она явилась в особняк Обер и в качестве которой разговаривала сейчас со служанкой, знать знаменитого Давида?! Замолчи, приказала себе Элеонора, не сейчас, потом, когда все это закончится.