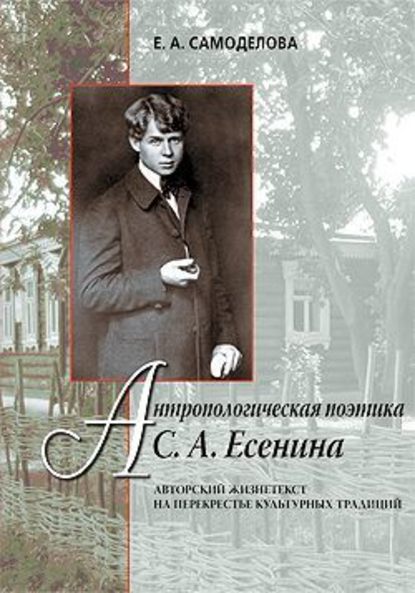По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Антропологическая поэтика С. А. Есенина: Авторский жизнетекст на перекрестье культурных традиций
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это не единственная библейская аллюзия у Есенина при изображении пастуха. До сих пор филологи недоумевают, к какому прототипу следует отнести образ Иовулла (Иогулла – в 1-й редакции) из фразы: «Без всякого Иовулла и Вейнемейнена наш народ через простой лик безымянного пастуха открыл две скрытых силы воздуха вместе» (V, 190 – «Ключи Марии», 1918). Затруднение вызвано тремя моментами: 1) сомнением Есенина в правильности написания имени и потому варьированием его; 2) упоминанием этого загадочного персонажа в паре с богом Вейнемейненом из финского эпоса «Калевала»; 3) восхождением всего фрагмента про срезанную пастухом тростинку-дудочку на могиле убитой сестрами девушки из русской волшебной сказки к статье «Эпическая поэзия» Ф. И. Буслаева. Указанные причины направляли мысль исследователей по пути сопоставления есенинского Иовулла с фольклорными мифически-эпическими персонажами и способствовали выдвижению следующих гипотез: 1) Беовульф из англосаксонского эпоса (предположение уже опровергнуто); 2) Иокуль – противник заглавного героя из «Саги о Финнбоге Сильном»; 3) Один (по прозвищу Iolnir или Iolfadir) – верховный бог из «Эдды» (см. комм.: V, 464).
По нашему мнению, есенинский персонаж Иовулл (Иогулл) восходит к библейскому персонажу: «Имя его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели» (Быт. 4: 21). В пользу нашего предположения говорят следующие обстоятельства: 1) упоминание Иовулла не только в паре с Вейнемейненом, но и в более широком контексте – с библейским пророком Амосом, тоже пастухом и, следуя вероятному умозаключению Есенина, первым музыкантом; 2) на протяжении всего текста «Ключей Марии» поэт обращался в равной мере к персонажам Библии, древнеегипетской и античной мифологии, средневекового западноевропейского и древнерусского эпоса и т. п.; в частности, многократно и с помощью разнородных многочисленных примеров проводил общую идею о происхождении музыки из пастушеского инструмента божественного персонажа-пастыря.
Во многих произведениях Есенина вычленяется и развивается пастушеская тематика библейской истории, особенно ясно в духе раннего христианства проступающая в стихах: «И мыслил и читал я // По библии ветров, // И пас со мной Исайя // Моих златых коров» (I, 121 – «О пашни, пашни, пашни…», 1917) и «С дудкой пастушеской в ивах // Бродит апостол Андрей» (II, 59 – «Иорданская голубица», 1918). Менее явно выражена библейская символика в вопрошении «Пастухи пустыни – // Что мы знаем?» (IV, 175 – «Сельский часослов», 1918), однако она следует из общего контекстуального пласта священной истории, заложенного в смысловое основание есенинской «маленькой поэмы».
Пример пастушеской тематики из шумеро-аккадской мифологии в «Ключах Марии» (1918): «…на пастбищах туч Оаннес пас быка-солнце…» (V, 197).
Отголоски древнего «атмосферного мифа» (по терминологии любимого поэтом ученого-мифолога XIX века А. Н. Афанасьева) по воле стихотворца будто бы превратились в поэтические осколки мифической космической истории. Они заметны во многих есенинских пастушеских образах и мотивах, словно перенесенных с небес на землю, являющихся отражением Вселенской гармонии в изначальные времена. Тематикой сельского пастушества с его космически-мифическими первоистоками проникнуто и живописание современности: «Я пастух, мои палаты…» (I, 52 – 1914), «Пастух играет песню на рожке» (I, 92 – «Табун», 1915); «Блажен, кто радостью отметил // Твою пастушескую грусть» (I, 128 – «О, верю, верю, счастье есть!..», 1917); «Там стада стерег пастух» (I, 117 – «Где ты, где ты, отчий дом…», 1917); «Здесь слезы лил пастух» (I, 123 – «Зеленая прическа…», 1918) и др.
Образ пастуха типичен для фольклорных песен разных жанров, бытовавших на Рязанщине при Есенине. Иногда это народные необрядовые песни литературного происхождения – например, приуроченная к завиванию девушками венков на Троицу:
Шла ли Машенька из лесочка,
Д’ня-нясла
Маша э ой да два веночка… <…>
Д’ пастушка к себе звала. —
Ты пастух ли, пастушочек,
Пастух, верный мой дружочек,
Не спокинь, пастух, меня.[673 - Записи автора. Тетр. 11. № 59 – хор. д. Инкино Касимовского р-на. Зап. Н. В. Рыбакова, Е. Г. Богина, Ф. В. Строганов и Е. А. Самоделова 15.07.1992.]
Атрибуты пастуха увлеченный этим поэтическим образом и типом отважного мужчины Есенин видит везде – на земном лугу и даже на небесном: «И пляшет сумрак в галочьей тревоге, // Согнув луну в пастушеский рожок» (I, 80 – «Голубень», 1916); «И вызвездило небо // Пастушеский рожок» (I, 109 – «О Русь, взмахни крылами…», 1917). Можно полагать пастушескую символику характерной для творчества поэта и проходящей «сквозной линией » через сочинения Есенина, особенно в 1914–1918 гг.
Из устного высказывания Есенина, записанного Л. М. Клейнбортом, известно представление поэта о пастушеском рожке как типичном поэтическом инструменте (вопреки классическому представлению о лире, возникшем в античности): «Кольцова уж очень подсушил Белинский, – сказал он неожиданно. – Попортил-таки ему его рожок».[674 - Клейнборт Л. Н. «В стихах его была Русь…» // Кузнецов В. И. Тайна гибели Есенина. С. 261.]
Мальчишеские игры и драки как подготовка к взрослой жизни
Освоение окружающего мира и установление деловых отношений с людьми в детстве велось посредством участия в мальчишеских играх и затеях. Самые значимые для Есенина сведения о детских играх указаны им самим в одинаковом ключе в нескольких автобиографических произведениях. Так, в автобиографии «Сергей Есенин» (Берлин, 1922) поэт писал об участии в азартной игре: «…а на другие две копейки шел на кладбище играть с ребятами в свинчатку» (VII (1), 9). В «Автобиографии» (1923) игра названа иначе: «…2 коп. клал в карман и шел играть на кладбище к мальчишкам, играть в бабки» (VII (1), 11). детские игровые забавы являются подготовительной ступенью к ритуальным играм молодых мужчин; все они носят состязательный характер и в неявной форме выражают идею доминирования в мужской среде. В мальчишеских драках вырабатываются стереотипы активности, преподнесения мужского достоинства с позиции силы, задаются волевые установки, распределяются важные ролевые начала.
В воспоминаниях К. П. Воронцова сохранились сведения о любимых забавах и играх, в которые в детстве играл Есенин, как и все сельские мальчики: «Помню, как однажды он зашел с ребятами и начал приплясывать, приговаривая: “Тина-мясина, тина-мясина”. Чуть не потонули в ней. Любимые игры его были шашки, кулючки (хоронички), городки, клюшки (котлы)».[675 - Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников. С. 49.] Далее К. П. Воронцов продолжил: «Вечерами иногда мы игрывали в карты, в “козла”. Эту игру он любил больше, чем другие картежные игры».[676 - Там же.] Н. А. Сардановский назвал те же азартные игры: «Много времени проходило в играх: лото, крокет, карты (в “козла”)».[677 - Там же. С. 51.]
Подвижные игры на свежем воздухе у сельских мальчишек зачастую заменялись шалостями и проказами. Есенин в «Автобиографии» (1924) отмечал: «Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам» (VII (1), 14).
Подготовка к ратному делу осуществлялась через установленные обычаем кулачные бои и спонтанные драки. Односельчанин и друг К. П. Воронцов считал Есенина заводилой: «Он верховодил среди ребятишек и в неурочное время. Без него ни одна драка не обойдется, хотя и ему попадало, но и от него вдвое».[678 - Там же. С. 49.]
Уже перебравшись на жительство в город, Есенин вспоминал кулачные бои в с. Константиново и говорил мечтательно Льву Клейнборту: «У нас теперь играют в орлянку, поют песни, бьются на кулачки».[679 - Клейнборт Л. Н. Указ. соч. С. 253 (курсив наш. – Е. С.).]
Стремление завязать потасовку, драчливость рассматривались крестьянами как необходимый этап взросления мальчика. По наблюдению помещицы О. П. Семеновой-Тян-Шанской, сделанному на юге Рязанщины (д. Мураевня Данковского у. и окрестности): «…“атаманить” – значит буянить, затевать какие-нибудь проказы, руководить ими. <…> Драться с другими детьми тоже начал, как только стал на ноги. К этому его тоже поощряли, особенно если он одолевал другого младенца».[680 - Семенова-Тян-Шанская О. П. Указ. соч. С. 18.]
Соответственно, как всех крестьянских мальчиков, Есенина еще до школы «дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: “Ты у меня, дура, его не трожь! Он так будет крепче”» (VII (1), 8), – писал поэт в автобиографии «Сергей Есенин» (Берлин, 1922). В «Автобиографии» (1923) сообщается об этом же способе воспитания по-мужски: «Дед иногда сам заставлял драться, чтобы крепче был», и о достигнутых воспитательных успехах – «Рос озорным и непослушным, был драчун» (VII (1), 11).
В стихотворении элегического настроения «Я снова здесь, в семье родной…» (1916), вспоминая об играх прошедшей юности, лирический герой восклицает в пушкинском тоне, применяя лексику «высокого стиля»: «О други игрищ и забав» (I, 70).
В повести «Яр» (1916) Есенин с основательным знанием «кулачных правил» ведения боя и бойцовского беспредела, колоритно описал сельскую драку, доходящую до смертоубийства и сопровождаемую похоронными причитаниями:
Какой-то мужик с колом бегал за сотским и старался ударить ему в голову. // Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воронок, кровь. // Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа. // Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку. // «Бей живореза!» – кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам. // Упал и почуял, как на грудь надавились тяжелые костяные колени. // Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежачему обухом около шеи. // Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос позырился красно-черной пеной… // «Эх, Аксютка, Аксютка, – стирал кулаком слезу старый пономарь, – подломили твою бедную головушку!..» (V, 57).
Пускание в ход кулаков крестьянами, устраивание битвы деревни на деревню при выяснении отношений отразил Есенин: «То радовцев бьют криушане, // То радовцы бьют криушан» (III, 165 – «Анна Снегина», 1925).
Современники находили истоки литературной игры Есенина в особенностях его крестьянского детства. Умение вести детскую игру, затевать ее и самозабвенно участвовать в мальчишеских забавах, подготавливало к осознанию литературы как эстетической игры для взрослых. По мнению Георгия Чулкова, старшего современника Есенина, «искусство – игра, но игра священная, и мы не можем провести раздельной черты между переживанием эстетическим и переживанием религиозным».[681 - Чулков Г. И. Сочинения. Т. 5. Статьи 1905–1911 гг. СПб., 1912. С. 78–79 (разрядка автора, курсив наш. – Е. С.).]
Критики, прослеживая творческий путь Есенина, также подмечали склонность поэта к литературной игре, к выстраиванию творческой биографии в нарочитой игровой форме. А. К. Воронский в статье «Сергей Есенин. Литературный портрет» (1924–1925) предупреждал об опасности превращения поэтической игры в заигрывание с публикой: «Наше время в шутки играть не любит и не прощает игры с собой».[682 - О Есенине. С. 92.] В статье-некрологе «Об отошедшем» (1926) тот же критик делал вывод о невольном или осознанном выстраивании Есениным двуипостасного собственного облика, отвечающего всем параметрам образа двойника – бога и черта в одном лице. Так это было в древнем понимании единого божества – защищающего и карающего, грозного и ласкового, доброго и злого. А. К. Воронский писал о разбойничьем начале в Есенине, связанном с его стремлением превратить собственную жизнь в игру. Критик характеризовал: «…городской гуляка, забияка, скандалист и озорник, безрассудный мот и больной человек, менявший позы, нарочито подчеркивавший и заострявший свои противоречия, обнажавший их напоказ, игравший ими для “авантюристических целей в сюжете”».[683 - Там же. С. 102.] А. Б. Мариенгоф утверждал:
В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа Политехнического музея, Колонного зала, литературных кафе и клубов. <…> Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя «хулиганом» в поэзии и в жизни.[684 - Мариенгоф А. Б. Роман без вранья. С. 343.]
«Инициационные обряды». Разбойник как притягательный и устрашающий мужской тип
Об инициации, то есть о «посвятительном обряде», практиковавшемся старшими учениками по отношению к новичкам во Второклассной учительской школе в с. Спас-Клепики, сообщал А. Н. Чернов: «С дневного солнечного света в широком коридоре показалось темновато. Мне указали на комнату, в которой буду жить, и я направился прямо к серой двери. Неожиданно что-то темное накрыло меня сверху, и я почувствовал, как со всех сторон на меня посыпались кулачные удары. Я не знал, что так встречали всех новичков. А ударяли сильно».[685 - Чернов А. Н. Тех лет воспоминания. Цит. по: Чистяков Н. Королева у плетня. С. 87 (Это переработанный вариант – см. также: Новая Мещера, 1965, 5 августа).] Есенин также пострадал от кулачного обычая: «Действительно, через несколько минут вошел в комнату побитый парнишка. Он подошел к кровати и лег ничком. “Сейчас заплачет”, – подумал я. Прошла минута, другая, третья – с соседней кровати не доносилось ни звука. “Видно, крепкий”».[686 - Там же.] По сведениям А. Н. Чернова, Есенин затем ликвидировал бурсацкий обычай: «И никто впоследствии не смел обижать не только нас, но и всех, кто приходил в школу вновь. Побаивались отчаянного Сережку».[687 - Там же.]
Эту же оценку физической выносливости Есенина и его умения драться повторил Г. Л. Черняев: «Умел постоять за себя перед своими сверстниками».[688 - Черняев Г. Л. Он любил русскую природу. Цит. по: Чистяков Н. Королева у плетня. С. 90 (Перепечатка из газеты: Новая Мещера, 1960, 2 октября).] О драчливой обстановке, царившей в Спас-Клепиковской школе, доходили слухи до Константинова. Мать Т. Ф. Есенина советовалась: «Как быть, кума? Очень дерутся там в школе-то, ведь изуродуют, чем попало дерутся», – и получала рекомендацию: «Пусть, кума, потерпит, а тут что? Сама съездий, – говорила Марфуша».[689 - В родном селе (Из воспоминаний сестер поэта) // На родине Есенина / Сост. Е. А. и А. А. Есенины, Ю. Л. Прокушев. М., 1969. С. 24.] Другу юности Г. А. Панфилову в письме из с. Константиново в июне 1911 г. Есенин сообщал о «боевой» обстановке в Спас-Клепиковской школе: «Я поспешил скорее убраться из этого ада, потому что я боялся за свою башку» (VI, 7).
Из воспоминаний А. Н. Чернова, однокашника Есенина по Спас-Клепиковской второклассной учительской школе, следует, что устраивание «темной» новичкам являлось традицией, которая аналогична описанной в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского. Н. Шарапов вспоминал о знании Есениным творчества Н. Г. Помяловского и об интересе поэта в связи с «бурсацкой тематикой» к советскому студенчеству: «Есенин живо интересовался жизнью студентов и сожалел, что она не нашла отражения в советской литературе, да и до революции не получила развития. Указывал, что художественных произведений об учащейся молодежи не было и нет, если не считать повести Гарина-Михайловского в его трилогии “Детство Темы”, “Гимназисты”, “Студенты”, да еще “Очерков бурсы” Помяловского».[690 - Шарапов Н. Мои встречи с Есениным // Есенин и современность. М., 1975. С. 390–391.]
Позже Есенин в «Поэме о 36» (1924) отразит «кулачную» как необходимый элемент взросления будущего мужчины, причем ввернув его в героико-революционный контекст истории о политкаторжанах:
Ведь каждый мальчишкой
Рос.
Каждому били
Нос
В кулачной на все
«Сорты» (III, 146).
Драка как «посвятительный ритуал» при проводах в армию и вообще как признак молодечества проступает основным мотивом в письме Есенина к А. А. Добровольскому 11 мая 1915 г. из с. Константиново:
Оттрепал бы я тебя за вихры, да не достанешь. <…> На днях меня побили здорово. Голову чуть не прошибли. Сложил я, знаешь, на старосту прибаску охальную, да один ночью шел и гузынил ее. Сгребли меня сотские и ну волочить. Всё равно и я их всех поймаю. Ливенку мою расшибли. Ну, теперь держись. Рекрута все за меня, а мужики нас боятся. <…> За всех нас дадут по полушке, только б не ходили и не дрались, как телушки (VI, 69–70).
Из описания драки видно, что Есенин был заядлым охотником до драчливых действий и действительным знатоком битвы на кулаках.
«Идеологической праосновой» ввязывания в драки, участия в «кулачках», устраивания «тёмных» являлись разножанровые фольклорные тексты, бытовавшие на Рязанщине, часто входившие в мужской репертуар и с детства окружавшие Есенина. Известна народная песня: «Не в тех лесах дремучих // Разбойнички живуть. <…> В своих руках могучих // Товарища несуть. <…> Носилки не простые – // Из ружьев сложены. <…> Поперёк стальныя // Мяча положены» – о сраженном молодом Чуркине «с разбитой головой».[691 - Записи автора. Тетр. 6 № 57 – Абысова Марфа Андреевна, 1908 г. р., с. Лопатино Скопинского р-на, 07.07.1989.]
Что касается названия есенинских стихотворений «Разбойник» и «Песня старика разбойника», то представители этого шаловливого образа жизни действительно совершали набеги на родное село поэта. Так, житель с. Константиново сообщил о неоднократных разбойничьих нападениях на своего деда: «И он в Рязань ездил и занялся торговлей. <…> Он, значить, через Путино через это напрямую, да, напрямую и боялся тоже: купил, чтоб туда-сюда. А тут были Мрзовы такие, с этого, с Селец, Федякинские жулики. Они – говорить – говорять: “Что ты замки каждый раз меняешь? Не меняй ты замки, замкни вон на проволочку или чего прочее!” А они наезжали, если чего надо, они на той стороне, на той стороне Оки: надо корову или чего там зарезать – счас сделають и приезжають, привозють печёнки и всё, а это к чёртовой матери в воду в Оку. Вишь, что было! Во! <…> Да, это очень плохие люди, неважнецкие. Почему яму, ну как сказать, что ты паразит или гад, вроде неудобно, а ты, мол, неважнецкий, ну тебя к чёрту! И не трогали таких вот бедняков, не трогали. А хто побогаче или хто там в душу, или, как говорится, тама».[692 - Записи автора. Тетр. 8б. № 602 – Ефремов Николай Иванович, 1934 г. р., с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл., 03.10.2000.]
Другая жительница с. Константиново также вспоминала о разбойниках: «А разбойник. Я тогда слыхала от мамы. Одного мужчину очень обидели. Он очень богатый. И его обидели. И он ушёл в разбойники. Но он грабил только богатых, а бедных не трогал. Вот награбить, а бедным отдасть. <А что с ним сталось? – Е. С.> А он так до конца и разбойничал. Его не ловил никто. Его не поймаешь. У него очень много было друзей бедных, беднота была вся за него. Услышат: ага, там будеть облава на него – ему сообщають. Ну, мужик, мужик простой, да и всё. Ну, он был из богатых, конечно, грамотный, образованный был. И бедняков спасал».[693 - Записи автора. Тетр. 8. № 211 – Есина Мария Яковлевна, (1920-е – 2004), с. Константиново, 10.09.2000.]
Как видим, оба этих повествования исполнены вполне в духе фольклорного предания о «благородных разбойниках», не обижающих бедных! Имеются смутные сведения о прежнем бытовании в с. Константиново преданий-быличек о мифическом разбойнике Кудеяре.[694 - Там же.] О разбойниках еще сочиняли частушки в Константинове:
Наша шайка небольшая,
Всего три разбойника.
Кто полезет в нашу шайку,
Вспоминай покойника.[695 - «У меня в душе звенит тальянка…»: Частушки родины Есенина – села Константинова и его окрестностей: Фольклорное исследование Лидии Архиповой, главного хранителя Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Челябинск, 2002. С. 219.]
В таких условиях жительства по соседству с разбойниками подрастающему Есенину и впрямь необходимо было вырабатывать в себе боевитость, чтобы суметь постоять за себя и научиться давать отпор непрошеным посетителям.
Став взрослым, Есенин драчливость считал сродни стихийности бунтарства. И. Г. Эренбург отмечал: «Революцию он принимал на свой лад: в 1921 году его еще прельщала стихия бунта, он мечтал написать поэму “Гуляй-поле”».[696 - О Есенине. С. 590.] В «Плаче о Сергее Есенине» (1926) Н. А. Клюева звучит разбойничий мотив в качестве характерного для Есенина типа поведения – как прижизненного, так и посмертного, ибо даже уход поэта из жизни воспринимается как поступок разбойника: «Ушел ты от меня разбойными тропинками!».[697 - Там же. С. 34.]
Драчливость во взрослой жизни как отголосок мальчишеских притязаний
Атмосфера бойцовских состязаний и драчливых задираний сопутствовала Есенину с детства, как любому сельскому мальчику, а в юношеские годы она культивировалась определенной городской средой, в которой крутились солдаты в прошлом и моряки, бандиты и беспризорники и т. п. О типичности такой обстановки повествует в своих воспоминаниях Георгий Матвеев, который сам «снял ремень и по морскому обычаю намотал на руку, взмахнул пряжкой и с возгласом “полундра” пошел на “вы”. В стойку боксера встал Венедикт. <…> Конфликт благополучно разрешился. Сергей весело расхохотался и протянул руку: “Поздравляю победителя”».[698 - Матвеев Г., Камшилина Е. Незабываемая встреча с Сергеем Есениным. Стихи. М., 1993. С. 5.] Для морской драки существовали свои каноны. Дальневосточный моряк Георгий Матвеев встречался с Есениным лишь однажды, однако успел побороться с поэтом летом 1925 г. в Москве:
После посещения ресторана, слегка возбужденные от вина, мы остановились на каком-то бульваре, где я померился силой с Венедиктом <Март, его двоюродный брат>. Поборолись – и я стал победителем. Есенин тоже изъявил желание побороться. Его не постигла участь Венедикта. Боролись немного, Есенин не поддавался, да и я не стремился побороть его.[699 - Там же. С. 7.]
По нашему мнению, есенинский персонаж Иовулл (Иогулл) восходит к библейскому персонажу: «Имя его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели» (Быт. 4: 21). В пользу нашего предположения говорят следующие обстоятельства: 1) упоминание Иовулла не только в паре с Вейнемейненом, но и в более широком контексте – с библейским пророком Амосом, тоже пастухом и, следуя вероятному умозаключению Есенина, первым музыкантом; 2) на протяжении всего текста «Ключей Марии» поэт обращался в равной мере к персонажам Библии, древнеегипетской и античной мифологии, средневекового западноевропейского и древнерусского эпоса и т. п.; в частности, многократно и с помощью разнородных многочисленных примеров проводил общую идею о происхождении музыки из пастушеского инструмента божественного персонажа-пастыря.
Во многих произведениях Есенина вычленяется и развивается пастушеская тематика библейской истории, особенно ясно в духе раннего христианства проступающая в стихах: «И мыслил и читал я // По библии ветров, // И пас со мной Исайя // Моих златых коров» (I, 121 – «О пашни, пашни, пашни…», 1917) и «С дудкой пастушеской в ивах // Бродит апостол Андрей» (II, 59 – «Иорданская голубица», 1918). Менее явно выражена библейская символика в вопрошении «Пастухи пустыни – // Что мы знаем?» (IV, 175 – «Сельский часослов», 1918), однако она следует из общего контекстуального пласта священной истории, заложенного в смысловое основание есенинской «маленькой поэмы».
Пример пастушеской тематики из шумеро-аккадской мифологии в «Ключах Марии» (1918): «…на пастбищах туч Оаннес пас быка-солнце…» (V, 197).
Отголоски древнего «атмосферного мифа» (по терминологии любимого поэтом ученого-мифолога XIX века А. Н. Афанасьева) по воле стихотворца будто бы превратились в поэтические осколки мифической космической истории. Они заметны во многих есенинских пастушеских образах и мотивах, словно перенесенных с небес на землю, являющихся отражением Вселенской гармонии в изначальные времена. Тематикой сельского пастушества с его космически-мифическими первоистоками проникнуто и живописание современности: «Я пастух, мои палаты…» (I, 52 – 1914), «Пастух играет песню на рожке» (I, 92 – «Табун», 1915); «Блажен, кто радостью отметил // Твою пастушескую грусть» (I, 128 – «О, верю, верю, счастье есть!..», 1917); «Там стада стерег пастух» (I, 117 – «Где ты, где ты, отчий дом…», 1917); «Здесь слезы лил пастух» (I, 123 – «Зеленая прическа…», 1918) и др.
Образ пастуха типичен для фольклорных песен разных жанров, бытовавших на Рязанщине при Есенине. Иногда это народные необрядовые песни литературного происхождения – например, приуроченная к завиванию девушками венков на Троицу:
Шла ли Машенька из лесочка,
Д’ня-нясла
Маша э ой да два веночка… <…>
Д’ пастушка к себе звала. —
Ты пастух ли, пастушочек,
Пастух, верный мой дружочек,
Не спокинь, пастух, меня.[673 - Записи автора. Тетр. 11. № 59 – хор. д. Инкино Касимовского р-на. Зап. Н. В. Рыбакова, Е. Г. Богина, Ф. В. Строганов и Е. А. Самоделова 15.07.1992.]
Атрибуты пастуха увлеченный этим поэтическим образом и типом отважного мужчины Есенин видит везде – на земном лугу и даже на небесном: «И пляшет сумрак в галочьей тревоге, // Согнув луну в пастушеский рожок» (I, 80 – «Голубень», 1916); «И вызвездило небо // Пастушеский рожок» (I, 109 – «О Русь, взмахни крылами…», 1917). Можно полагать пастушескую символику характерной для творчества поэта и проходящей «сквозной линией » через сочинения Есенина, особенно в 1914–1918 гг.
Из устного высказывания Есенина, записанного Л. М. Клейнбортом, известно представление поэта о пастушеском рожке как типичном поэтическом инструменте (вопреки классическому представлению о лире, возникшем в античности): «Кольцова уж очень подсушил Белинский, – сказал он неожиданно. – Попортил-таки ему его рожок».[674 - Клейнборт Л. Н. «В стихах его была Русь…» // Кузнецов В. И. Тайна гибели Есенина. С. 261.]
Мальчишеские игры и драки как подготовка к взрослой жизни
Освоение окружающего мира и установление деловых отношений с людьми в детстве велось посредством участия в мальчишеских играх и затеях. Самые значимые для Есенина сведения о детских играх указаны им самим в одинаковом ключе в нескольких автобиографических произведениях. Так, в автобиографии «Сергей Есенин» (Берлин, 1922) поэт писал об участии в азартной игре: «…а на другие две копейки шел на кладбище играть с ребятами в свинчатку» (VII (1), 9). В «Автобиографии» (1923) игра названа иначе: «…2 коп. клал в карман и шел играть на кладбище к мальчишкам, играть в бабки» (VII (1), 11). детские игровые забавы являются подготовительной ступенью к ритуальным играм молодых мужчин; все они носят состязательный характер и в неявной форме выражают идею доминирования в мужской среде. В мальчишеских драках вырабатываются стереотипы активности, преподнесения мужского достоинства с позиции силы, задаются волевые установки, распределяются важные ролевые начала.
В воспоминаниях К. П. Воронцова сохранились сведения о любимых забавах и играх, в которые в детстве играл Есенин, как и все сельские мальчики: «Помню, как однажды он зашел с ребятами и начал приплясывать, приговаривая: “Тина-мясина, тина-мясина”. Чуть не потонули в ней. Любимые игры его были шашки, кулючки (хоронички), городки, клюшки (котлы)».[675 - Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников. С. 49.] Далее К. П. Воронцов продолжил: «Вечерами иногда мы игрывали в карты, в “козла”. Эту игру он любил больше, чем другие картежные игры».[676 - Там же.] Н. А. Сардановский назвал те же азартные игры: «Много времени проходило в играх: лото, крокет, карты (в “козла”)».[677 - Там же. С. 51.]
Подвижные игры на свежем воздухе у сельских мальчишек зачастую заменялись шалостями и проказами. Есенин в «Автобиографии» (1924) отмечал: «Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам» (VII (1), 14).
Подготовка к ратному делу осуществлялась через установленные обычаем кулачные бои и спонтанные драки. Односельчанин и друг К. П. Воронцов считал Есенина заводилой: «Он верховодил среди ребятишек и в неурочное время. Без него ни одна драка не обойдется, хотя и ему попадало, но и от него вдвое».[678 - Там же. С. 49.]
Уже перебравшись на жительство в город, Есенин вспоминал кулачные бои в с. Константиново и говорил мечтательно Льву Клейнборту: «У нас теперь играют в орлянку, поют песни, бьются на кулачки».[679 - Клейнборт Л. Н. Указ. соч. С. 253 (курсив наш. – Е. С.).]
Стремление завязать потасовку, драчливость рассматривались крестьянами как необходимый этап взросления мальчика. По наблюдению помещицы О. П. Семеновой-Тян-Шанской, сделанному на юге Рязанщины (д. Мураевня Данковского у. и окрестности): «…“атаманить” – значит буянить, затевать какие-нибудь проказы, руководить ими. <…> Драться с другими детьми тоже начал, как только стал на ноги. К этому его тоже поощряли, особенно если он одолевал другого младенца».[680 - Семенова-Тян-Шанская О. П. Указ. соч. С. 18.]
Соответственно, как всех крестьянских мальчиков, Есенина еще до школы «дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: “Ты у меня, дура, его не трожь! Он так будет крепче”» (VII (1), 8), – писал поэт в автобиографии «Сергей Есенин» (Берлин, 1922). В «Автобиографии» (1923) сообщается об этом же способе воспитания по-мужски: «Дед иногда сам заставлял драться, чтобы крепче был», и о достигнутых воспитательных успехах – «Рос озорным и непослушным, был драчун» (VII (1), 11).
В стихотворении элегического настроения «Я снова здесь, в семье родной…» (1916), вспоминая об играх прошедшей юности, лирический герой восклицает в пушкинском тоне, применяя лексику «высокого стиля»: «О други игрищ и забав» (I, 70).
В повести «Яр» (1916) Есенин с основательным знанием «кулачных правил» ведения боя и бойцовского беспредела, колоритно описал сельскую драку, доходящую до смертоубийства и сопровождаемую похоронными причитаниями:
Какой-то мужик с колом бегал за сотским и старался ударить ему в голову. // Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воронок, кровь. // Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа. // Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку. // «Бей живореза!» – кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам. // Упал и почуял, как на грудь надавились тяжелые костяные колени. // Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежачему обухом около шеи. // Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос позырился красно-черной пеной… // «Эх, Аксютка, Аксютка, – стирал кулаком слезу старый пономарь, – подломили твою бедную головушку!..» (V, 57).
Пускание в ход кулаков крестьянами, устраивание битвы деревни на деревню при выяснении отношений отразил Есенин: «То радовцев бьют криушане, // То радовцы бьют криушан» (III, 165 – «Анна Снегина», 1925).
Современники находили истоки литературной игры Есенина в особенностях его крестьянского детства. Умение вести детскую игру, затевать ее и самозабвенно участвовать в мальчишеских забавах, подготавливало к осознанию литературы как эстетической игры для взрослых. По мнению Георгия Чулкова, старшего современника Есенина, «искусство – игра, но игра священная, и мы не можем провести раздельной черты между переживанием эстетическим и переживанием религиозным».[681 - Чулков Г. И. Сочинения. Т. 5. Статьи 1905–1911 гг. СПб., 1912. С. 78–79 (разрядка автора, курсив наш. – Е. С.).]
Критики, прослеживая творческий путь Есенина, также подмечали склонность поэта к литературной игре, к выстраиванию творческой биографии в нарочитой игровой форме. А. К. Воронский в статье «Сергей Есенин. Литературный портрет» (1924–1925) предупреждал об опасности превращения поэтической игры в заигрывание с публикой: «Наше время в шутки играть не любит и не прощает игры с собой».[682 - О Есенине. С. 92.] В статье-некрологе «Об отошедшем» (1926) тот же критик делал вывод о невольном или осознанном выстраивании Есениным двуипостасного собственного облика, отвечающего всем параметрам образа двойника – бога и черта в одном лице. Так это было в древнем понимании единого божества – защищающего и карающего, грозного и ласкового, доброго и злого. А. К. Воронский писал о разбойничьем начале в Есенине, связанном с его стремлением превратить собственную жизнь в игру. Критик характеризовал: «…городской гуляка, забияка, скандалист и озорник, безрассудный мот и больной человек, менявший позы, нарочито подчеркивавший и заострявший свои противоречия, обнажавший их напоказ, игравший ими для “авантюристических целей в сюжете”».[683 - Там же. С. 102.] А. Б. Мариенгоф утверждал:
В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа Политехнического музея, Колонного зала, литературных кафе и клубов. <…> Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя «хулиганом» в поэзии и в жизни.[684 - Мариенгоф А. Б. Роман без вранья. С. 343.]
«Инициационные обряды». Разбойник как притягательный и устрашающий мужской тип
Об инициации, то есть о «посвятительном обряде», практиковавшемся старшими учениками по отношению к новичкам во Второклассной учительской школе в с. Спас-Клепики, сообщал А. Н. Чернов: «С дневного солнечного света в широком коридоре показалось темновато. Мне указали на комнату, в которой буду жить, и я направился прямо к серой двери. Неожиданно что-то темное накрыло меня сверху, и я почувствовал, как со всех сторон на меня посыпались кулачные удары. Я не знал, что так встречали всех новичков. А ударяли сильно».[685 - Чернов А. Н. Тех лет воспоминания. Цит. по: Чистяков Н. Королева у плетня. С. 87 (Это переработанный вариант – см. также: Новая Мещера, 1965, 5 августа).] Есенин также пострадал от кулачного обычая: «Действительно, через несколько минут вошел в комнату побитый парнишка. Он подошел к кровати и лег ничком. “Сейчас заплачет”, – подумал я. Прошла минута, другая, третья – с соседней кровати не доносилось ни звука. “Видно, крепкий”».[686 - Там же.] По сведениям А. Н. Чернова, Есенин затем ликвидировал бурсацкий обычай: «И никто впоследствии не смел обижать не только нас, но и всех, кто приходил в школу вновь. Побаивались отчаянного Сережку».[687 - Там же.]
Эту же оценку физической выносливости Есенина и его умения драться повторил Г. Л. Черняев: «Умел постоять за себя перед своими сверстниками».[688 - Черняев Г. Л. Он любил русскую природу. Цит. по: Чистяков Н. Королева у плетня. С. 90 (Перепечатка из газеты: Новая Мещера, 1960, 2 октября).] О драчливой обстановке, царившей в Спас-Клепиковской школе, доходили слухи до Константинова. Мать Т. Ф. Есенина советовалась: «Как быть, кума? Очень дерутся там в школе-то, ведь изуродуют, чем попало дерутся», – и получала рекомендацию: «Пусть, кума, потерпит, а тут что? Сама съездий, – говорила Марфуша».[689 - В родном селе (Из воспоминаний сестер поэта) // На родине Есенина / Сост. Е. А. и А. А. Есенины, Ю. Л. Прокушев. М., 1969. С. 24.] Другу юности Г. А. Панфилову в письме из с. Константиново в июне 1911 г. Есенин сообщал о «боевой» обстановке в Спас-Клепиковской школе: «Я поспешил скорее убраться из этого ада, потому что я боялся за свою башку» (VI, 7).
Из воспоминаний А. Н. Чернова, однокашника Есенина по Спас-Клепиковской второклассной учительской школе, следует, что устраивание «темной» новичкам являлось традицией, которая аналогична описанной в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского. Н. Шарапов вспоминал о знании Есениным творчества Н. Г. Помяловского и об интересе поэта в связи с «бурсацкой тематикой» к советскому студенчеству: «Есенин живо интересовался жизнью студентов и сожалел, что она не нашла отражения в советской литературе, да и до революции не получила развития. Указывал, что художественных произведений об учащейся молодежи не было и нет, если не считать повести Гарина-Михайловского в его трилогии “Детство Темы”, “Гимназисты”, “Студенты”, да еще “Очерков бурсы” Помяловского».[690 - Шарапов Н. Мои встречи с Есениным // Есенин и современность. М., 1975. С. 390–391.]
Позже Есенин в «Поэме о 36» (1924) отразит «кулачную» как необходимый элемент взросления будущего мужчины, причем ввернув его в героико-революционный контекст истории о политкаторжанах:
Ведь каждый мальчишкой
Рос.
Каждому били
Нос
В кулачной на все
«Сорты» (III, 146).
Драка как «посвятительный ритуал» при проводах в армию и вообще как признак молодечества проступает основным мотивом в письме Есенина к А. А. Добровольскому 11 мая 1915 г. из с. Константиново:
Оттрепал бы я тебя за вихры, да не достанешь. <…> На днях меня побили здорово. Голову чуть не прошибли. Сложил я, знаешь, на старосту прибаску охальную, да один ночью шел и гузынил ее. Сгребли меня сотские и ну волочить. Всё равно и я их всех поймаю. Ливенку мою расшибли. Ну, теперь держись. Рекрута все за меня, а мужики нас боятся. <…> За всех нас дадут по полушке, только б не ходили и не дрались, как телушки (VI, 69–70).
Из описания драки видно, что Есенин был заядлым охотником до драчливых действий и действительным знатоком битвы на кулаках.
«Идеологической праосновой» ввязывания в драки, участия в «кулачках», устраивания «тёмных» являлись разножанровые фольклорные тексты, бытовавшие на Рязанщине, часто входившие в мужской репертуар и с детства окружавшие Есенина. Известна народная песня: «Не в тех лесах дремучих // Разбойнички живуть. <…> В своих руках могучих // Товарища несуть. <…> Носилки не простые – // Из ружьев сложены. <…> Поперёк стальныя // Мяча положены» – о сраженном молодом Чуркине «с разбитой головой».[691 - Записи автора. Тетр. 6 № 57 – Абысова Марфа Андреевна, 1908 г. р., с. Лопатино Скопинского р-на, 07.07.1989.]
Что касается названия есенинских стихотворений «Разбойник» и «Песня старика разбойника», то представители этого шаловливого образа жизни действительно совершали набеги на родное село поэта. Так, житель с. Константиново сообщил о неоднократных разбойничьих нападениях на своего деда: «И он в Рязань ездил и занялся торговлей. <…> Он, значить, через Путино через это напрямую, да, напрямую и боялся тоже: купил, чтоб туда-сюда. А тут были Мрзовы такие, с этого, с Селец, Федякинские жулики. Они – говорить – говорять: “Что ты замки каждый раз меняешь? Не меняй ты замки, замкни вон на проволочку или чего прочее!” А они наезжали, если чего надо, они на той стороне, на той стороне Оки: надо корову или чего там зарезать – счас сделають и приезжають, привозють печёнки и всё, а это к чёртовой матери в воду в Оку. Вишь, что было! Во! <…> Да, это очень плохие люди, неважнецкие. Почему яму, ну как сказать, что ты паразит или гад, вроде неудобно, а ты, мол, неважнецкий, ну тебя к чёрту! И не трогали таких вот бедняков, не трогали. А хто побогаче или хто там в душу, или, как говорится, тама».[692 - Записи автора. Тетр. 8б. № 602 – Ефремов Николай Иванович, 1934 г. р., с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл., 03.10.2000.]
Другая жительница с. Константиново также вспоминала о разбойниках: «А разбойник. Я тогда слыхала от мамы. Одного мужчину очень обидели. Он очень богатый. И его обидели. И он ушёл в разбойники. Но он грабил только богатых, а бедных не трогал. Вот награбить, а бедным отдасть. <А что с ним сталось? – Е. С.> А он так до конца и разбойничал. Его не ловил никто. Его не поймаешь. У него очень много было друзей бедных, беднота была вся за него. Услышат: ага, там будеть облава на него – ему сообщають. Ну, мужик, мужик простой, да и всё. Ну, он был из богатых, конечно, грамотный, образованный был. И бедняков спасал».[693 - Записи автора. Тетр. 8. № 211 – Есина Мария Яковлевна, (1920-е – 2004), с. Константиново, 10.09.2000.]
Как видим, оба этих повествования исполнены вполне в духе фольклорного предания о «благородных разбойниках», не обижающих бедных! Имеются смутные сведения о прежнем бытовании в с. Константиново преданий-быличек о мифическом разбойнике Кудеяре.[694 - Там же.] О разбойниках еще сочиняли частушки в Константинове:
Наша шайка небольшая,
Всего три разбойника.
Кто полезет в нашу шайку,
Вспоминай покойника.[695 - «У меня в душе звенит тальянка…»: Частушки родины Есенина – села Константинова и его окрестностей: Фольклорное исследование Лидии Архиповой, главного хранителя Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Челябинск, 2002. С. 219.]
В таких условиях жительства по соседству с разбойниками подрастающему Есенину и впрямь необходимо было вырабатывать в себе боевитость, чтобы суметь постоять за себя и научиться давать отпор непрошеным посетителям.
Став взрослым, Есенин драчливость считал сродни стихийности бунтарства. И. Г. Эренбург отмечал: «Революцию он принимал на свой лад: в 1921 году его еще прельщала стихия бунта, он мечтал написать поэму “Гуляй-поле”».[696 - О Есенине. С. 590.] В «Плаче о Сергее Есенине» (1926) Н. А. Клюева звучит разбойничий мотив в качестве характерного для Есенина типа поведения – как прижизненного, так и посмертного, ибо даже уход поэта из жизни воспринимается как поступок разбойника: «Ушел ты от меня разбойными тропинками!».[697 - Там же. С. 34.]
Драчливость во взрослой жизни как отголосок мальчишеских притязаний
Атмосфера бойцовских состязаний и драчливых задираний сопутствовала Есенину с детства, как любому сельскому мальчику, а в юношеские годы она культивировалась определенной городской средой, в которой крутились солдаты в прошлом и моряки, бандиты и беспризорники и т. п. О типичности такой обстановки повествует в своих воспоминаниях Георгий Матвеев, который сам «снял ремень и по морскому обычаю намотал на руку, взмахнул пряжкой и с возгласом “полундра” пошел на “вы”. В стойку боксера встал Венедикт. <…> Конфликт благополучно разрешился. Сергей весело расхохотался и протянул руку: “Поздравляю победителя”».[698 - Матвеев Г., Камшилина Е. Незабываемая встреча с Сергеем Есениным. Стихи. М., 1993. С. 5.] Для морской драки существовали свои каноны. Дальневосточный моряк Георгий Матвеев встречался с Есениным лишь однажды, однако успел побороться с поэтом летом 1925 г. в Москве:
После посещения ресторана, слегка возбужденные от вина, мы остановились на каком-то бульваре, где я померился силой с Венедиктом <Март, его двоюродный брат>. Поборолись – и я стал победителем. Есенин тоже изъявил желание побороться. Его не постигла участь Венедикта. Боролись немного, Есенин не поддавался, да и я не стремился побороть его.[699 - Там же. С. 7.]