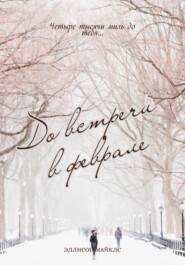По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не верь глазам своим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как она? – Спросила я, хотя ответ из года в год оставался неизменным.
– В спальне. – Вздохнул отец и выключил телевизор. – Не вышла даже к обеду. Констанс едва её не кормила супом с ложечки. Мама будет рада, что ты пришла. Зайдёшь к ней?
– Конечно. А позже, может, выпьем вместе кофе и поболтаем?
– Со сливками и корицей? – Улыбнулся мне отец и чмокнул в щёку ещё раз.
В силу положения своей семьи я встречала много успешных мужчин. Все они были умны и амбициозны, но каждый глубоко заблуждался в одной вещи. Они проявляли силу всегда и во всём, потому что мягкость для них символизировала слабость. Но по мне, сила мужчины как раз-таки в том, чтобы быть мягким с теми, кого любишь. Любовь – не слабость. Это сила, тараном сворачивающая горы. Мой отец это знал и пользовался знанием по полной. Семья, то, что от неё осталось, а это мы с мамой, никогда не были слабостью Роджера Лодердейла. Он никогда не боялся показаться мягким с нами, ведь мы делали его сильней.
Эту черту в отце я обожала больше других. Его смелость и честолюбие заработали миллионы, а доброта и нежность – мою любовь. И второе куда как важнее, ведь, в конце концов, остаётся лишь любовь, не деньги.
Родительская спальня затерялась в дальнем углу второго этажа. Вела к ней лестница, всю стену которой в кои-то веки заполоняли ни непонятные и переоценённые полотна именитых живописцев, а семейная галерея. Целый музей из фотографий прошлого. После исчезновения Джонатана мы мало фотографировались. Я медленно переставляла ноги по ступеням, взбираясь всё выше и выше наверх, всё дальше и дальше в прошлое. Мой выпускной в школе, в университете, открытие моего магазина, прошлое Рождество, где полно чужаков и мало искренности.
Столько воспоминаний. Я замерла у своего любимого. Мы с Джонатаном стоим на заднем дворе спустя год после переезда в Хэмпден. Улыбки до ушей, моя – кривоватая, которую только начали совершенствовать брекеты. И Джонатана. Задорная, смешливая, без двух передних зубов. Мы стоим в обнимку с двумя рожками мороженого, таящего на палящем солнце июня. Ванильные шарики стекают по пальцам. Белёсое пятно красуется на маечке брата. Тогда ещё мама сильнее заботилась о нашем счастье, не о внешнем виде и мнении окружающих, потому попала в кадр смеющейся на заднем плане. Сейчас бы она не смеялась, а наказала пойти и умыться, привести себя в подобающий вид.
На втором этаже обитала тишина, лишь папина возня на кухне оживляла мёртвые стены. Я пришла в самый конец коридора и тихо проскользнула в полуприкрытую дверь, не желая беспокоить маму, если она забылась дрёмой.
Но нет. Мама не спала, натянув одеяло так, чтобы не видеть белого света. Она сидела в огромной кровати – песчинка на бесконечном пляже. Она бы смотрелась по-королевски в этом объятии двух подушек и шуршащей перины, если бы не казалась слишком крошечной.
Всю кровать захламляли альбомы с фотографиями. Семейный архив, что так редко покидал дальние полки гостиной. Мама боялась их как огня – словно те были искрами. Черкнёшь рукой по переплёту и разразится пожар. Но сегодня мама решила устроить настоящее пожарище в своей душе, заглянув на пятнадцать лет назад, когда её сердце ещё не разбилось вдребезги.
Я ожидала увидеть иссушенную страданиями незнакомку с растрёпанной копной карамельных волос. С кожей, цвету которой в каталогах Бри не найдётся названия. С припухлостями на щеках от слёз и трения о подушку. Но мама блестела свежей росинкой на траве – ни единого признака душевных мук. Похоже, иногда счастливые воспоминания, заключённые в картонные прямоугольники снимков, возвращают нас к жизни.
– Мам. – Позвала я и присела на краешек кровати, свободный от воспоминаний и огня. – Ты прекрасно выглядишь.
– Спасибо, милая. Вот, решила предаться воспоминаниям. – Не глядя на меня, ответила мама чистым голосом, без всхлипов, без скорбной хриплости или привычного высокомерия.
Она как раз разглядывала фотографию Джонатана в маленьком, детском фраке, играющего на пианино. Родители так радовались таланту сына, что купили ему громадный инструмент и запихнули в отдельную комнатку, где брат мог бы репетировать и сводить меня с ума своей нескладной игрой. Но я недооценивала братишку. Через пару месяцев он заиграл, как юный Бетховен – ну, по крайней мере, такую версию твердила моя мама. Но сам он стеснялся своего увлечения, ведь все его друзья гоняли мяч или отрабатывали удары в карате, пока он искусно перебирал клавиши.
В отличие от Джонатана, я не обладала ни слухом, ни любовью к музыке – попсовые плейлисты в плейере не в счёт, ведь все девчонки в том возрасте слушали «Пуссикэт Доллс» или Кристину Агиллеру. Так что моё имя звучало куда как реже в этих хвастливых беседах мамы и её подруг.
– Он тут такой серьёзный. – Улыбнулась мама, и маленькая слезинка всё же закралась в уголок её глаза. Я стала свидетельницей неведанного феномена – Вирджиния Лодердейл пускала слёзы, не боясь при этом подпортить безупречный макияж.
– Он всегда становился серьёзным и сосредоточенным, когда садился за пианино. – Подхватила я, протягивая руку к фотоснимку. – А в остальное время был самым весёлым мальчиком на свете.
– Ты виделась с Ричардом?
Мама умела испортить душевный момент резкой репликой или неуместным замечанием. Наверняка она пустила в ход всё своё терпение, чтобы не спросить о встрече, едва услышала, как я вошла.
– Виделась, мама. Но, боюсь, я не смогу ничем тебя утешить. Ричард не смог ничего обнаружить.
– Как всегда. – Тяжело вздохнула мама, откинувшись на подушки и прикрыв глаза. Надежда покинула её тело. – Как последние пятнадцать лет.
Я примостилась рядом, зная, что сегодня мама не станет журить меня, как маленькую девочку, за то, что я забралась на постель в уличной одежде. Или что я изомну брюки и посрамлю весь род Лодердейлов, каждый представитель которого не смел выходить из дома, не припудрившись, не уложив волосы, не натянув гордую улыбку.
Мой краткий пересказ и близко не передавал тех усилий, что Ричард Клейтон предпринимал ради нашей семьи. Но маме важно было услышать, что хоть кто-то не сдаётся, как когда-то полиция Хэмпдена, и борется за её сына.
– Он очень старается, мам. – Встала я на защиту Ричарда. – Он такую работу проделывает каждый месяц. Такое ощущение, что он работает только над поисками Джонатана. А ведь у него ещё столько дел. Столько людей, кому он хочет помочь.
– Мы с отцом платим ему огромные деньги. – Резковато возразила мама, снова леденея в бесчувственную фигуру. – И не забывай, благодаря кому Ричард Клейтон стал тем, кем стал. Если бы не мы с отцом, он бы и дальше прозябал в городской полиции и дослужился бы максимум до капитана. Он нам обязан.
Меня укололи слова матери. Острые, несправедливые. Когда мама превратилась в одну из тех женщин, которые думают, что им все обязаны? Которые считают себя выше других, только потому, что на их счетах лежат миллионы, а не долги. В любой другой день я бы вступилась за Ричарда, затеяла жаркий спор, что сжёг бы нас обеих дотла, но не сегодня.
В моём молчании мама всё же различила протест и обиду, потому смягчилась, как масло, подтаявшее на медленном огне.
– Не вини меня за эти слова, Сара. Я уважаю Ричарда и ценю всё, что он сделал и делает для нас. Но не думай, что я брошу моего мальчика. Пока мне не покажут свидетельство о его смерти, пока я не увижу его… тело, я буду мучить Ричарда или любого другого детектива, лишь бы поиски продолжались. Я не забыла Джонатана, как ты…
К нападкам матери я привыкла с рождения. Первый ребёнок четы Лодердейлов, да к тому же девочка, я всё время слышала упрёки и критику обо всём, что делала. Что слишком много ем мороженого, а девочке не подобает быть толстой. Что слишком много ношусь с мальчишками на заднем дворе, а девочкам нельзя вести себя, как дикарке. Что мои волосы недостаточно блестящие. Что мои цели слишком приземлённые. Что мои парни слишком несостоятельны.
Но это… Говорить о том, что я забыла брата. Что выкинула его из своего сердца. Ей бы лучше пырнуть меня ножом под ребро, чем заявлять подобное.
– Я никогда не забуду Джонатана, мама. – С горечью, но одновременно со всей своей выдержкой заявила я, взяв в руку фотографию с пианино. – Есть разница между тем, чтобы отпустить кого-то и забыть. Я отпустила его, но никогда не забуду и твои слова…
Я не успела договорить, меня прервал звонок в дверь. Оно и к лучшему. Что бы за незваный гость не явился к нам на порог, он спас этот дом от вспыхнувшей ссоры, потому что сказать мне хотелось многое. За все те годы, когда я была недостаточно хороша для своей мамы. Тяжело тягаться с братом, который пропал без вести.
– Ладно, извини, Сара. – Отстранённо произнесла мама, но всё же сжала мою руку. Проявление нежности, которого мне не хватало уже пятнадцать лет. – Я наговорила лишнего, потому что в отчаянии. Ну ладно, – она похлопала меня по руке и сменила маску на отточенную годами улыбку. – Расскажи лучше про платье.
Если что-то и могло отвлечь Вирджинию Лодердейл от печали по сыну, то это подготовка к свадьбе единственной дочери, которая станет самым знаменательным событием следующего месяца. Глаза её заблестели, но уже не от слёз, а от предвкушения вспышек фотокамер, звона хрусталя и оваций публики. Я ошибочно полагала, что невеста и любовь новобрачных – кульминация торжества, но для мамы – имя Лодердейлов, что прославится ещё громче.
Не успела я описать фасон платья и изящество кружева, как Констанс неуверенно просунула голову в спальню.
– Миссис Лодердейл, прошу прощения… Но к вам пришли.
Тонкие губы, что никогда не встречались с помадой, сжались в плотную линию. За бесцветными ресницами заблестел испуг, но я так и не поняла, что его вызвало. В своём строгом платье и со стянутым узлом волос Констанс являла собой единственный отголосок простоты, эхом отлетающий от напыщенного убранства дома.
– Ко мне? – Изумилась мама и тут же сомкнула брови. – Я не принимаю гостей. И просила, чтобы никто меня не беспокоил. Отошли их куда подальше.
Взмах руки ещё больше встревожил Констанс, которая неуверенно застыла в дверях, боясь нарушить указание строптивой хозяйки. Я сотни раз слышала, как мама срывается на женщине, оправдывая свою ершистость тем, что они с отцом платят солидное жалование домработнице. Но для меня подобные оправдания не имели никакого значения. И, опасаясь, как бы и без того расстроенная мама не принялась вымещать своё горе на Констанс, быстро сползла с постели и вывела её за пределы маминого поля зрения.
– Простите, Констанс, но мама не в духе. Не думаю, что она сейчас может с кем-то встретиться.
– Я понимаю, мисс Лодердейл.
Сколько раз я просила называть меня Сарой! После пропажи нашей первой помощницы и няни, мисс Веракрус, Констанс появилась в нашем доме и годами служила верой и правдой. Она знала меня с двенадцати лет и смогла бы рассказать обо мне больше, чем родные родители. С какой начинкой я люблю пироги. В какого мальчика влюбилась в выпускном классе. В какой шуфляде прятала дневник с сокровенными мечтами.
Именно Констанс смазывала мои коленки и дула на них, чтобы не болело, когда я неуклюже падала у балетного станка. Мне не нравилось крутиться на носочках, стирая пальцы в мозоли, и, к неудовольствию матери, этот вид искусства никак мне не давался, а она отправила меня в балетную школу, потому что дочери всех знакомых Лодердейлов из высшего света обязательно ходили в какую-нибудь студию изящного мастерства. А чем дочь Лодердейлов была хуже? Когда я со слезами вытребовала уйти из балета, не выкрутив ни одного приличного па, она поняла, что всем.
Именно Констанс утешала меня, когда Джереми Фэрфакс ни с того ни с сего бросил меня прямо посреди школьного коридора на глазах у всех одноклассников, выставив меня на посмешище. В пятнадцать любое расставание сравнимо с концом света, а когда твоё поражение видит вся школа – апокалипсис, не меньше. Маме я сказать побоялась – ни к чему было лишний раз доказывать, что её дочь ни на что не годится. Прибежав домой в слезах, я закрылась в комнате, и только Констанс прорвала оборону, навестила меня с подносом румяного печенья и гладила по плечу, пока я не выплакалась до последней капли. А потом взяла мои ладошки в свои и сказала, что Джереми Фэрфакс – полный кретин, если воротит нос от такой, как я.
Именно Констанс сидела в первом ряду на вручении дипломов, заменяя мне сразу и отца, и мать. Первый заключал очередную многомиллионную сделку, а вторая штурмовала кабинет мэра не с первой и не последней петицией, чтобы старый кинотеатр в Хэмпдене, в квартале от нашего дома, или отреставрировали или снесли ко всем чертям. Внешний облик района значил для неё больше, чем достижения собственной дочери.
И как только я сближалась с Констанс, и добивалась своего – она звала меня просто Сарой, как добрая тётушка, что годами жила с нами под одной крышей – мама вихрем вносилась в наши доверительные отношения и пресекала всякую фамильярность.
– Она наша домработница, милая. – Ошарашено заявляла она, когда Констанс выходила из комнаты и не могла услышать подобных несправедливостей в свой адрес. – И должна обращаться к тебе соответственно.
Лишь окончив школу, я научилась давать маминым выходкам отпор, обрела голос и смелость им пользоваться, но всё равно проигрывала в каждой войне. Можно любить человека, но ненавидеть его поступки.
Напряжённость Констанс переполняла коридор до краёв и чуть не вырывалась из окон. Она будто увидела призрак и грызла губы, боясь в этом признаться.