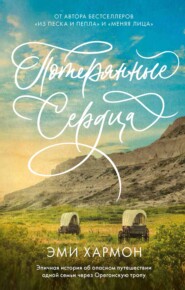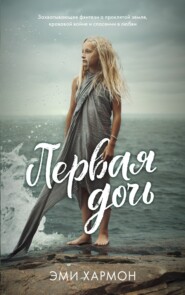По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга песен Бенни Ламента
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никакой вывески на улице не было, и, прежде чем услышать музыку, нам пришлось спуститься по лестнице и миновать пару дверей, охраняемых такими же крепкими ребятами, как отец. Они его не только не остановили, но даже поприветствовали по имени.
– Сэл иногда поигрывает здесь в картишки, – пробормотал отец в качестве разъяснения.
Я к такому привык. Отца знали все. Клуб был набит битком, но официант бросился к нам со всех ног. Отец резко отмахнулся от него. Найдя свободное местечко, мы прислонились к стене, и он указал мне на сцену.
– Вот, это Эстер Майн, – сказал отец. – Ты захочешь ее послушать.
В полумраке сияла копна завитых кудрей; их мягкая плавность резко контрастировала с четко очерченным квадратным подбородком и вызывающе яркими губами, окрашенными в красный цвет, – всякий раз, как они размыкались, я видел блеск ровных белых зубов. Бронзовая кожа была не напудрена, глаза не подведены, но ресницы, словно густой ракитник, упирались в щеки каждый раз, когда девушка начинала петь в микрофон.
Акустика в зале была ужасной. Потолок продувался, и посвист сквозняка назойливо вторгался в музыку. Барабаны били слишком громко, усилитель портил тембр гитары, а микрофоны фонили. Но пока я слушал, мою грудь сжимала тоска, а глаза все сильнее щипало от слез. Мне снова было семь лет, и я опять слышал голос, покрывавший мои руки мурашками.
«Она напоминает мне твою мать…» Я понял, что имел в виду отец. В тембре и манере пения девушки определенно что-то было. Но не голос матери воскресила в моей памяти Эстер. В голосе матери звучала страсть, но он не был сильным. Эстер Майн пела как Во Джонсон, только в женском теле. Сравнение с огромным боксером вызвало у меня улыбку.
Его зовут Бомбой, не зная,
когда он взорвется.
Его зовут Бомбой, он в Гарлеме
круче всех бьется.
– Она громкая… хотя комплекции не крупной, – сказал я, оспаривая собственное сравнение.
– У нее нормальная комплекция, – сказал отец. – Только не говори ей этого. Женщины чувствительно относятся к своим формам. По крайней мере, те, кого я знаю.
– А я вот не переживаю из-за своих форм. Просто не люблю, когда люди на меня пялятся.
– Они пялятся на тебя не потому, что ты большой. Просто ты уродлив.
– Весь в тебя, старик.
Я слышал, как фыркнул отец, но не смог отвести глаз от Эстер Майн. Она казалась крошечной красивой конфеткой в обертке в горошек. Ее запястья, руки, ноги – все было тонким и хрупким. В отличие от каблуков ее красных туфель – самых высоких из всех, что я видел. Они прилично добавляли ей роста. Но даже невзирая на это, голова Эстер не доставала до подбородка гитариста. Он то и дело подпевал ей в микрофон, почти касаясь виска девушки нижней челюстью, и их дуэт, в котором Эстер задавала тон, звучал на удивление гармонично. Гитарист тоже был стройным, но при этом высоким; его плечи нависали над гитарой, а пальцы длинных рук энергично перебирали струны. Барабанщик орудовал палочками с закрытыми глазами, но из ритма не выбивался и не привлекал к своему мастерству внимания, которого игрой на ударных весьма легко добиться. Басист выглядел не столь эффектно и заметно уступал в мастерстве этой троице. Зато больше их всех вместе взятых улыбался. И явно наслаждался собой, так что наблюдать за ним было одно удовольствие.
В их бенде не было ни трубача, ни клавишника. Но когда Эстер запела «Ничего не происходит», публика ей не поверила. И я тоже не поверил. Какой бы крошкой Эстер ни казалась, ее голос был по-настоящему зрелым – с резкостью и характерной сипловатостью Билли Холидей и мощью и надрывной пронзительностью поставленного сопрано. Этим ребятам не требовался трубач, когда у микрофона стояла Эстер. Я прикрыл глаза, чтобы дистанцироваться, но почему-то мне стало еще труднее ее игнорировать. Голос Эстер Майн пронизывал все нутро и заставлял мои пальцы судорожно подрагивать. Мной внезапно овладело неодолимое желание написать для нее песню.
– Что-то не так? Почему ты закрыл глаза? – прошептал отец. – Она же хороша, разве нет? Они все хороши. И ни в чем не уступают группам, поющим в «Ла Вите». Как, впрочем, и тем, кого крутят по радио.
А когда я ничего не ответил и даже не открыл глаз, отец продолжил:
– Ты реагируешь на Эстер так из-за цвета ее кожи? Но ты же долго работал с черными. Я не думал, что для тебя это важно.
Это был глупый вопрос, и я опять ничего не ответил. Но Эстер Майн запела новую песню, и мне пришлось на нее взглянуть. Ее голос зазвучал, как пощечина, требовательно и сурово. Она не улыбалась и не заигрывала с публикой. Она пела так, словно хотела затолкнуть нам эту песню в глотки. Со всей яростью. Грубо. И ее маленькая фигурка вибрировала в унисон с каждым звуком.
– Ей не по душе здесь выступать, – сказал я вслух, сам того не желая.
Но отец уцепился за мои слова:
– Она поет в этой дыре уже два года. Ей нужен прорыв. Большой хит. Что-нибудь такое, что оправдало бы ее участие в турне Эрскина.
– Эрскина Хокинса? Но па! Он уже в прошлом! Его биг-бенд, бесспорно, классный, но люди его больше не слушают. Они не слушают такую музыку лет десять! После «Перекрестка Таксидо» у Хокинса не появилось ни одного нового хита. А он что, берет в свое турне весь ансамбль?
– Я не знаю, Бенни. Я услышал это от Ральфа, – указал на бармена отец.
– Ага! И как же тебя угораздило в это ввязаться?
– Ни во что я не ввязывался. Просто ты пишешь песни. И сейчас на пике славы. Вот я и подумал: почему бы тебе ей не помочь?
Не успел отец договорить, как я с силой затряс головой. Я не желал, чтобы меня вовлекали. Я не сделал бы такого и для Берри Горди, а уж помогать Эстер Майн у меня и вовсе охоты не было… Но моя неохота развеялась под впечатлением того, как она исполнила «Может быть» от «Инк Споте». Эта простенькая песенка совсем не раскрывала возможности ее голоса, но Эстер пропела ее так, будто это было предостережение. И поразила меня до глубины души.
– Ладно, черт вас подери, – прошептал я.
– Но она же хороша, согласись! – пробормотал отец почти мне в ухо, явно довольный собой.
– Да, па! Она хороша…
Я прослушал все выступление, стоя рядом с отцом. Но когда мы с ним вышли на улицу, я на прощание протянул руку.
– Ты не хочешь поехать домой? – запротестовал он.
– Нет. Я остановился в «Парк Шератон». Пройдусь пешком. Пожалуй, заскочу ненадолго в «Чарли».
– Возвращайся домой, Бенни. Ни к чему тратить деньги на номер, когда ты можешь спать в своей кровати.
– Я уже перерос эту кровать, па.
Отец покосился на меня, зажал губами сигару, но не закурил, а повернулся в сторону «Ла Виты».
– Я купил тебе новую. Поехали домой. И в следующий раз, когда приедешь в город, не допускай, чтобы я узнавал об этом от Сэла. Это ставит меня в неловкое положение.
Я не стал оправдываться или извиняться. Но и ехать домой мне не хотелось. По крайней мере, в этот вечер. Я чувствовал жар, в груди ныло. Меня одолевала слабость. Именно о таких дрожащих руках и подкашивающихся ногах пел Элвис[2 - Здесь отсылка к песне Элвиса Пресли «АП Shook Up» («Я потрясен»).].
– Ладно, черт возьми, – буркнул я.
Но отец уже ушел, и меня никто не услышал. Оправлюсь или нет, но завтра я, наверное, снова наведаюсь в «Шимми» послушать пение Эстер Майн.
* * *
Я не испытывал сильного голода и ужину в «Чарли» предпочел прогулку. Известному человеку, проживающему в дорогущих апартаментах, предоставляется определенная свобода. Эта свобода позволяет ему бесцельно бродить по улицам, не беспокоясь ни о слишком позднем часе для прогулок, ни о безопасности того или иного района города. И я бродил, беспрестанно раздумывая о еще одном известном человеке – человеке, о котором я не вспоминал годами. О Бо «Бомбе» Джонсоне. Странно, но громыхание его голоса не выходило у меня из головы. Стоило мне услышать, как заревела в микрофон маленькая негритянская певица, и Бо Джонсон восстал из царства мертвых (или оттуда, где закончился его земной путь). Восстал, чтобы прогуляться со мной по Манхэттену.
Мой дед, Эудженио Ломенто, эмигрировал с Сицилии на рубеже веков. И это он научил моего отца боксировать, избивая его до полусмерти каждый вечер после ужина. Отец посчитал, что должен получать плату за то, что из него выколачивают не только дурь, но и душу. И всего в 16 лет провел свой первый санкционированный бой. Он был настолько хорош, что никому и в голову не пришло поинтересоваться его возрастом. На ринге отец стал Джеком «Ламентом» Ломенто, а в Восточном Гарлеме – самой большой знаменитостью.
Десять лет отец удерживал чемпионский титул в тяжелом весе и не проиграл ни одного боя до тех пор, пока Бо «Бомба» Джонсон не вырубил его так, что он потом неделю не мог подняться. Больше отец не дрался. По крайней мере, на ринге. Он стал работать на Сэла Витале в его клубе в Гарлеме – вышибалой вместо боксера и решалой всяких сомнительных делишек вместо бойца. Именно тогда он познакомился с моей матерью – сестрой Сэла. Отец говорил, что Бо Джонсон оказал ему услугу, отобрав титул так, как он это сделал.
– Бо вправил мне мозги, – повторял отец. – Если бы не он, я бы никогда не остановился. И не было бы Джулианы. Не было бы Бенни. Был бы один бокс.
Впервые увидев Бо Джонсона, я невольно задался вопросом: как отцу вообще удалось уцелеть в том бою? Бо Джонсон был самым огромным, самым сильным мужчиной из всех, кого мне доводилось встречать. Он был даже больше моего отца, а его голос звучал, как орган во время мессы: сильный, глубокий, сочный. Я пытался взять такую же ноту, но она находилась ниже моего регистра.
Через несколько месяцев после смерти матери я проснулся от того, что этот голос, наряду со светом, просочился в мою спальню сквозь щель под дверью. Я резко спрыгнул с кровати, подумав, будто обрел рай и в соседней комнате находится сам Бог. Вместе с мамой. К доносившимся голосам – знакомому и чужому, высокому и низкому – примешивалось мяуканье. Я распахнул дверь и замер, щурясь от света и пытаясь прикрыть глаза дрожащими руками. Но матери не было. И Бога тоже, хотя незнакомец в гостиной мог вполне оказаться ангелом-разрушителем. От него не исходили лучи света, но он источал силу. У него не было крыльев, но его руки и плечи бугрились мускулами, а шея была толщиной с его блестящую лысую голову. Он сидел, согнув спину, и его голова нависала над громадными коленями. А когда он ее поднял и встретился со мной взглядом, я словно прирос к полу.
– Бо Джонсон, – запинаясь, пробормотал я и потер кулачками глаза, уверенный, что это сон.