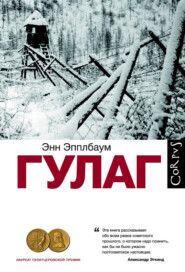По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но самое главное заключалось в том, что именно здесь, в Восточной Европе, произошло столкновение немецкого нацизма и советского коммунизма. Гитлер всегда хотел объявить Советскому Союзу войну на уничтожение, а после нападения на СССР Сталин платил ему той же монетой. По сравнению с боями, которые шли на западе, сражения между Красной армией и вермахтом на востоке были намного более неистовыми и жестокими. Немецкие солдаты действительно испытывали страх перед «большевистскими ордами», о которых им рассказывали ужасающие истории, и до самого конца войны сражались с ними с особым остервенением. В странах Восточной Европы они презирали гражданское население, а местную культуру игнорировали. Ослушавшись приказа Гитлера, немецкий генерал, испытывавший сентиментальное уважение к Парижу, оставил город в неприкосновенности, но зато другие немецкие генералы сожгли Варшаву и уничтожили Будапешт без особых раздумий. Западная авиация также не слишком беспокоилась о старинной архитектуре региона: бомбардировщики союзников внесли свой вклад в дело смерти и разрушения, подвергнув смертоносным воздушным ударам не только Берлин и Дрезден, но – среди прочих мест – Данциг и Кёнигсберг.
По мере того как Восточный фронт приближался к самой Германии, бои становились все ожесточеннее. Красная армия шла на Берлин с упорством, граничащим с одержимостью. Еще в ранние дни войны советские солдаты, прощаясь, говорили друг другу: «Увидимся в Берлине!» Сталину отчаянно хотелось войти в город прежде, чем там окажутся союзники. Это понимали и его командиры, и американские «братья по оружию». Генерал Эйзенхауэр, прекрасно осознавая, что в Берлине немцы будут биться до последнего патрона, желал сберечь жизни американских солдат и решил позволить Сталину взять город. Черчилль возражал против такой политики: «Если русские возьмут Берлин, у них сложится представление, что именно их стараниями обеспечена наша общая победа, а такой их настрой чреват для нас серьезными трудностями в будущем»[53 - Wolfgang Schivelbusch. In a Cold Crater: Cultural and Intellectual Life in Berlin, 1945–1948. Berkeley, 1998. P. 8–9.]. Но американская осторожность генерала взяла верх: войска союзников наступали на восток не спеша. Генерал Джордж Маршалл заявил, что «не склонен рисковать американскими жизнями ради политических целей», а британский фельдмаршал сэр Алан Брук настаивал на том, что «рубежи наступления должны в основном совпасть с линией будущей границы»[54 - Andrew Roberts. Masters and Commanders. London, 2008. P. 561, 569.]. Между тем Красная армия шла прямиком к немецкой столице, оставляя за собой шлейф разрушений.
Если сложить все цифры, результат будет ошеломляющим. В Великобритании война унесла жизни 360 тысяч человек, а во Франции 590 тысяч. Это ужасающие потери, но они все же не превышают 1,5 процента от численности населения этих стран. По контрасту, согласно подсчетам Польского института национальной памяти, Польша за годы войны потеряла 5,5 миллиона человек, 3 миллиона из которых составили евреи. В целом это 20 процентов польского населения, или каждый пятый. Даже в тех странах, где борьба не была столь кровавой, пропорция смертей выше, чем на Западе. Югославия потеряла 1,5 миллиона человек, или 10 процентов населения. В Венгрии потери составили 6,2 процента, в Чехословакии – 3,7 процента[55 - Bradley Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 631; Ivаn T. Berend, Tamаs Csatо. Evolution of the Hungarian Economy, 1848–1998, vol. 1. Boulder, 2001. P. 253.]. В самой Германии погибли от 6 до 9 миллионов человек, в зависимости от того, кого, учитывая подвижность границ, считать немцем, или около 10 процентов[56 - Согласно последним данным, армейские потери Германии составили 5 миллионов 318 тысяч убитыми, см.: Rudiger Overmans. Deutsche milit?rische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Munich, 2004. S. 260. Остальные потери приходятся на долю гражданских лиц, которые умерли от голода или болезней, в ходе депортаций и изгнания, или погибли во время бомбежек.]. В Восточной Европе 1945 года трудно было найти семью, где не было бы погибших.
Когда послевоенная жизнь понемногу начала налаживаться, стало ясно, что многие люди, оставшиеся в живых, очутились в чужих местах. В 1945 году демографическая картина и этнический состав стран региона заметно отличались от того, какими они были в 1938 году. Фундаментальные сдвиги, вызванные нацистской оккупацией Восточной Европы и сопровождавшими ее переселениями и депортациями, до сих пор недостаточно полно осознаются западноевропейцами. Германские «колонисты» заселяли Польшу и Чехословакию; переселенческая политика немцев была направлена на изменение этнического состава населения конкретных регионов, где местных жителей зачастую изгоняли или уничтожали. Уже в декабре 1939 года поляков и евреев выставляли за порог их домов в лучших кварталах Лодзи, чтобы освободить квартиры для немецких чиновников. В последующие годы 200 тысяч поляков, проживавших в этом городе, были отправлены на принудительные работы в Германию; евреев же согнали в городское гетто, в котором большинство из них погибли[57 - Janusz Wrobel. Bilans Okupacji Niemieckiej w Lodzi 1939–1945 // Rok 1945 w Lodzi, p. 13–30.]. На их места оккупационный режим привлек немцев, включая этнических немцев из Балтийских стран и Румынии, некоторые из которых полагали, что им передается брошенная или ничейная собственность[58 - Несколько лет назад мой муж получил письмо от немца, уроженца Прибалтики, семье которого в военные годы был передан наш нынешний сельский дом, находящийся в центральной Польше. Он приложил фотографию своих улыбающихся немецких родителей, одетых для верховой езды и сидящих на ступеньках нашего дома. Он также вспоминал, что доставшаяся им собственность была в очень запущенном состоянии, добавив, что его отец вложил много труда, чтобы привести ее в порядок. В письме высказывалась надежда на то, что люди, теперь там живущие, хотя бы иногда добром вспоминают прежних хозяев. Однако мы не вспоминаем о них вообще.].
В послевоенный период происходили обратные процессы. 1945, 1946 и 1947 год стали годами беженцев. Немцы перебирались на запад, поляки и чехи возвращались с немецких фабрик и из концлагерей, депортированные ехали из Советского Союза, солдаты различных армий шли к своим семьям, беженцы возвращались из британского, французского или марокканского прибежищ. Некоторые из беженцев, вернувшись в родные края и обнаружив, что их дома больше нет, отправлялись на новые места. Согласно подсчетам Яна Гросса, в 1939–1943 годах 30 миллионов европейцев были изгнаны, переселены или депортированы. В 1943–1948 годах такая судьба постигла еще 20 миллионов[59 - Jan Gross. War as Revolution, p 23.]. Кристина Керстен отмечает, что в 1939–1950 годах каждый четвертый поляк сменил место жительства[60 - Kersten. The Establishment of Communist Rule in Poland, p. 165.].
В подавляющем большинстве эти люди возвращались домой с пустыми руками. Они сразу же были вынуждены обращаться за любой помощью: к церкви, благотворительным организациям, государству. Целые семьи, обеспечивавшие себя до войны, теперь простаивали в очередях в правительственных учреждениях, надеясь получить дом или квартиру. Мужчины, некогда зарабатывавшие, теперь надеялись на продуктовые карточки или на должность в государственном аппарате. Ментальность беженца, насильственно изгнанного из дома, не похожа на ментальность эмигранта, оставляющего родину в поисках лучшей доли: сами обстоятельства его новой жизни закрепляют зависимость и беспомощность, незнакомые ему прежде.
Еще более усугубляло общую картину то, что физические разрушения вызвали чудовищный экономический упадок. Конечно, не каждая страна Восточной Европы до войны славилась богатством, но отставание региона от западной части европейского континента в 1939 году отнюдь не было таким грандиозным, каким оно стало в 1945-м. И хотя на некоторых группах населения военный спрос на пушки и танки сказался позитивно, в частности специалисты по экономической истории указывают на расширение промышленного рабочего класса, особенно в Богемии и Моравии, – вторая половина войны стала катастрофой буквально для каждого[61 - M. C. Kaser, E. A. Radice. The Economic History of Eastern Europe, 1919–1945, vol. II: Interwar Policy, the War and Reconstruction. Oxford, 1986. P. 466–472.]. В 1945–1946 годах венгерский ВВП составлял всего лишь половину от уровня 1939 года. Согласно одной из имеющихся оценок, в последние месяцы войны страна лишилась 40 процентов своей экономической инфраструктуры[62 - Ivаn Peto, Sаndor Szakаcs. A hazai gazdasаg nеgy еvtizedеnek t?rtеnete, 1945–1985, vol. I. Az ?jjаеp?tеs еs a tervutas?tаsos irаny?tаs idoszaka. 1945–1968. Budapest, 1985. P. 17–25.]. В Будапеште от боевых действий пострадали 75 процентов всех зданий, из которых 4 процента были разрушены полностью, а 22 процента стали непригодными для обитания. Население города сократилось на треть[63 - Berend, Csatо. Evolution of the Hungarian Economy, p. 254–255.]. Уходя из Венгрии, немцы вывезли с собой почти весь подвижной состав венгерских железных дорог, а советская армия позже под видом репараций забрала то, что осталось[64 - Kaser, Radice. Economic History of Eastern Europe, vol. II, p. 504–506.].
Ущерб, нанесенный Польше, также измеряется цифрой в 40 процентов, хотя в некоторых областях разруха была еще большей. Особенно пострадала транспортная система страны: разрушению подверглись половина мостов, порты, две пятых всего железнодорожного полотна. Большой урон понесли крупнейшие польские города: они лишились жилого фонда, старинных памятников архитектуры, университетов и школ. В историческом центре Варшавы около 90 процентов зданий было частично или полностью разрушено целенаправленно взрывавшими их отступающими германскими войсками[65 - Janusz Kalinski, Zbigniew Landau. Gospodarka Polski w XX wieku, p. 159–189.].
Города Германии также сильно пострадали, как из-за авиационных бомбардировок союзников, вызывавших колоссальные пожары, так и по причине гитлеровского приказа, требовавшего от солдат стоять насмерть. Даже в Чехословакии, Болгарии и Румынии, где разрушения не были столь значительными, а авиационные налеты не применялись, ущерб оказался очень серьезным. В Румынии, например, было разрушено все нефтяное оборудование, до 1938 года обеспечивавшее треть ее национального дохода[66 - Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 634.].
Война повлияла на экономику региона и в других аспектах, неотражаемых статистически. В двух известных эссе о последствиях войны Ян Гросс и Брэдли Эбрамс указывают, что в большей части региона, в частности в Венгрии, Чехословакии, Польше и Румынии, а также в самой Германии, масштабная экспроприация частной собственности началась еще в военные годы, при нацистских и фашистских властях, а вовсе не при коммунистах. За массовой конфискацией еврейских предприятий и собственности, осуществляемой государством или немецкими оккупантами, следовала масштабная германизация. Иногда она проходила скрытно: в чешских землях, например, местные банки находились под контролем немецких банков, которые «сами решали, являются ли те или иные чешские банки или фирмы платежеспособными, а в случае неплатежеспособности оздоровительные мероприятия поручали немецкому бизнесу, укреплявшему тем самым свои позиции»[67 - Kaser, Radice. Economic History of Eastern Europe, vol. II, p. 338–339.]. Иногда диктат навязывался напрямую. Так, в Польше во главе предприятий, которые технически по-прежнему принадлежали полякам, просто ставились немецкие директора.
Кроме того, оккупация переориентировала региональные экономики. В 1939–1945 годах экспорт их продукции в Германию удвоился или утроился; то же самое произошло и с немецкими инвестициями в здешнюю промышленность. С начала 1930-х годов среди немецких экономистов велись дебаты об экономической колонизации Восточной Европы, а в годы оккупации немецкий бизнес начал создавать здесь экономические колонии, зачастую путем присвоения еврейских и даже нееврейских предприятий[68 - Ibid., p. 299–308.]. Регион превратился в обособленный, закрытый рынок, каким он никогда прежде не был[69 - Jan Gross. The Social Consequences of War: Preliminaries to the Study of the Imposition of Communist Regimes in East Central Europe // Eastern European Politics and Societies, 3, 2 (Spring 1989), p. 198–214; Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 623–664; Kalinski, Landau. Gospodarka Polski w XX wieku, p. 159–189.]. Из-за этого вслед за крушением рейха обрушились и международные торговые связи Восточной Европы. Это обстоятельство впоследствии помогло Советскому Союзу занять место Германии.
В силу указанных причин крах Германии спровоцировал и кризис в отношениях собственности. К концу войны немецкие директора, управленцы и инвесторы бежали или были убиты. Многие предприятия, оставшись без владельцев, оказались брошенными. Иногда их брали под контроль рабочие советы, а иногда принимали местные власти. Большая часть этой покинутой собственности постепенно национализировалась – если, конечно, ее еще раньше не описывали, не упаковывали и не отправляли в Советский Союз, который относил любую немецкую собственность к законным военным трофеям. Интересно, что на местах подобный вывоз почти не встречал сопротивления[70 - Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 639.]. К 1945 году представление о том, что новые власти могут просто конфисковать частную собственность, не предлагая владельцам никакой компенсации, превратилось в Восточной Европе в устоявшийся принцип. И когда там началась широкомасштабная национализация, никто даже не удивился.
Из всех разновидностей ущерба, который принесла с собой Вторая мировая война, всего труднее определить масштабы психологической и эмоциональной травмы. Жестокость предыдущей, Первой мировой, войны породила поколение фашистских лидеров, интеллектуалов-идеалистов и художников-экспрессионистов, придававших человеческим формам нечеловеческие очертания и цвета. Но Вторая мировая вошла в повседневную жизнь более глубоко, поскольку на этот раз, наряду с кровавыми боями, в Европу пришли оккупации и массовое переселение гражданских лиц. Непрекращающееся и каждодневное насилие формировало человеческую душу разными способами, которым не всегда было легко дать определение.
Все это также чрезвычайно далеко от того, что происходило на Западе, особенно в англосаксонских странах. Польский поэт Чеслав Милош, пытаясь подчеркнуть ментальные различия между послевоенной Европой и послевоенной Америкой, писал о том, насколько глубоко закончившаяся война потрясла присущее людям ощущение естественного порядка вещей: «Наткнувшись вечером на труп на тротуаре, горожанин прежде побежал бы к телефону, собралось бы множество зевак, обменивались бы замечаниями и комментариями. Теперь он знает, что нужно быстро пройти мимо мрачного тела, лежащего в канаве, и не задавать лишних вопросов». Оказавшись в условиях оккупации, добропорядочные граждане перестают рассматривать бандитизм в качестве преступления, пишет Милош, по крайней мере когда он используется подпольем. Юноши из уважаемых и законопослушных семей среднего класса делаются отъявленными преступниками, для которых убийство человека более не представляет большой моральной проблемы. При оккупационном режиме считается нормальным делом менять имя и профессию, путешествовать по фальшивым документам, заучивать поддельную биографию, видеть, как людей ловят на улицах, словно разбежавшийся скот[71 - Czeslaw Milosz. The Captive Mind. London, 2001. P. 26–29. [Чеслав Милош. Порабощенный разум. Петербург, 2003. P. 73–74. – Прим. перев.]].
Табу, касавшиеся собственности, тоже рухнули, а воровство стало рутинным и даже патриотичным делом. Одни крали для того, чтобы поддержать партизанский отряд, группу Сопротивления или прокормить собственных детей. Другие с завистью наблюдали, как крадут другие: нацисты, преступники, партизаны. По мере того как война шла к концу, эпидемия воровства разрасталась. В послевоенном романе Шандора Мараи один из героев восхищается предприимчивостью мародеров, обыскивающих развалины разбомбленных зданий: «Они полагали, что пришло время спасать то, что еще не было разворовано нацистами, нашими местными фашистами, русскими или коммунистами, вернувшимися из-за границы. Они считали патриотическим долгом прибрать к рукам то, что еще оставалось, называя это занятие „спасательной операцией“»[72 - Sаndor Mаrai. Portraits of a Marriage, p. 272.].
В Польше, как вспоминает Марчин Заремба, интервал между уходом нацистских оккупантов и прибытием Красной армии был отмечен грабежами, захлестнувшими Люблин, Радом, Краков и Жешув. Поляки врывались в немецкие дома и магазины не для того, как объяснял один из них, «чтобы обзавестись чем-то нужным, а просто желая растащить немецкую собственность – в отместку за то, что немцы отобрали все у нас»[73 - Zaremba. Wielka Trwoga, p. 221–252.].
Непосредственно после завершения войны новая и более организованная волна мародерства накрыла бывшие немецкие территории Силезии и Восточной Пруссии, теперь отошедшие к Польше. Группы грабителей на легковых автомобилях, грузовиках, прочих транспортных средствах обшаривали полупустые города в поисках мебели, одежды, бытовой техники и других ценностей. «Специалисты», снаряженные варшавскими ресторанами и кафе, искали кофейные агрегаты и печное оборудование во Вроцлаве и Гданьске. Поначалу, вспоминает мемуарист, «воры не интересовались редкими книгами, но вскоре появились эксперты и в этой области». Наряду с немецким имуществом расхищалась и бывшая еврейская собственность; разорялись даже еврейские кладбища, под плитами которых крестьяне надеялись найти «запрятанные сокровища» или золотые зубы. В большинстве своем мародеры выбирали цели без всякого разбора. Вслед за подавлением Варшавского восстания в почти полностью разрушенной польской столице начались повальные кражи; «соседи, прохожие, солдаты» начали обшаривать брошенные квартиры и магазины буквально на следующий день после того, как трагически завершилась история польского Сопротивления. Поля вокруг лагеря Треблинка были перекопаны «охотниками за сокровищами» в 1946 году; в сентябре того же года местные жители набросились на поезд, потерпевший крушение неподалеку от Лодзи, но не для того, чтобы помочь пострадавшим, а стремясь быстрее других овладеть их ценными вещами[74 - Ibid.].
Хотя мародерская лихорадка в Польше и других странах постепенно пошла на убыль, она явно помогла сформировать терпимое отношение к коррупции и расхищению общественной собственности, которые позже стали повсеместным явлением. Насилие также вошло в норму, оставаясь в этом качестве на протяжении многих лет. События, которые за несколько месяцев до того вызвали бы широкое общественное возмущение, теперь больше никого не волновали. Спустя семьдесят лет один венгр поделился со мной ярким воспоминанием об ужасной сцене, имевшей место на будапештской улице: какого-то человека арестовали среди бела дня прямо на глазах у двоих его маленьких детей. «Отец вез малышей в маленькой коляске, но советских солдат это не остановило: они забрали отца, бросив детей одних прямо посреди дороги». Никому из пешеходов происходящее не показалось странным[75 - Чаба Скултети, личное интервью, Будапешт, 12 марта 2009.]. А когда за официальным прекращением боевых действий последовали новые рецидивы насилия – жестокое изгнание немецкого населения, нападения на возвращавшихся домой евреев, аресты мужчин и женщин, сражавшихся против Гитлера, разгоравшаяся в Польше и Прибалтийских государствах партизанская война, – это также никого не удивило.
Не всегда насилие было этническим или политическим. «Без драки в нашей деревне не решалась ни одна проблема», – вспоминает сельский учитель из Польши[76 - Zaremba. Wielka Trwoga, p. 87.]. У населения оставалось много оружия, и убийства были довольно частыми. Во многих регионах Восточной Европы вооруженные банды опустошали окрестности, живя за счет грабежей и убийств; зачастую они называли себя борцами за свободу, даже не имея никакого отношения к движению Сопротивления. Преступные шайки бывших солдат действовали во всех восточноевропейских городах, а криминальное насилие настолько тесно переплеталось с политическим насилием, что из хроник того времени не всегда можно понять, где преступность, а где политика. Всего лишь за две недели в конце лета 1945 года полиция только одного города в Польше зарегистрировала 20 убийств, 86 грабежей, 1084 кражи, 440 «политических преступлений» (термин не разъясняется), 125 случаев сопротивления властям, 29 прочих преступлений против власти, 92 поджога и 45 преступлений на сексуальной почве. «Главной проблемой, которая волнует граждан, остается отсутствие безопасности», – говорится в полицейском отчете, приводящем эту статистику[77 - Ibid., p. 273.].
Институциональный коллапс сопровождался нравственным разложением. Политические и общественные институты в Польше прекратили работать в 1939 году, в Венгрии – в 1944-м, в Германии – в 1945-м. Катастрофа утвердила в сердцах людей циничное отношение к тем обществам, в которых они выросли, и к ценностям, в которых их воспитывали. Это не удивительно: их общественные системы оказались слабыми, а ценностные ориентиры зыбкими. Опыт национального поражения, будь то в силу нацистской оккупации в 1939 году или союзнической оккупации в 1945-м, исключительно тяжело переживался теми, на чью долю он выпал.
С той поры многие пытались описать, что происходит с человеком, который ощущает распад окружающей цивилизации, видит разрушение того мира, где прошло его детство, понимает, что мораль его родителей и учителей прекратила существовать, а некогда почитаемых общенациональных лидеров больше нет. И все же, не пережив этого лично, понять такое довольно трудно. Такие характеристики, как «вакуум» или «пустота», используемые в применении к национальной катастрофе, какой является иностранная оккупация, недостаточны. Они не передают всей степени негодования, испытываемого людьми в отношении их довоенных и военных вождей, обрушившихся политических систем, своего «наивного» патриотизма. Сплошные потери – утрата жилища, семьи, школы – обрекали миллионы обывателей на неизбывное одиночество. Части Восточной Европы переживали этот крах в различное время и по-разному. Но когда бы и каким бы образом он ни происходил, крушение государства глубоко влияло на людей, в особенности на молодежь, многие представители которой вдруг осознавали, что все, чему их некогда учили, оказалось фальшивым. Кроме того, война лишила их нормального социального окружения и социальных связей. Многие действительно напоминали описанную Арендт «тоталитарную личность», «полностью изолированное человеческое существо, которое, не имея прочных социальных контактов с семьей, друзьями, товарищами или даже просто знакомыми, извлекает ощущение причастности к миру сугубо из принадлежности к какому-либо политическому движению и из членства в партии»[78 - Hannah Arendt. The Origins of Totalitarianism, p. 322–323.].
Именно таким был случай Тадеуша Конвицкого, польского писателя, который в годы войны стал партизаном. Родившись в патриотичной семье в восточной Польше, неподалеку от Вильнюса, он в годы войны с готовностью присоединился к вооруженному крылу польского Сопротивления, каким являлась Армия Крайова. Сначала он воевал с нацистами. Потом его отряд сражался с Красной армией. Когда борьба начала вырождаться в вооруженные грабежи и неспровоцированное насилие, Конвицкий задумался о том, стоит ли продолжать воевать. Он покинул лес и отправился в Польшу, в новых границах которой уже не было места его родному дому. По прибытии молодой человек осознал, что у него нет абсолютно ничего. Девятнадцатилетний бывший партизан имел в собственности пальто, маленький рюкзак и пачку фальшивых документов. У него не было ни семьи, ни друзей, ни образования. Подобную ситуацию можно считать типичной. Люциан Грабовский, молодой боец Армии Крайовой, воевавший в окрестностях Белостока, сложил оружие примерно в то же время и также понял, что у него ничего нет: «У меня не было костюма, поскольку довоенный теперь оказался мал, а в кошельке лежали лишь подобранный где-то американский доллар и несколько тысяч злотых, взятых моим отцом в долг у соседей. Это было все, что у меня осталось через четыре года борьбы с оккупантами»[79 - Karta, Lucjan Grabowski, II/1412.].
Конвицкий утратил доверие ко всему, во что верил прежде. «В годы войны я видел вокруг сплошное смертоубийство, – рассказывал он мне. – Прямо на моих глазах рассыпался мир высоких идей, гуманизма, морали. Я был одинок в опустошенной стране. Что было делать? И куда идти?»[80 - Тадеуш Конвицкий, личное интервью, Варшава, 17 сентября 2009.] Конвицкий скитался много месяцев, раздумывал о побеге на Запад, старался вернуться к своим «пролетарским корням», занимаясь физическим трудом. В какой-то момент он почти случайно приобщился к кругу коммунистических литераторов, а потом и к партии. До 1939 года это, несомненно, показалось бы ему немыслимым. На очень короткое время он даже стал «сталинистским» писателем, приняв стиль и манеру, диктуемые партией.
Его судьба была драматичной, но едва ли редкой. Польский социолог Хана Швида-Земба, также попытавшаяся реконструировать довоенную мораль своего поколения – людей, родившихся в конце 1920-х – начале 1930-х годов, рисует очень похожую картину. Ее сверстники росли с глубочайшей верой в польское государство и его особое предназначение. Само понятие «Польша» было для них принципиально важным, поскольку польское государство возродилось лишь в 1918 году, и они стали первыми учениками учрежденных им школ. Эту молодежь воспитывали в духе служения родине, и когда эта родина погибла – у нее ничего не осталось[81 - Hanna Swida-Ziemba. Urwany Lot: Pokolenie inteligenckiej mlodziezy powojennej w swietle listоw i pamietnikоw z lat 1945–1948. Krakоw, 2003. P. 30–50.]. Многие вымещали свое разочарование, ругая довоенных авторитарных политиков правого спектра, а также генералов, оказавшихся неспособными подготовить Польшу к войне. Польский писатель Тадеуш Боровский, например, высмеивал «сахарный» патриотизм довоенного периода: «Ваша родина – мирный угол и полено, уютно пылающее в очаге. Моя родина – сгоревший дом и повестка из НКВД»[82 - Цит. по: Anna Bikont, Joanna Szczesna. Lawina i Kamienie: Pisarze wobec Komunizmu. Warsaw, 2006. P. 69–79.].
Для молодых германских нацистов опыт крушения был еще катастрофичнее, поскольку им внушался не просто патриотизм, а убежденность в том, что немцы превосходят все другие народы физически и ментально. Ханс Модров, впоследствии один из видных лидеров ГДР, в 1946 году был так же дезориентирован, как и его польский сверстник Тадеуш Конвицкий. Будучи активистом нацистского молодежного движения, он вступил в Volkssturm, «Народное ополчение», оказывавшее сопротивление Красной армии в последние дни войны. В то время его переполняла ненависть к большевикам, которые, как ему настойчиво внушали, были неполноценными людьми, уступавшими немцам во всем. Но в мае 1945 года, после пленения красноармейцами, он пережил глубочайшее мировоззренческое потрясение. Вместе с другими немецкими пленными его посадили в грузовик и отправили работать на ферму. «Я был молод, и мне захотелось помочь, – рассказывает Модров. – Стоя в кузове, я швырял вниз чужие вещевые мешки, а потом, передав кому-то свой рюкзак, спрыгнул на землю. Но, оглянувшись, я увидел, что моего рюкзака нет – его украли. Причем сделал это не советский солдат, а один из нас, немцев. Впрочем, на следующий день Красная армия всех уравняла: рюкзаки отобрали у всех без исключения, а взамен каждый получил миску и ложку. Но из-за этого эпизода я пересмотрел былые представления о так называемом немецком боевом братстве»[83 - Ханс Модров, личное интервью, Берлин, 7 декабря 2006.].
Еще через несколько дней юношу определили водителем к советскому капитану, который как-то спросил, читал ли он Генриха Гейне. Модров никогда не слышал о Гейне; его уязвило то, что люди, считавшиеся неполноценными и ущербными, знают о немецкой культуре больше, чем он сам. Позднее Модрова отправили в лагерь для военнопленных в Подмосковье. Там его отобрали в качестве слушателя «антифашистской» школы и обучили основам марксизма-ленинизма, причем молодой немец с жадностью впитывал новые знания. Травма, причиненная крушением Германии, была столь сильна, что он с готовностью обратился к идеологии, к которой ему с детства внушали ненависть. Со временем он начал чувствовать даже благодарность за это. Коммунистическая партия предоставила ему шанс исправить ошибки прошлого – и Германии в целом, и свои собственные. Стыд за то, что некогда он был правоверным нацистом, теперь можно было изжить.
Но воспоминания о войне вычеркнуть из памяти невозможно. О таком прошлом очень трудно рассказывать людям, которые не переживали ничего подобного и не сталкивались со столь вопиющим человеческим безразличием к чужим страданиям. «Люди в странах Запада, а особенно американцы, кажутся нашему интеллектуалу несерьезными именно потому, что они не прошли через опыт, который учит понимать относительность любых суждений и привычек, – пишет Чеслав Милош. – Отсутствие воображения у них ужасающее»[84 - Чеслав Милош. Порабощенный разум, с. 75.]. Этому автору стоило бы добавить, что обратное так же верно: жителям Восточной Европы тоже не хватало реализма в оценке своих западных соседей.
Западноевропейцы и американцы никогда не относились к советскому коммунизму равнодушно, будь то до войны или после нее. Ожесточенные дебаты о сущности нового большевистского строя и коммунизма в целом кипели в большинстве западных столиц задолго до 1945 года. Американские газеты начали писать о «красной чуме» в 1918 году. В Вашингтоне, Лондоне и Париже уже в 1920-е и 1930-е годы много рассуждали об угрозе либеральной демократии, которую несет в себе коммунизм.
Даже во время военного союзничества со Сталиным большинство британских и американских государственных деятелей, непосредственно имевших дело с Россией, разделяли немало сомнений относительно его послевоенных планов и не строили иллюзий по поводу сути его режима. «Заявления немцев вполне могут оказаться правдивыми, – говорил Уинстон Черчилль лидерам польской эмиграции после того, как нацисты обнаружили в Катынском лесу останки тысяч польских офицеров, убитых НКВД, – ибо большевики способны на крайнюю жестокость»[85 - Неопубликованная лекция Мартина Гилберта «Черчилль и Польша», прочитанная в Варшавском университете 16 февраля 2010 года. Я благодарю профессора Гилберта за возможность использовать этот материал.]. Джордж Кеннан, американский дипломат, разрабатывавший основные принципы послевоенной политики США в отношении СССР, все военные годы провел в Москве, откуда «бомбардировал вашингтонских бюрократов своими исследованиями коммунистического зла»[86 - Peter Grose. Operation Rollback. New York, 2000. P. 2.]. Дин Ачесон, заместитель государственного секретаря, сравнивал переговоры с советскими представителями летом 1944 года с попыткой привести в действие старенький автомат по продаже сигарет: «Иной раз процесс можно ускорить, если эту штуку как следует встряхнуть, но вот разговаривать с ней совершенно бесполезно»[87 - Dean Acheson. Present at the Creation. New York, 1987. P. 85.].
Впрочем, подобные технические сложности не имели особого значения. В своих мемуарах Ачесон, суммируя впечатления от тех переговоров, отмечает: «Мы, сотрудники Государственного департамента, очень скоро забыли об этой обескураживающей русской комедии под натиском более серьезных событий»[88 - Ibid.]. Действительно, в годы сражений Вашингтон и Лондон были вынуждены беспокоиться о всевозможных «более серьезных событиях». До самого конца войны поведение русских в Восточной Европе почти всегда оставалось делом вторичным.
Нигде это не проявилось столь ярко, как в неофициальных отчетах о Тегеранской конференции в ноябре 1943 года и Ялтинской конференции в феврале 1945-го, на которых Сталин, Рузвельт и Черчилль с поразительной беззаботностью решали судьбы европейских народов. Когда на первой встрече в Тегеране встал вопрос о польских границах, Черчилль пообещал Сталину, что тот сможет сохранить за собой кусок польской территории, проглоченный им в 1939 году, а Польша в порядке компенсации переместится немного западнее прежней своей границы. Затем он «с помощью трех спичек продемонстрировал, как Польша будет передвигаться на Запад». Это, сообщает очевидец, «весьма порадовало маршала Сталина»[89 - Лекция Мартина Гилберта «Черчилль и Польша».]. В Ялте Рузвельт нерешительно предложил провести восточную границу Польши так, чтобы она включила город Львов и находящиеся в этом районе нефтяные месторождения. Сталин тогда, казалось, был благосклонен вполне, но на него не надавили, и идея была похоронена. Так предрешали национальную идентичность сотен тысяч людей.
Все упомянутые факты отнюдь не свидетельствуют о злой воле в отношении региона; они говорят лишь о более значимых приоритетах. Например, Рузвельта в Ялте более всего занимал дизайн задуманной Организации Объединенных Наций, в которой он видел структуру, способную предотвращать войны будущего. Для конструирования новой международной системы ему была нужна советская поддержка со стороны. Он также хотел, чтобы русские приняли участие во вторжении в Манчьжурию и разрешили американцам использовать советские военно-морские базы на Дальнем Востоке. Все это казалось ему более важным, чем судьба Польши или Чехословакии. Кроме того, в его повестке дня стояли и другие вопросы – от будущего итальянской монархии до ближневосточной нефти. В то время как в послевоенных расчетах Сталина Восточной Европе отводилось первостепенное место, для американского президента она была на периферии[90 - Обстоятельный анализ этой ситуации предлагается в работе: Antoni Z. Kaminski, Bartlomiej Kaminski. Road to "People's Poland": Stalin's Conquest Revisited // Vladimir Tismaneanu, ed. Stalinism Revisited: The Establishment of the Communist Regimes in East Central Europe and the Dynamics of the Soviet Bloc. New York and Budapest, 2009. P. 205–211; Roberts. Masters and Commanders, p. 548–558.].
Черчилль между тем отдавал себе отчет в том, насколько слабы позиции его страны. У него не было ни малейших иллюзий касательно способности британцев заставить Красную армию уйти из Польши, Венгрии или Чехословакии. Согласно его мемуарам, накануне встречи в Ялте он говорил Рузвельту, что союзникам следует оккупировать как можно больше австрийской территории, поскольку в Западной Европе русским надо передавать лишь то, что нельзя не отдать. Не совсем ясно, на каком основании принадлежность Австрии к «Западу» казалась ему более несомненной, нежели Венгрии или Чехословакии. Но в целом фатализм Черчилля очевиден: раз Красная армия пришла, выдворить ее уже не удастся[91 - Winston Churchill. The Second World War, vol. VI: Triumph and Tragedy. London, 1985. P. 300.].
Оба лидера понимали, что, как только война закончится, их избиратели потребуют скорейшего возвращения домой своих мужей, братьев и сыновей.
В таких условиях «продать» электорату конфликт с Советским Союзом будет крайне трудно. Пропаганда времен войны изображала Сталина в качестве весельчака «дядюшки Джо», неотесанного друга людей труда, которого и Черчилль, и Рузвельт превозносили в своих официальных речах. В Лондоне его поклонники организовывали благотворительные концерты в пользу Советского Союза и открыли бюст Ленина возле одной из бывших лондонских квартир советского вождя[92 - Robert Service. Comrades. London, 2007. P. 220.]. А в Америке бизнесмены мечтали извлечь из новой дружбы выгоду. «Когда война закончится, Россия станет если и не самым крупным, то самым желанным потребителем наших товаров», – заявлял президент американской Торговой палаты[93 - Ibid., p. 222.]. В подобных условиях сказать уставшим от войны британцам или американцам о том, что их солдатам придется остаться в Европе ради новой борьбы, теперь уже с Советским Союзом, было бы очень трудно, если вообще не невозможно.
Трудности в плане организации отпора русским в Европе были еще значительнее. Черчилль, которого никогда не устраивала советская оккупация Берлина, еще весной 1945 года приказал своим специалистам по стратегическому планированию изучить перспективы нападения союзников на Красную армию в Центральной Европе с возможным привлечением к этой задаче польских и даже немецких войск. В результате замысел операции «Немыслимое» отвергли в силу его непрактичности. Военные предупреждали британского премьер-министра о том, что советские войска численно превосходят английские в три раза, а результатом операции может стать «затяжная и дорогостоящая» военная кампания или даже «тотальная война». Сам Черчилль написал на полях проекта, что нападение на Красную армию представляется ему «в высшей степени маловероятным», хотя некоторые элементы операции «Немыслимое» позже были использованы в планировании отражения возможной советской атаки на Британию[94 - Подробнее о проекте операции «Немыслимое» в первоначальном и окончательном варианте см.: http://web.archive.org/web/20101116152301/ http://www.history.new.edu/PRO].
В установках Запада сказывался также и элемент наивности, о котором сокрушался Милош: Рузвельт, например, до конца жизни неустанно высказывал убеждение в добрых намерениях Сталина. «Не беспокойтесь, – утешал он главу польского правительства в изгнании Станислава Миколайчика в 1944 году, – Сталин вовсе не собирается отобрать у Польши свободу. Он не посмеет сделать это, поскольку знает, что вас твердо поддерживает правительство Соединенных Штатов»[95 - Stanislaw Mikolajczyk. The Rape of Poland. New York, 1948. P. 60.]. Примерно через год после этого американцы и англичане согласились передать Советскому Союзу руководство Союзной контрольной комиссией в Будапеште, созданной для послевоенного управления Венгрией. Это было сделано на том условии, что СССР будет согласовывать с союзниками любые указания, отдаваемые венгерскому правительству. Но на практике Советский Союз даже не пытался делать это[96 - Lаszlо Borhi. Hungary in the Cold War, 1945–1956: Between the United States and the Soviet Union. New York and Budapest, 2004. P. 36.].
Позже некоторые исследователи утверждали, что сторонники коммунистов в американском правительстве и «просоветские элементы» в Вашингтоне влияли и на послевоенную политику США[97 - Mikolajczyk. The Rape of Poland, 25.]. Но хотя Альгер Хисс, вероятно, самый скандально известный знаменитый советский агент влияния, входил в состав американской делегации в Ялте, его вмешательство вовсе не требовалось. Стенограммы конференции ясно свидетельствуют, что интересы Черчилля и Рузвельта не предполагали вытеснения Советского Союза из Восточной Европы[98 - John Earl Haynes, Harvey Klehr, Alexander Vassiliev. Spies: The Rise and Fall of the KGB. New Haven, 2009. P. 20–26.]. Западные лидеры были прагматиками. В Ялте, по воспоминаниям американского генерала, «всего лишь были признаны те факты, которые и без того уже имели место, – никакого выбора делать там не пришлось»[99 - Roberts. Masters and Commanders, p. 556.].
Такое положение вещей оставалось в силе на протяжении всей холодной войны. Даже когда западная риторика становилась предельно агрессивной, предпринимались все меры, чтобы не допустить развязывания нового европейского конфликта. Ни тогда, ни позже США и Великобритания не желали войны с Советским Союзом. В 1953 году, когда после смерти Сталина забастовки и уличные протесты захлестнули Восточный Берлин, союзные власти в Западном Берлине не только проявляли крайнюю сдержанность, но и предостерегали западных немцев от вмешательства во внутренние дела ГДР[100 - Hubertus Knabe. 17 Juni 1953 – Ein deutscher Aufstand. Berlin, 2004. P. 402–406.]. Во время венгерской революции 1956 года государственный секретарь США Джон Фостер Даллес, признанный «рыцарь» холодной войны, также отрицал любую американскую вовлеченность в будапештские события, заверяя советское правительство о том, что Америка «не рассматривает эти нации в качестве потенциальных военных союзников»[101 - Csaba Bеkеs, Malcolm Byrne, Jаnos Rainer, eds. The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents. Budapest and New York, 2002. P. 209.].
Впрочем, жители Восточной Европы зачастую оказывались более наивными, чем западные союзники. В Венгрии прозападные политики склонялись к мнению о том, что их страну освободят англичане. Многих, по словам историка Ласло Борхи, «поддерживала иррациональная вера в мнимое геополитическое значение Венгрии»; эти люди ожидали британского вторжения с Балкан начиная с 1944 года[102 - Lаszlо Borhi. Hungary in the Cold War, p. 21.]. Поскольку их страна была бастионом западного христианства в борьбе с Османской империей, им казалось, что аналогичную роль она будет играть и в XX веке. «Западные державы не позволят русским доминировать в столь важной географической зоне», – с убежденностью заявлял один венгерский дипломат. Поляки, о политическом будущем которых горячо спорили союзные лидеры, также были уверены, что британцы не бросят страну, которая ради них объявила войну Германии, а Соединенным Штатам сделать это не позволит влиятельное польско-американское лобби. Наконец, восточным немцам столь же трудно было поверить в появление границы между двумя Германиями: неужели Запад допустит разделение страны?
Но Запад не только допустил, но и принял это, точно так же как он смирился с разделением всей Европы. И хотя, разумеется, никто из западных лидеров, будь то в Вашингтоне, Лондоне или Париже, не мог предвидеть грандиозности физических, психологических и политических изменений, приносимых Красной армией в каждую оккупированную ею страну, воспрепятствовать ее приходу они не слишком пытались.
Глава 2
Победители
В последние месяцы, проведенные при нацистах, почти все из нас симпатизировали русским. Мы ждали света, который придет с Востока. Но этот свет сжег потом слишком многих. Произошло слишком много такого, что не поддавалось объяснению. Темные улицы до сих пор каждую ночь содрогаются от воплей убитых горем женщин.
Рут Андреас-Фридрих[103 - Ruth Andreas-Friedrich. Battleground Berlin: Diaries, 1945–1948. New York, 1990. P. 36.]
Русские… вычистили местное население настолько радикально, что сравниться с ними в этом могли только азиатские орды.
Джордж Кеннан[104 - George Kennan. Memoirs: 1925–1950. New York, 1967. P. 74.]
В Будапеште Джон Лукач увидел «надвигающееся с востока целое море русских, одетых в серо-зеленые шинели»[105 - John Lukacs. 1945: Year Zero. New York, 1978. P. 256.]. А в пригороде Восточного Берлина Лутц Раков наблюдал «танки, танки, танки, танки» и шагающих по обочинам солдат, среди которых были «амазонки с золотыми косами»[106 - Лутц Раков, личное интервью, Берлин, 1 апреля 2008.]. Это была Красная армия: голодные, злые, измотанные, ожесточившиеся в боях мужчины и женщины, некоторые из которых по-прежнему носили ту форму, которую два года назад впервые примерили под Сталинградом или Курском. И каждый солдат, хранящий в памяти невероятное насилие, ожесточался от того, что он видел, слышал и делал теперь.
Последнее советское наступление началось в январе 1945 года, когда Красная армия в центральной Польше форсировала Вислу. Быстро миновав опустошенную западную Польшу и Прибалтику, «Иваны» к середине февраля после жестокой осады взяли Будапешт, а в марте заняли Силезию.
Наступление на Кёнигсберг успешно завершилось в апреле. К тому времени две огромные армейские группировки, 1-й Белорусский фронт и 1-й Украинский фронт, уже стояли на подступах к Берлину, готовясь к последнему штурму. 30 апреля Гитлер покончил с собой. Спустя неделю, 7 мая, генерал Альфред Йодль от имени верховного командования вермахта подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.
По мере того как Восточный фронт приближался к самой Германии, бои становились все ожесточеннее. Красная армия шла на Берлин с упорством, граничащим с одержимостью. Еще в ранние дни войны советские солдаты, прощаясь, говорили друг другу: «Увидимся в Берлине!» Сталину отчаянно хотелось войти в город прежде, чем там окажутся союзники. Это понимали и его командиры, и американские «братья по оружию». Генерал Эйзенхауэр, прекрасно осознавая, что в Берлине немцы будут биться до последнего патрона, желал сберечь жизни американских солдат и решил позволить Сталину взять город. Черчилль возражал против такой политики: «Если русские возьмут Берлин, у них сложится представление, что именно их стараниями обеспечена наша общая победа, а такой их настрой чреват для нас серьезными трудностями в будущем»[53 - Wolfgang Schivelbusch. In a Cold Crater: Cultural and Intellectual Life in Berlin, 1945–1948. Berkeley, 1998. P. 8–9.]. Но американская осторожность генерала взяла верх: войска союзников наступали на восток не спеша. Генерал Джордж Маршалл заявил, что «не склонен рисковать американскими жизнями ради политических целей», а британский фельдмаршал сэр Алан Брук настаивал на том, что «рубежи наступления должны в основном совпасть с линией будущей границы»[54 - Andrew Roberts. Masters and Commanders. London, 2008. P. 561, 569.]. Между тем Красная армия шла прямиком к немецкой столице, оставляя за собой шлейф разрушений.
Если сложить все цифры, результат будет ошеломляющим. В Великобритании война унесла жизни 360 тысяч человек, а во Франции 590 тысяч. Это ужасающие потери, но они все же не превышают 1,5 процента от численности населения этих стран. По контрасту, согласно подсчетам Польского института национальной памяти, Польша за годы войны потеряла 5,5 миллиона человек, 3 миллиона из которых составили евреи. В целом это 20 процентов польского населения, или каждый пятый. Даже в тех странах, где борьба не была столь кровавой, пропорция смертей выше, чем на Западе. Югославия потеряла 1,5 миллиона человек, или 10 процентов населения. В Венгрии потери составили 6,2 процента, в Чехословакии – 3,7 процента[55 - Bradley Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 631; Ivаn T. Berend, Tamаs Csatо. Evolution of the Hungarian Economy, 1848–1998, vol. 1. Boulder, 2001. P. 253.]. В самой Германии погибли от 6 до 9 миллионов человек, в зависимости от того, кого, учитывая подвижность границ, считать немцем, или около 10 процентов[56 - Согласно последним данным, армейские потери Германии составили 5 миллионов 318 тысяч убитыми, см.: Rudiger Overmans. Deutsche milit?rische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Munich, 2004. S. 260. Остальные потери приходятся на долю гражданских лиц, которые умерли от голода или болезней, в ходе депортаций и изгнания, или погибли во время бомбежек.]. В Восточной Европе 1945 года трудно было найти семью, где не было бы погибших.
Когда послевоенная жизнь понемногу начала налаживаться, стало ясно, что многие люди, оставшиеся в живых, очутились в чужих местах. В 1945 году демографическая картина и этнический состав стран региона заметно отличались от того, какими они были в 1938 году. Фундаментальные сдвиги, вызванные нацистской оккупацией Восточной Европы и сопровождавшими ее переселениями и депортациями, до сих пор недостаточно полно осознаются западноевропейцами. Германские «колонисты» заселяли Польшу и Чехословакию; переселенческая политика немцев была направлена на изменение этнического состава населения конкретных регионов, где местных жителей зачастую изгоняли или уничтожали. Уже в декабре 1939 года поляков и евреев выставляли за порог их домов в лучших кварталах Лодзи, чтобы освободить квартиры для немецких чиновников. В последующие годы 200 тысяч поляков, проживавших в этом городе, были отправлены на принудительные работы в Германию; евреев же согнали в городское гетто, в котором большинство из них погибли[57 - Janusz Wrobel. Bilans Okupacji Niemieckiej w Lodzi 1939–1945 // Rok 1945 w Lodzi, p. 13–30.]. На их места оккупационный режим привлек немцев, включая этнических немцев из Балтийских стран и Румынии, некоторые из которых полагали, что им передается брошенная или ничейная собственность[58 - Несколько лет назад мой муж получил письмо от немца, уроженца Прибалтики, семье которого в военные годы был передан наш нынешний сельский дом, находящийся в центральной Польше. Он приложил фотографию своих улыбающихся немецких родителей, одетых для верховой езды и сидящих на ступеньках нашего дома. Он также вспоминал, что доставшаяся им собственность была в очень запущенном состоянии, добавив, что его отец вложил много труда, чтобы привести ее в порядок. В письме высказывалась надежда на то, что люди, теперь там живущие, хотя бы иногда добром вспоминают прежних хозяев. Однако мы не вспоминаем о них вообще.].
В послевоенный период происходили обратные процессы. 1945, 1946 и 1947 год стали годами беженцев. Немцы перебирались на запад, поляки и чехи возвращались с немецких фабрик и из концлагерей, депортированные ехали из Советского Союза, солдаты различных армий шли к своим семьям, беженцы возвращались из британского, французского или марокканского прибежищ. Некоторые из беженцев, вернувшись в родные края и обнаружив, что их дома больше нет, отправлялись на новые места. Согласно подсчетам Яна Гросса, в 1939–1943 годах 30 миллионов европейцев были изгнаны, переселены или депортированы. В 1943–1948 годах такая судьба постигла еще 20 миллионов[59 - Jan Gross. War as Revolution, p 23.]. Кристина Керстен отмечает, что в 1939–1950 годах каждый четвертый поляк сменил место жительства[60 - Kersten. The Establishment of Communist Rule in Poland, p. 165.].
В подавляющем большинстве эти люди возвращались домой с пустыми руками. Они сразу же были вынуждены обращаться за любой помощью: к церкви, благотворительным организациям, государству. Целые семьи, обеспечивавшие себя до войны, теперь простаивали в очередях в правительственных учреждениях, надеясь получить дом или квартиру. Мужчины, некогда зарабатывавшие, теперь надеялись на продуктовые карточки или на должность в государственном аппарате. Ментальность беженца, насильственно изгнанного из дома, не похожа на ментальность эмигранта, оставляющего родину в поисках лучшей доли: сами обстоятельства его новой жизни закрепляют зависимость и беспомощность, незнакомые ему прежде.
Еще более усугубляло общую картину то, что физические разрушения вызвали чудовищный экономический упадок. Конечно, не каждая страна Восточной Европы до войны славилась богатством, но отставание региона от западной части европейского континента в 1939 году отнюдь не было таким грандиозным, каким оно стало в 1945-м. И хотя на некоторых группах населения военный спрос на пушки и танки сказался позитивно, в частности специалисты по экономической истории указывают на расширение промышленного рабочего класса, особенно в Богемии и Моравии, – вторая половина войны стала катастрофой буквально для каждого[61 - M. C. Kaser, E. A. Radice. The Economic History of Eastern Europe, 1919–1945, vol. II: Interwar Policy, the War and Reconstruction. Oxford, 1986. P. 466–472.]. В 1945–1946 годах венгерский ВВП составлял всего лишь половину от уровня 1939 года. Согласно одной из имеющихся оценок, в последние месяцы войны страна лишилась 40 процентов своей экономической инфраструктуры[62 - Ivаn Peto, Sаndor Szakаcs. A hazai gazdasаg nеgy еvtizedеnek t?rtеnete, 1945–1985, vol. I. Az ?jjаеp?tеs еs a tervutas?tаsos irаny?tаs idoszaka. 1945–1968. Budapest, 1985. P. 17–25.]. В Будапеште от боевых действий пострадали 75 процентов всех зданий, из которых 4 процента были разрушены полностью, а 22 процента стали непригодными для обитания. Население города сократилось на треть[63 - Berend, Csatо. Evolution of the Hungarian Economy, p. 254–255.]. Уходя из Венгрии, немцы вывезли с собой почти весь подвижной состав венгерских железных дорог, а советская армия позже под видом репараций забрала то, что осталось[64 - Kaser, Radice. Economic History of Eastern Europe, vol. II, p. 504–506.].
Ущерб, нанесенный Польше, также измеряется цифрой в 40 процентов, хотя в некоторых областях разруха была еще большей. Особенно пострадала транспортная система страны: разрушению подверглись половина мостов, порты, две пятых всего железнодорожного полотна. Большой урон понесли крупнейшие польские города: они лишились жилого фонда, старинных памятников архитектуры, университетов и школ. В историческом центре Варшавы около 90 процентов зданий было частично или полностью разрушено целенаправленно взрывавшими их отступающими германскими войсками[65 - Janusz Kalinski, Zbigniew Landau. Gospodarka Polski w XX wieku, p. 159–189.].
Города Германии также сильно пострадали, как из-за авиационных бомбардировок союзников, вызывавших колоссальные пожары, так и по причине гитлеровского приказа, требовавшего от солдат стоять насмерть. Даже в Чехословакии, Болгарии и Румынии, где разрушения не были столь значительными, а авиационные налеты не применялись, ущерб оказался очень серьезным. В Румынии, например, было разрушено все нефтяное оборудование, до 1938 года обеспечивавшее треть ее национального дохода[66 - Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 634.].
Война повлияла на экономику региона и в других аспектах, неотражаемых статистически. В двух известных эссе о последствиях войны Ян Гросс и Брэдли Эбрамс указывают, что в большей части региона, в частности в Венгрии, Чехословакии, Польше и Румынии, а также в самой Германии, масштабная экспроприация частной собственности началась еще в военные годы, при нацистских и фашистских властях, а вовсе не при коммунистах. За массовой конфискацией еврейских предприятий и собственности, осуществляемой государством или немецкими оккупантами, следовала масштабная германизация. Иногда она проходила скрытно: в чешских землях, например, местные банки находились под контролем немецких банков, которые «сами решали, являются ли те или иные чешские банки или фирмы платежеспособными, а в случае неплатежеспособности оздоровительные мероприятия поручали немецкому бизнесу, укреплявшему тем самым свои позиции»[67 - Kaser, Radice. Economic History of Eastern Europe, vol. II, p. 338–339.]. Иногда диктат навязывался напрямую. Так, в Польше во главе предприятий, которые технически по-прежнему принадлежали полякам, просто ставились немецкие директора.
Кроме того, оккупация переориентировала региональные экономики. В 1939–1945 годах экспорт их продукции в Германию удвоился или утроился; то же самое произошло и с немецкими инвестициями в здешнюю промышленность. С начала 1930-х годов среди немецких экономистов велись дебаты об экономической колонизации Восточной Европы, а в годы оккупации немецкий бизнес начал создавать здесь экономические колонии, зачастую путем присвоения еврейских и даже нееврейских предприятий[68 - Ibid., p. 299–308.]. Регион превратился в обособленный, закрытый рынок, каким он никогда прежде не был[69 - Jan Gross. The Social Consequences of War: Preliminaries to the Study of the Imposition of Communist Regimes in East Central Europe // Eastern European Politics and Societies, 3, 2 (Spring 1989), p. 198–214; Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 623–664; Kalinski, Landau. Gospodarka Polski w XX wieku, p. 159–189.]. Из-за этого вслед за крушением рейха обрушились и международные торговые связи Восточной Европы. Это обстоятельство впоследствии помогло Советскому Союзу занять место Германии.
В силу указанных причин крах Германии спровоцировал и кризис в отношениях собственности. К концу войны немецкие директора, управленцы и инвесторы бежали или были убиты. Многие предприятия, оставшись без владельцев, оказались брошенными. Иногда их брали под контроль рабочие советы, а иногда принимали местные власти. Большая часть этой покинутой собственности постепенно национализировалась – если, конечно, ее еще раньше не описывали, не упаковывали и не отправляли в Советский Союз, который относил любую немецкую собственность к законным военным трофеям. Интересно, что на местах подобный вывоз почти не встречал сопротивления[70 - Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 639.]. К 1945 году представление о том, что новые власти могут просто конфисковать частную собственность, не предлагая владельцам никакой компенсации, превратилось в Восточной Европе в устоявшийся принцип. И когда там началась широкомасштабная национализация, никто даже не удивился.
Из всех разновидностей ущерба, который принесла с собой Вторая мировая война, всего труднее определить масштабы психологической и эмоциональной травмы. Жестокость предыдущей, Первой мировой, войны породила поколение фашистских лидеров, интеллектуалов-идеалистов и художников-экспрессионистов, придававших человеческим формам нечеловеческие очертания и цвета. Но Вторая мировая вошла в повседневную жизнь более глубоко, поскольку на этот раз, наряду с кровавыми боями, в Европу пришли оккупации и массовое переселение гражданских лиц. Непрекращающееся и каждодневное насилие формировало человеческую душу разными способами, которым не всегда было легко дать определение.
Все это также чрезвычайно далеко от того, что происходило на Западе, особенно в англосаксонских странах. Польский поэт Чеслав Милош, пытаясь подчеркнуть ментальные различия между послевоенной Европой и послевоенной Америкой, писал о том, насколько глубоко закончившаяся война потрясла присущее людям ощущение естественного порядка вещей: «Наткнувшись вечером на труп на тротуаре, горожанин прежде побежал бы к телефону, собралось бы множество зевак, обменивались бы замечаниями и комментариями. Теперь он знает, что нужно быстро пройти мимо мрачного тела, лежащего в канаве, и не задавать лишних вопросов». Оказавшись в условиях оккупации, добропорядочные граждане перестают рассматривать бандитизм в качестве преступления, пишет Милош, по крайней мере когда он используется подпольем. Юноши из уважаемых и законопослушных семей среднего класса делаются отъявленными преступниками, для которых убийство человека более не представляет большой моральной проблемы. При оккупационном режиме считается нормальным делом менять имя и профессию, путешествовать по фальшивым документам, заучивать поддельную биографию, видеть, как людей ловят на улицах, словно разбежавшийся скот[71 - Czeslaw Milosz. The Captive Mind. London, 2001. P. 26–29. [Чеслав Милош. Порабощенный разум. Петербург, 2003. P. 73–74. – Прим. перев.]].
Табу, касавшиеся собственности, тоже рухнули, а воровство стало рутинным и даже патриотичным делом. Одни крали для того, чтобы поддержать партизанский отряд, группу Сопротивления или прокормить собственных детей. Другие с завистью наблюдали, как крадут другие: нацисты, преступники, партизаны. По мере того как война шла к концу, эпидемия воровства разрасталась. В послевоенном романе Шандора Мараи один из героев восхищается предприимчивостью мародеров, обыскивающих развалины разбомбленных зданий: «Они полагали, что пришло время спасать то, что еще не было разворовано нацистами, нашими местными фашистами, русскими или коммунистами, вернувшимися из-за границы. Они считали патриотическим долгом прибрать к рукам то, что еще оставалось, называя это занятие „спасательной операцией“»[72 - Sаndor Mаrai. Portraits of a Marriage, p. 272.].
В Польше, как вспоминает Марчин Заремба, интервал между уходом нацистских оккупантов и прибытием Красной армии был отмечен грабежами, захлестнувшими Люблин, Радом, Краков и Жешув. Поляки врывались в немецкие дома и магазины не для того, как объяснял один из них, «чтобы обзавестись чем-то нужным, а просто желая растащить немецкую собственность – в отместку за то, что немцы отобрали все у нас»[73 - Zaremba. Wielka Trwoga, p. 221–252.].
Непосредственно после завершения войны новая и более организованная волна мародерства накрыла бывшие немецкие территории Силезии и Восточной Пруссии, теперь отошедшие к Польше. Группы грабителей на легковых автомобилях, грузовиках, прочих транспортных средствах обшаривали полупустые города в поисках мебели, одежды, бытовой техники и других ценностей. «Специалисты», снаряженные варшавскими ресторанами и кафе, искали кофейные агрегаты и печное оборудование во Вроцлаве и Гданьске. Поначалу, вспоминает мемуарист, «воры не интересовались редкими книгами, но вскоре появились эксперты и в этой области». Наряду с немецким имуществом расхищалась и бывшая еврейская собственность; разорялись даже еврейские кладбища, под плитами которых крестьяне надеялись найти «запрятанные сокровища» или золотые зубы. В большинстве своем мародеры выбирали цели без всякого разбора. Вслед за подавлением Варшавского восстания в почти полностью разрушенной польской столице начались повальные кражи; «соседи, прохожие, солдаты» начали обшаривать брошенные квартиры и магазины буквально на следующий день после того, как трагически завершилась история польского Сопротивления. Поля вокруг лагеря Треблинка были перекопаны «охотниками за сокровищами» в 1946 году; в сентябре того же года местные жители набросились на поезд, потерпевший крушение неподалеку от Лодзи, но не для того, чтобы помочь пострадавшим, а стремясь быстрее других овладеть их ценными вещами[74 - Ibid.].
Хотя мародерская лихорадка в Польше и других странах постепенно пошла на убыль, она явно помогла сформировать терпимое отношение к коррупции и расхищению общественной собственности, которые позже стали повсеместным явлением. Насилие также вошло в норму, оставаясь в этом качестве на протяжении многих лет. События, которые за несколько месяцев до того вызвали бы широкое общественное возмущение, теперь больше никого не волновали. Спустя семьдесят лет один венгр поделился со мной ярким воспоминанием об ужасной сцене, имевшей место на будапештской улице: какого-то человека арестовали среди бела дня прямо на глазах у двоих его маленьких детей. «Отец вез малышей в маленькой коляске, но советских солдат это не остановило: они забрали отца, бросив детей одних прямо посреди дороги». Никому из пешеходов происходящее не показалось странным[75 - Чаба Скултети, личное интервью, Будапешт, 12 марта 2009.]. А когда за официальным прекращением боевых действий последовали новые рецидивы насилия – жестокое изгнание немецкого населения, нападения на возвращавшихся домой евреев, аресты мужчин и женщин, сражавшихся против Гитлера, разгоравшаяся в Польше и Прибалтийских государствах партизанская война, – это также никого не удивило.
Не всегда насилие было этническим или политическим. «Без драки в нашей деревне не решалась ни одна проблема», – вспоминает сельский учитель из Польши[76 - Zaremba. Wielka Trwoga, p. 87.]. У населения оставалось много оружия, и убийства были довольно частыми. Во многих регионах Восточной Европы вооруженные банды опустошали окрестности, живя за счет грабежей и убийств; зачастую они называли себя борцами за свободу, даже не имея никакого отношения к движению Сопротивления. Преступные шайки бывших солдат действовали во всех восточноевропейских городах, а криминальное насилие настолько тесно переплеталось с политическим насилием, что из хроник того времени не всегда можно понять, где преступность, а где политика. Всего лишь за две недели в конце лета 1945 года полиция только одного города в Польше зарегистрировала 20 убийств, 86 грабежей, 1084 кражи, 440 «политических преступлений» (термин не разъясняется), 125 случаев сопротивления властям, 29 прочих преступлений против власти, 92 поджога и 45 преступлений на сексуальной почве. «Главной проблемой, которая волнует граждан, остается отсутствие безопасности», – говорится в полицейском отчете, приводящем эту статистику[77 - Ibid., p. 273.].
Институциональный коллапс сопровождался нравственным разложением. Политические и общественные институты в Польше прекратили работать в 1939 году, в Венгрии – в 1944-м, в Германии – в 1945-м. Катастрофа утвердила в сердцах людей циничное отношение к тем обществам, в которых они выросли, и к ценностям, в которых их воспитывали. Это не удивительно: их общественные системы оказались слабыми, а ценностные ориентиры зыбкими. Опыт национального поражения, будь то в силу нацистской оккупации в 1939 году или союзнической оккупации в 1945-м, исключительно тяжело переживался теми, на чью долю он выпал.
С той поры многие пытались описать, что происходит с человеком, который ощущает распад окружающей цивилизации, видит разрушение того мира, где прошло его детство, понимает, что мораль его родителей и учителей прекратила существовать, а некогда почитаемых общенациональных лидеров больше нет. И все же, не пережив этого лично, понять такое довольно трудно. Такие характеристики, как «вакуум» или «пустота», используемые в применении к национальной катастрофе, какой является иностранная оккупация, недостаточны. Они не передают всей степени негодования, испытываемого людьми в отношении их довоенных и военных вождей, обрушившихся политических систем, своего «наивного» патриотизма. Сплошные потери – утрата жилища, семьи, школы – обрекали миллионы обывателей на неизбывное одиночество. Части Восточной Европы переживали этот крах в различное время и по-разному. Но когда бы и каким бы образом он ни происходил, крушение государства глубоко влияло на людей, в особенности на молодежь, многие представители которой вдруг осознавали, что все, чему их некогда учили, оказалось фальшивым. Кроме того, война лишила их нормального социального окружения и социальных связей. Многие действительно напоминали описанную Арендт «тоталитарную личность», «полностью изолированное человеческое существо, которое, не имея прочных социальных контактов с семьей, друзьями, товарищами или даже просто знакомыми, извлекает ощущение причастности к миру сугубо из принадлежности к какому-либо политическому движению и из членства в партии»[78 - Hannah Arendt. The Origins of Totalitarianism, p. 322–323.].
Именно таким был случай Тадеуша Конвицкого, польского писателя, который в годы войны стал партизаном. Родившись в патриотичной семье в восточной Польше, неподалеку от Вильнюса, он в годы войны с готовностью присоединился к вооруженному крылу польского Сопротивления, каким являлась Армия Крайова. Сначала он воевал с нацистами. Потом его отряд сражался с Красной армией. Когда борьба начала вырождаться в вооруженные грабежи и неспровоцированное насилие, Конвицкий задумался о том, стоит ли продолжать воевать. Он покинул лес и отправился в Польшу, в новых границах которой уже не было места его родному дому. По прибытии молодой человек осознал, что у него нет абсолютно ничего. Девятнадцатилетний бывший партизан имел в собственности пальто, маленький рюкзак и пачку фальшивых документов. У него не было ни семьи, ни друзей, ни образования. Подобную ситуацию можно считать типичной. Люциан Грабовский, молодой боец Армии Крайовой, воевавший в окрестностях Белостока, сложил оружие примерно в то же время и также понял, что у него ничего нет: «У меня не было костюма, поскольку довоенный теперь оказался мал, а в кошельке лежали лишь подобранный где-то американский доллар и несколько тысяч злотых, взятых моим отцом в долг у соседей. Это было все, что у меня осталось через четыре года борьбы с оккупантами»[79 - Karta, Lucjan Grabowski, II/1412.].
Конвицкий утратил доверие ко всему, во что верил прежде. «В годы войны я видел вокруг сплошное смертоубийство, – рассказывал он мне. – Прямо на моих глазах рассыпался мир высоких идей, гуманизма, морали. Я был одинок в опустошенной стране. Что было делать? И куда идти?»[80 - Тадеуш Конвицкий, личное интервью, Варшава, 17 сентября 2009.] Конвицкий скитался много месяцев, раздумывал о побеге на Запад, старался вернуться к своим «пролетарским корням», занимаясь физическим трудом. В какой-то момент он почти случайно приобщился к кругу коммунистических литераторов, а потом и к партии. До 1939 года это, несомненно, показалось бы ему немыслимым. На очень короткое время он даже стал «сталинистским» писателем, приняв стиль и манеру, диктуемые партией.
Его судьба была драматичной, но едва ли редкой. Польский социолог Хана Швида-Земба, также попытавшаяся реконструировать довоенную мораль своего поколения – людей, родившихся в конце 1920-х – начале 1930-х годов, рисует очень похожую картину. Ее сверстники росли с глубочайшей верой в польское государство и его особое предназначение. Само понятие «Польша» было для них принципиально важным, поскольку польское государство возродилось лишь в 1918 году, и они стали первыми учениками учрежденных им школ. Эту молодежь воспитывали в духе служения родине, и когда эта родина погибла – у нее ничего не осталось[81 - Hanna Swida-Ziemba. Urwany Lot: Pokolenie inteligenckiej mlodziezy powojennej w swietle listоw i pamietnikоw z lat 1945–1948. Krakоw, 2003. P. 30–50.]. Многие вымещали свое разочарование, ругая довоенных авторитарных политиков правого спектра, а также генералов, оказавшихся неспособными подготовить Польшу к войне. Польский писатель Тадеуш Боровский, например, высмеивал «сахарный» патриотизм довоенного периода: «Ваша родина – мирный угол и полено, уютно пылающее в очаге. Моя родина – сгоревший дом и повестка из НКВД»[82 - Цит. по: Anna Bikont, Joanna Szczesna. Lawina i Kamienie: Pisarze wobec Komunizmu. Warsaw, 2006. P. 69–79.].
Для молодых германских нацистов опыт крушения был еще катастрофичнее, поскольку им внушался не просто патриотизм, а убежденность в том, что немцы превосходят все другие народы физически и ментально. Ханс Модров, впоследствии один из видных лидеров ГДР, в 1946 году был так же дезориентирован, как и его польский сверстник Тадеуш Конвицкий. Будучи активистом нацистского молодежного движения, он вступил в Volkssturm, «Народное ополчение», оказывавшее сопротивление Красной армии в последние дни войны. В то время его переполняла ненависть к большевикам, которые, как ему настойчиво внушали, были неполноценными людьми, уступавшими немцам во всем. Но в мае 1945 года, после пленения красноармейцами, он пережил глубочайшее мировоззренческое потрясение. Вместе с другими немецкими пленными его посадили в грузовик и отправили работать на ферму. «Я был молод, и мне захотелось помочь, – рассказывает Модров. – Стоя в кузове, я швырял вниз чужие вещевые мешки, а потом, передав кому-то свой рюкзак, спрыгнул на землю. Но, оглянувшись, я увидел, что моего рюкзака нет – его украли. Причем сделал это не советский солдат, а один из нас, немцев. Впрочем, на следующий день Красная армия всех уравняла: рюкзаки отобрали у всех без исключения, а взамен каждый получил миску и ложку. Но из-за этого эпизода я пересмотрел былые представления о так называемом немецком боевом братстве»[83 - Ханс Модров, личное интервью, Берлин, 7 декабря 2006.].
Еще через несколько дней юношу определили водителем к советскому капитану, который как-то спросил, читал ли он Генриха Гейне. Модров никогда не слышал о Гейне; его уязвило то, что люди, считавшиеся неполноценными и ущербными, знают о немецкой культуре больше, чем он сам. Позднее Модрова отправили в лагерь для военнопленных в Подмосковье. Там его отобрали в качестве слушателя «антифашистской» школы и обучили основам марксизма-ленинизма, причем молодой немец с жадностью впитывал новые знания. Травма, причиненная крушением Германии, была столь сильна, что он с готовностью обратился к идеологии, к которой ему с детства внушали ненависть. Со временем он начал чувствовать даже благодарность за это. Коммунистическая партия предоставила ему шанс исправить ошибки прошлого – и Германии в целом, и свои собственные. Стыд за то, что некогда он был правоверным нацистом, теперь можно было изжить.
Но воспоминания о войне вычеркнуть из памяти невозможно. О таком прошлом очень трудно рассказывать людям, которые не переживали ничего подобного и не сталкивались со столь вопиющим человеческим безразличием к чужим страданиям. «Люди в странах Запада, а особенно американцы, кажутся нашему интеллектуалу несерьезными именно потому, что они не прошли через опыт, который учит понимать относительность любых суждений и привычек, – пишет Чеслав Милош. – Отсутствие воображения у них ужасающее»[84 - Чеслав Милош. Порабощенный разум, с. 75.]. Этому автору стоило бы добавить, что обратное так же верно: жителям Восточной Европы тоже не хватало реализма в оценке своих западных соседей.
Западноевропейцы и американцы никогда не относились к советскому коммунизму равнодушно, будь то до войны или после нее. Ожесточенные дебаты о сущности нового большевистского строя и коммунизма в целом кипели в большинстве западных столиц задолго до 1945 года. Американские газеты начали писать о «красной чуме» в 1918 году. В Вашингтоне, Лондоне и Париже уже в 1920-е и 1930-е годы много рассуждали об угрозе либеральной демократии, которую несет в себе коммунизм.
Даже во время военного союзничества со Сталиным большинство британских и американских государственных деятелей, непосредственно имевших дело с Россией, разделяли немало сомнений относительно его послевоенных планов и не строили иллюзий по поводу сути его режима. «Заявления немцев вполне могут оказаться правдивыми, – говорил Уинстон Черчилль лидерам польской эмиграции после того, как нацисты обнаружили в Катынском лесу останки тысяч польских офицеров, убитых НКВД, – ибо большевики способны на крайнюю жестокость»[85 - Неопубликованная лекция Мартина Гилберта «Черчилль и Польша», прочитанная в Варшавском университете 16 февраля 2010 года. Я благодарю профессора Гилберта за возможность использовать этот материал.]. Джордж Кеннан, американский дипломат, разрабатывавший основные принципы послевоенной политики США в отношении СССР, все военные годы провел в Москве, откуда «бомбардировал вашингтонских бюрократов своими исследованиями коммунистического зла»[86 - Peter Grose. Operation Rollback. New York, 2000. P. 2.]. Дин Ачесон, заместитель государственного секретаря, сравнивал переговоры с советскими представителями летом 1944 года с попыткой привести в действие старенький автомат по продаже сигарет: «Иной раз процесс можно ускорить, если эту штуку как следует встряхнуть, но вот разговаривать с ней совершенно бесполезно»[87 - Dean Acheson. Present at the Creation. New York, 1987. P. 85.].
Впрочем, подобные технические сложности не имели особого значения. В своих мемуарах Ачесон, суммируя впечатления от тех переговоров, отмечает: «Мы, сотрудники Государственного департамента, очень скоро забыли об этой обескураживающей русской комедии под натиском более серьезных событий»[88 - Ibid.]. Действительно, в годы сражений Вашингтон и Лондон были вынуждены беспокоиться о всевозможных «более серьезных событиях». До самого конца войны поведение русских в Восточной Европе почти всегда оставалось делом вторичным.
Нигде это не проявилось столь ярко, как в неофициальных отчетах о Тегеранской конференции в ноябре 1943 года и Ялтинской конференции в феврале 1945-го, на которых Сталин, Рузвельт и Черчилль с поразительной беззаботностью решали судьбы европейских народов. Когда на первой встрече в Тегеране встал вопрос о польских границах, Черчилль пообещал Сталину, что тот сможет сохранить за собой кусок польской территории, проглоченный им в 1939 году, а Польша в порядке компенсации переместится немного западнее прежней своей границы. Затем он «с помощью трех спичек продемонстрировал, как Польша будет передвигаться на Запад». Это, сообщает очевидец, «весьма порадовало маршала Сталина»[89 - Лекция Мартина Гилберта «Черчилль и Польша».]. В Ялте Рузвельт нерешительно предложил провести восточную границу Польши так, чтобы она включила город Львов и находящиеся в этом районе нефтяные месторождения. Сталин тогда, казалось, был благосклонен вполне, но на него не надавили, и идея была похоронена. Так предрешали национальную идентичность сотен тысяч людей.
Все упомянутые факты отнюдь не свидетельствуют о злой воле в отношении региона; они говорят лишь о более значимых приоритетах. Например, Рузвельта в Ялте более всего занимал дизайн задуманной Организации Объединенных Наций, в которой он видел структуру, способную предотвращать войны будущего. Для конструирования новой международной системы ему была нужна советская поддержка со стороны. Он также хотел, чтобы русские приняли участие во вторжении в Манчьжурию и разрешили американцам использовать советские военно-морские базы на Дальнем Востоке. Все это казалось ему более важным, чем судьба Польши или Чехословакии. Кроме того, в его повестке дня стояли и другие вопросы – от будущего итальянской монархии до ближневосточной нефти. В то время как в послевоенных расчетах Сталина Восточной Европе отводилось первостепенное место, для американского президента она была на периферии[90 - Обстоятельный анализ этой ситуации предлагается в работе: Antoni Z. Kaminski, Bartlomiej Kaminski. Road to "People's Poland": Stalin's Conquest Revisited // Vladimir Tismaneanu, ed. Stalinism Revisited: The Establishment of the Communist Regimes in East Central Europe and the Dynamics of the Soviet Bloc. New York and Budapest, 2009. P. 205–211; Roberts. Masters and Commanders, p. 548–558.].
Черчилль между тем отдавал себе отчет в том, насколько слабы позиции его страны. У него не было ни малейших иллюзий касательно способности британцев заставить Красную армию уйти из Польши, Венгрии или Чехословакии. Согласно его мемуарам, накануне встречи в Ялте он говорил Рузвельту, что союзникам следует оккупировать как можно больше австрийской территории, поскольку в Западной Европе русским надо передавать лишь то, что нельзя не отдать. Не совсем ясно, на каком основании принадлежность Австрии к «Западу» казалась ему более несомненной, нежели Венгрии или Чехословакии. Но в целом фатализм Черчилля очевиден: раз Красная армия пришла, выдворить ее уже не удастся[91 - Winston Churchill. The Second World War, vol. VI: Triumph and Tragedy. London, 1985. P. 300.].
Оба лидера понимали, что, как только война закончится, их избиратели потребуют скорейшего возвращения домой своих мужей, братьев и сыновей.
В таких условиях «продать» электорату конфликт с Советским Союзом будет крайне трудно. Пропаганда времен войны изображала Сталина в качестве весельчака «дядюшки Джо», неотесанного друга людей труда, которого и Черчилль, и Рузвельт превозносили в своих официальных речах. В Лондоне его поклонники организовывали благотворительные концерты в пользу Советского Союза и открыли бюст Ленина возле одной из бывших лондонских квартир советского вождя[92 - Robert Service. Comrades. London, 2007. P. 220.]. А в Америке бизнесмены мечтали извлечь из новой дружбы выгоду. «Когда война закончится, Россия станет если и не самым крупным, то самым желанным потребителем наших товаров», – заявлял президент американской Торговой палаты[93 - Ibid., p. 222.]. В подобных условиях сказать уставшим от войны британцам или американцам о том, что их солдатам придется остаться в Европе ради новой борьбы, теперь уже с Советским Союзом, было бы очень трудно, если вообще не невозможно.
Трудности в плане организации отпора русским в Европе были еще значительнее. Черчилль, которого никогда не устраивала советская оккупация Берлина, еще весной 1945 года приказал своим специалистам по стратегическому планированию изучить перспективы нападения союзников на Красную армию в Центральной Европе с возможным привлечением к этой задаче польских и даже немецких войск. В результате замысел операции «Немыслимое» отвергли в силу его непрактичности. Военные предупреждали британского премьер-министра о том, что советские войска численно превосходят английские в три раза, а результатом операции может стать «затяжная и дорогостоящая» военная кампания или даже «тотальная война». Сам Черчилль написал на полях проекта, что нападение на Красную армию представляется ему «в высшей степени маловероятным», хотя некоторые элементы операции «Немыслимое» позже были использованы в планировании отражения возможной советской атаки на Британию[94 - Подробнее о проекте операции «Немыслимое» в первоначальном и окончательном варианте см.: http://web.archive.org/web/20101116152301/ http://www.history.new.edu/PRO].
В установках Запада сказывался также и элемент наивности, о котором сокрушался Милош: Рузвельт, например, до конца жизни неустанно высказывал убеждение в добрых намерениях Сталина. «Не беспокойтесь, – утешал он главу польского правительства в изгнании Станислава Миколайчика в 1944 году, – Сталин вовсе не собирается отобрать у Польши свободу. Он не посмеет сделать это, поскольку знает, что вас твердо поддерживает правительство Соединенных Штатов»[95 - Stanislaw Mikolajczyk. The Rape of Poland. New York, 1948. P. 60.]. Примерно через год после этого американцы и англичане согласились передать Советскому Союзу руководство Союзной контрольной комиссией в Будапеште, созданной для послевоенного управления Венгрией. Это было сделано на том условии, что СССР будет согласовывать с союзниками любые указания, отдаваемые венгерскому правительству. Но на практике Советский Союз даже не пытался делать это[96 - Lаszlо Borhi. Hungary in the Cold War, 1945–1956: Between the United States and the Soviet Union. New York and Budapest, 2004. P. 36.].
Позже некоторые исследователи утверждали, что сторонники коммунистов в американском правительстве и «просоветские элементы» в Вашингтоне влияли и на послевоенную политику США[97 - Mikolajczyk. The Rape of Poland, 25.]. Но хотя Альгер Хисс, вероятно, самый скандально известный знаменитый советский агент влияния, входил в состав американской делегации в Ялте, его вмешательство вовсе не требовалось. Стенограммы конференции ясно свидетельствуют, что интересы Черчилля и Рузвельта не предполагали вытеснения Советского Союза из Восточной Европы[98 - John Earl Haynes, Harvey Klehr, Alexander Vassiliev. Spies: The Rise and Fall of the KGB. New Haven, 2009. P. 20–26.]. Западные лидеры были прагматиками. В Ялте, по воспоминаниям американского генерала, «всего лишь были признаны те факты, которые и без того уже имели место, – никакого выбора делать там не пришлось»[99 - Roberts. Masters and Commanders, p. 556.].
Такое положение вещей оставалось в силе на протяжении всей холодной войны. Даже когда западная риторика становилась предельно агрессивной, предпринимались все меры, чтобы не допустить развязывания нового европейского конфликта. Ни тогда, ни позже США и Великобритания не желали войны с Советским Союзом. В 1953 году, когда после смерти Сталина забастовки и уличные протесты захлестнули Восточный Берлин, союзные власти в Западном Берлине не только проявляли крайнюю сдержанность, но и предостерегали западных немцев от вмешательства во внутренние дела ГДР[100 - Hubertus Knabe. 17 Juni 1953 – Ein deutscher Aufstand. Berlin, 2004. P. 402–406.]. Во время венгерской революции 1956 года государственный секретарь США Джон Фостер Даллес, признанный «рыцарь» холодной войны, также отрицал любую американскую вовлеченность в будапештские события, заверяя советское правительство о том, что Америка «не рассматривает эти нации в качестве потенциальных военных союзников»[101 - Csaba Bеkеs, Malcolm Byrne, Jаnos Rainer, eds. The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents. Budapest and New York, 2002. P. 209.].
Впрочем, жители Восточной Европы зачастую оказывались более наивными, чем западные союзники. В Венгрии прозападные политики склонялись к мнению о том, что их страну освободят англичане. Многих, по словам историка Ласло Борхи, «поддерживала иррациональная вера в мнимое геополитическое значение Венгрии»; эти люди ожидали британского вторжения с Балкан начиная с 1944 года[102 - Lаszlо Borhi. Hungary in the Cold War, p. 21.]. Поскольку их страна была бастионом западного христианства в борьбе с Османской империей, им казалось, что аналогичную роль она будет играть и в XX веке. «Западные державы не позволят русским доминировать в столь важной географической зоне», – с убежденностью заявлял один венгерский дипломат. Поляки, о политическом будущем которых горячо спорили союзные лидеры, также были уверены, что британцы не бросят страну, которая ради них объявила войну Германии, а Соединенным Штатам сделать это не позволит влиятельное польско-американское лобби. Наконец, восточным немцам столь же трудно было поверить в появление границы между двумя Германиями: неужели Запад допустит разделение страны?
Но Запад не только допустил, но и принял это, точно так же как он смирился с разделением всей Европы. И хотя, разумеется, никто из западных лидеров, будь то в Вашингтоне, Лондоне или Париже, не мог предвидеть грандиозности физических, психологических и политических изменений, приносимых Красной армией в каждую оккупированную ею страну, воспрепятствовать ее приходу они не слишком пытались.
Глава 2
Победители
В последние месяцы, проведенные при нацистах, почти все из нас симпатизировали русским. Мы ждали света, который придет с Востока. Но этот свет сжег потом слишком многих. Произошло слишком много такого, что не поддавалось объяснению. Темные улицы до сих пор каждую ночь содрогаются от воплей убитых горем женщин.
Рут Андреас-Фридрих[103 - Ruth Andreas-Friedrich. Battleground Berlin: Diaries, 1945–1948. New York, 1990. P. 36.]
Русские… вычистили местное население настолько радикально, что сравниться с ними в этом могли только азиатские орды.
Джордж Кеннан[104 - George Kennan. Memoirs: 1925–1950. New York, 1967. P. 74.]
В Будапеште Джон Лукач увидел «надвигающееся с востока целое море русских, одетых в серо-зеленые шинели»[105 - John Lukacs. 1945: Year Zero. New York, 1978. P. 256.]. А в пригороде Восточного Берлина Лутц Раков наблюдал «танки, танки, танки, танки» и шагающих по обочинам солдат, среди которых были «амазонки с золотыми косами»[106 - Лутц Раков, личное интервью, Берлин, 1 апреля 2008.]. Это была Красная армия: голодные, злые, измотанные, ожесточившиеся в боях мужчины и женщины, некоторые из которых по-прежнему носили ту форму, которую два года назад впервые примерили под Сталинградом или Курском. И каждый солдат, хранящий в памяти невероятное насилие, ожесточался от того, что он видел, слышал и делал теперь.
Последнее советское наступление началось в январе 1945 года, когда Красная армия в центральной Польше форсировала Вислу. Быстро миновав опустошенную западную Польшу и Прибалтику, «Иваны» к середине февраля после жестокой осады взяли Будапешт, а в марте заняли Силезию.
Наступление на Кёнигсберг успешно завершилось в апреле. К тому времени две огромные армейские группировки, 1-й Белорусский фронт и 1-й Украинский фронт, уже стояли на подступах к Берлину, готовясь к последнему штурму. 30 апреля Гитлер покончил с собой. Спустя неделю, 7 мая, генерал Альфред Йодль от имени верховного командования вермахта подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.