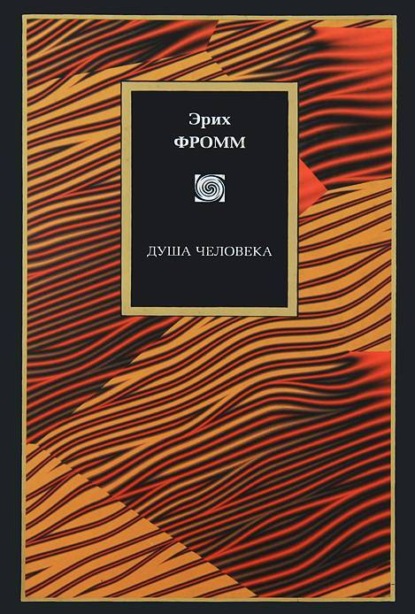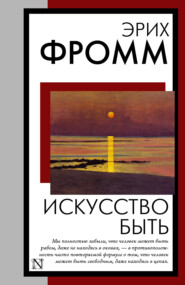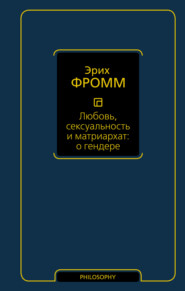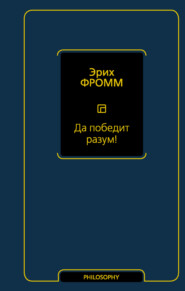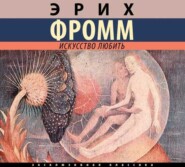По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Душа человека
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Душа человека
Эрих Фромм
Эрих Фромм – крупнейший мыслитель XX века, один из великой когорты «философов от психологии» и духовный лидер Франкфуртской социологической школы.
Труды Эриха Фромма актуальны всегда, ибо основной темой его исследований было раскрытие человеческой сущности как реализации продуктивного, жизнетворческого начала.
Эрих Фромм
Душа человека
Erich Fromm
THE HEART OF MAN
Печатается с разрешения The Estate of Erich Fromm and of Annis Fromm и литературного агентства Liepman AG, Literary Agency.
© Erich Fromm, 1964
© Перевод. В. Закс, 2006
© Издание на русском языке AST Publishers, 2010
От автора
В этой книге получают развитие идеи, к которым я уже обращался в своих более ранних произведениях. В работе «Бегство от свободы» я исследовал проблему свободы в связи с садизмом, мазохизмом и деструктивностью; между тем клиническая практика и теоретические размышления привели меня, как я полагаю, к более глубокому пониманию свободы, а также различных видов агрессивности и деструктивности. Теперь я могу отличать разные формы агрессивности, которые прямо или косвенно служат жизни, от злокачественной формы деструктивности – некрофилии, или подлинной любви к мертвому, являющейся противоположностью биофилии – любви к жизни и живому. В книге «Человек для себя» я обсуждал проблему этических норм, покоящихся на нашем знании человеческой природы, а не на откровениях или законах и традициях, созданных людьми. Здесь я продолжаю исследование в данном направлении, обращая особое внимание на изучение сущности зла и проблемы выбора между добром и злом. В известном смысле эта книга, главная тема которой – способность человека разрушать, его нарциссизм и инцестуальное влечение, противоположна моей работе «Искусство любить», где речь шла о способности человека к любви. Хотя обсуждение не-любви занимает большую часть данной работы, тем не менее в ней говорится и о любви, но в новом, более широком смысле – о любви к жизни. Я пытался показать, что любовь к живому в сочетании с независимостью и преодолением нарциссизма образует «синдром роста», противоположный «синдрому распада», который возникает из любви к мертвому, из инцестуального симбиоза и злокачественного нарциссизма.
Не только мой опыт клинициста, но также общественное и политическое развитие последних лет побудили меня к исследованию синдрома распада. Все настоятельнее звучит вопрос, почему, несмотря на всю добрую волю и осознание последствий атомной войны, попытки предотвратить ее так ничтожны по сравнению с величиной опасности и вероятностью ее возникновения. Полным ходом идет гонка атомных вооружений, продолжается «холодная война». Именно тревога побудила меня исследовать феномен безразличия по отношению к жизни во все более механизированном индустриальном мире. В этом мире человек стал вещью, и – как следствие этого – он со страхом и равнодушием, если не с ненавистью, противостоит жизни. Нынешняя склонность к насилию, проявляющаяся в молодежной преступности и политических убийствах, ставит перед нами задачу сделать первый шаг на пути к переменам. Возникает вопрос, идем ли мы по направлению к новому варварству, даже если дело не дойдет до атомной войны, или возможен ренессанс нашей гуманистической традиции.
Наряду с обсуждением данной проблемы в этой книге мне хотелось бы прояснить, как соотносятся мои психоаналитические представления с теорией Фрейда. Я никогда не соглашался с тем, что меня причисляли к новой «школе» психоанализа, как бы ее ни называли – «культурной школой» или «неофрейдизмом». Я убежден, что эти школы дали ценные результаты, однако некоторые из них отодвинули на задний план многие из важнейших открытий Фрейда. Я определенно не являюсь «ортодоксальным фрейдистом». Дело в том, что любая теория, которая не изменяется в течение 60 лет, именно по этой причине не является больше первоначальной теорией своего создателя; она, скорее, окаменелое повторение прежнего и как таковая в действительности превращается в установку. Свои основополагающие открытия Фрейд осуществил во вполне определенной философской системе, системе механистического материализма, последователями которого было большинство естествоиспытателей начала нашего столетия. Я считаю, что необходимо дальнейшее развитие идей Фрейда в другой философской системе, а именно в системе диалектического гуманизма. В этой книге я пытался показать, что на пути величайших открытий Фрейда – эдипова комплекса, нарциссизма, инстинкта смерти – стояли его мировоззренческие установки, и если эти открытия освободить от старой системы и перенести в новую, они станут более убедительными и значительными. Я думаю, что система гуманизма с ее парадоксальным смешением беспощадной критики, бескомпромиссного реализма и рациональной веры даст возможность для дальнейшего плодотворного развития здания, фундамент которого был заложен Фрейдом.
И еще одно замечание. Изложенные в этой книге мысли основываются на моей клинической деятельности как психоаналитика (и до известной степени на опыте моего участия в общественных процессах). Вместе с тем в ней мало используется документальных материалов, к которым я хотел бы обратиться в большей по объему работе, посвященной теории и практике гуманистического психоанализа.
В заключение я хочу поблагодарить Пола Эдвардса за критические замечания к главе о свободе, детерминизме и альтернативности.
Хочу подчеркнуть, что моя точка зрения на психоанализ ни в коем случае не является желанием подменить теорию Фрейда так называемым «экзистенциальным анализом». Этот эрзац теории Фрейда зачастую весьма поверхностен; понятия, заимствованные у Хайдеггера или Сартра (или Гуссерля), используются без их связи с тщательно продуманными клиническими фактами. Это относится как к известным «экзистенциальным психоаналитикам», так и к психологическим идеям Сартра, которые хотя и блестяще сформулированы, все же поверхностны и не имеют солидного клинического фундамента. Экзистенциализм Сартра, как и Хайдеггера, – это не новое начало, а конец. Оба говорят об отчаянии, постигшем западного человека после катастрофы двух мировых войн и режимов Гитлера и Сталина. Но у них речь идет не только о выражении отчаяния, но и о манифестации крайнего буржуазного эгоизма и солипсизма. У Хайдеггера, симпатизировавшего нацизму, это вполне можно понять. Гораздо больше сбивает с толку Сартр, который утверждает, что он – марксист и философ будущего, оставаясь при этом представителем духа общества беззакония и эгоизма, которое он критикует и хочет изменить. Что касается точки зрения, согласно которой жизнь имеет смысл, не дарованный и не гарантированный ни одним из богов, то она представлена во многих системах, среди религий – прежде всего в буддизме.
Сартр и его сторонники теряют важнейшее достижение теистических и нетеистических религий и гуманистической традиции, когда утверждают, что нет объективных ценностей, имеющих значение для всех людей, и существует понятие свободы, вытекающее из эгоистического произвола.
I. Человек – волк или овца?
Одни полагают, что люди – это овцы, другие считают их хищными волками. Обе стороны могут привести аргументы в пользу своей точки зрения. Тот, кто считает людей овцами, может указать хотя бы на то, что они с легкостью выполняют приказы других людей, даже в ущерб себе. Он может также добавить, что люди снова и снова следуют за своими вождями на войну, которая не дает им ничего, кроме разрушения, что они верят любой несуразице, если она излагается с надлежащей настойчивостью и подкрепляется авторитетом властителей – от прямых угроз священников и королей до вкрадчивых голосов более или менее тайных обольстителей. Кажется, что большинство людей, подобно дремлющим детям, легко поддается внушению и готово безвольно следовать за любым, кто, угрожая или заискивая, достаточно упорно их уговаривает. Человек с сильными убеждениями, пренебрегающий воздействием толпы, скорее исключение, чем правило. Он часто вызывает восхищение последующих поколений, но, как правило, является посмешищем в глазах своих современников.
Великие инквизиторы и диктаторы основывали свои системы власти как раз на утверждении, что люди – это овцы. Именно мнение, согласно которому люди – овцы и потому нуждаются в вождях, принимающих за них решения, нередко придавало самим вождям твердую убежденность, что они выполняли вполне моральную, хотя подчас и весьма трагичную обязанность: брали на себя руководство и снимали с других груз ответственности и свободы, давая людям то, что те хотели.
Однако если большинство людей – овцы, то почему они ведут жизнь, которая этому полностью противоречит? История человечества написана кровью. Это история никогда не прекращающегося насилия, поскольку люди почти всегда подчиняли себе подобных с помощью силы. Разве Талаат-паша сам убил миллионы армян? Разве Гитлер один убил миллионы евреев? Разве Сталин один убил миллионы своих политических противников? Нет. Эти люди были не одиноки, они располагали тысячами других людей, которые умерщвляли и пытали, делая это не просто с желанием, но даже с удовольствием. Разве мы не сталкиваемся повсюду с бесчеловечностью человека – в случае безжалостного ведения войны, в случае убийства и насилия, в случае беззастенчивой эксплуатации слабых более сильными? А как часто стоны истязаемого и страдающего существа наталкиваются на глухие уши и ожесточенные сердца! Такой мыслитель, как Гоббс, из всего этого сделал вывод: homo homini lupus est (человек человеку – волк). И сегодня многие из нас приходят к заключению, что человек от природы является существом злым и деструктивным, что он напоминает убийцу, которого от любимого занятия может удержать только страх перед более сильным убийцей.
И все же аргументы обеих сторон не убеждают. Пусть мы и встречали некоторых потенциальных или явных убийц и садистов, которые по своей беззастенчивости могли бы тягаться со Сталиным или с Гитлером, все же это были исключения, а не правила. Неужели мы действительно должны считать, что мы сами и большинство обычных людей только волки в овечьей шкуре, что наша «истинная природа» якобы проявится лишь после того, как мы отбросим сдерживающие факторы, мешавшие нам до сих пор уподобиться диким зверям? Хоть это и трудно оспорить, однако такой ход мысли нельзя признать вполне убедительным. В повседневной жизни есть возможности для проявления жестокости и садизма, причем нередко их можно реализовать, не опасаясь возмездия. Тем не менее многие на это не идут и, напротив, реагируют с отвращением, когда сталкиваются с подобными явлениями.
Может быть, есть другое, лучшее объяснение этого удивительного противоречия? Может быть, ответ прост и заключается в том, что меньшинство волков живет бок о бок с большинством овец? Волки хотят убивать, овцы хотят делать то, что им приказывают. Волки заставляют овец убивать и душить, а те поступают так не потому, что это доставляет им радость, а потому, что они хотят подчиняться. Кроме того, чтобы побудить большинство овец действовать, как волки, убийцы должны придумать истории о правоте своего дела, о защите свободы, которая якобы находится в опасности, о мести за детей, заколотых штыками, об изнасилованных женщинах и поруганной чести. Этот ответ звучит убедительно, но и после него остается много сомнений. Не означает ли он, что существуют как бы две человеческие расы – волки и овцы? Кроме того, возникает вопрос: если это не свойственно их природе, то почему овцы с такой легкостью соблазняются поведением волков, когда насилие представлено в качестве их священной обязанности? Может быть, сказанное о волках и овцах не соответствует действительности? Может быть, и в самом деле отличительным свойством человека является нечто волчье и большинство просто не проявляет этого открыто? А может, речь вообще не должна идти об альтернативе? Может быть, человек – это одновременно и волк, и овца, или он – ни волк, ни овца?
Сегодня, когда нации определяют возможность применения опаснейшего разрушающего оружия против своих «врагов» и, очевидно, не страшатся даже собственной гибели в ходе массового уничтожения, ответ на эти вопросы имеет решающее значение. Если мы будем убеждены, что человек от природы склонен к разрушению, что потребность применять насилие коренится глубоко в его существе, то может ослабнуть наше сопротивление все возрастающей жестокости. Почему нужно сопротивляться волкам, если все мы в той или иной степени волки? Вопрос о том, является ли человек волком или овцой, – это лишь заостренная формулировка вопроса, который в самом широком и общем смысле принадлежит к основополагающим проблемам теологического и философского мышления западного мира, а именно: является ли человек по существу злым и порочным или он добр по своей сути и способен к самосовершенствованию? Ветхий Завет не считает, что человек порочен в своей основе. Неповиновение Богу со стороны Адама и Евы не рассматривается как грех. Мы нигде не находим указаний на то, что это неповиновение погубило человека. Напротив, это неповиновение является предпосылкой того, что человек осознал самого себя, что он стал способен решать свои дела. Таким образом, этот первый акт неповиновения в конечном счете является первым шагом человека на пути к свободе. Кажется даже, что это неповиновение было предусмотрено Божьим планом. Согласно пророкам, именно благодаря тому, что человек был изгнан из рая, он оказался в состоянии сам формировать свою историю, укреплять свои человеческие силы и в качестве полностью развитого индивида достигнуть гармонии с другими людьми и природой. Эта гармония заступила на место прежней, в которой человек еще не был индивидом. Мессианская мысль пророков явно исходит из того, что человек в своей основе непорочен и может быть спасен помимо особого акта Божьей милости.
Конечно, этим еще не сказано, что способность к добру обязательно побеждает. Если человек творит зло, то он и сам становится хуже. Так, например, сердце фараона «ожесточилось», поскольку он постоянно творил зло. Оно ожесточилось настолько, что в определенный момент для него стало совершенно невозможно начать все заново и покаяться в содеянном. Примеров злодеяний в Ветхом Завете содержится не меньше, чем примеров праведных дел, но в нем ни разу не делается исключения для таких возвышенных образов, как царь Давид. С точки зрения Ветхого Завета человек способен и к хорошему, и к дурному, он должен выбирать между добром и злом, между благословением и проклятием, между жизнью и смертью. Бог никогда не вмешивается в это решение. Он помогает, посылая своих посланцев, пророков, чтобы наставлять людей, каким образом они могут распознавать зло и осуществлять добро, чтобы предупреждать их и возражать им. Но после того, как это уже свершилось, человек остается наедине со своими «двумя инстинктами» – стремлением к добру и стремлением к злу, теперь он сам должен решать эту проблему.
Развитие христианства шло иначе. По мере становления христианской веры появилась точка зрения, согласно которой неповиновение Адама было грехом, причем настолько тяжким, что он погубил природу самого Адама и всех его потомков. Теперь человек не мог больше собственными силами освободиться от этой порочности. Только акт Божьей милости, появление Христа, умершего за людей, может уничтожить эту порочность и спасти тех, кто уверует в него.
Разумеется, догма о первородном грехе не оставалась бесспорной и внутри самой церкви. На нее нападал Пелагий, однако ему не удалось одержать верх. В период Ренессанса гуманисты пытались смягчить эту догму внутри церкви, хотя они не боролись с ней прямо и не оспаривали ее, как это делали многие еретики. Правда, Лютер был более твердо убежден во врожденной подлости и порочности человека, в то время как мыслители Ренессанса, а позднее Просвещения отважились на заметный шаг в противоположном направлении. Последние утверждали, что все зло в человеке является лишь следствием внешних обстоятельств, и потому в действительности у человека нет возможности выбора. Они полагали, что необходимо лишь изменить обстоятельства, из которых произрастает зло, тогда изначальное добро в человеке проявится почти автоматически. Эта точка зрения повлияла также на мышление Маркса и его последователей. Вера в принципиальную доброту человека возникла благодаря новому самосознанию, приобретенному в ходе неслыханного со времен Ренессанса экономического и политического прогресса. Моральное банкротство Запада, начавшееся с Первой мировой войны и приведшее через Гитлера и Сталина, через Ковентри и Хиросиму к нынешней подготовке всеобщего уничтожения, наоборот, повлияло на то, что снова стала усиленно подчеркиваться склонность человека к дурному. По существу, это была здоровая реакция на недооценку врожденной склонности человека творить зло. С другой стороны, слишком часто это служило причиной осмеяния тех, кто не потерял еще своей веры в человека, причем их точка зрения понималась ложно, а подчас и намеренно искажалась.
Меня часто несправедливо упрекали в недооценке зла, потенциально заложенного в человеке. Хотелось бы подчеркнуть, что я далек от подобного сентиментального оптимизма. Тот, кто обладает длительным опытом практикующего психоаналитика, едва ли может быть склонен к недооценке деструктивных сил в человеке. Он видит эти силы в действии у тяжело больных пациентов и знает, насколько трудно бывает приостановить или направить их энергию в конструктивное русло. Так же и те, кто пережил внезапный взрыв зла и разрушительной ярости с начала Первой мировой войны, едва ли не заметят силу и интенсивность человеческой деструктивности. Тем не менее существует опасность, что чувство бессилия, охватывающее сегодня как интеллигента, так и среднего человека, может привести к тому, что они усвоят новую версию порочности и первородного греха и используют ее для рационализации взгляда, согласно которому война неизбежна как следствие деструктивности человеческой природы.
Подобная точка зрения, нередко козыряющая своим необыкновенным реализмом, является заблуждением по двум причинам. Во-первых, интенсивность деструктивных устремлений ни в коем случае не свидетельствует об их неодолимости или даже доминировании. Во-вторых, предположение, что войны являются в первую очередь результатом действия психологических сил, ошибочно. При объяснении общественных и политических проблем нет нужды подробно останавливаться на ложной посылке «психологизма». Войны возникают по решению политических, военных и экономических вождей для захвата земель, природных ресурсов или для получения торговых привилегий, для защиты от реальной или мнимой угрозы безопасности своей страны или для того, чтобы поднять свой личный престиж и стяжать себе славу. Эти люди не отличаются от среднего человека: они эгоистичны и едва ли готовы отказаться от собственных преимуществ в пользу других, но вместе с тем они не выделяются ни особой злобностью, ни особой жестокостью. Когда такие люди, которые в нормальной жизни скорее содействовали бы добру, чем злу, приходят к власти, повелевают миллионами и располагают самым страшным оружием разрушения, они могут нанести огромный вред. В гражданской жизни они, вероятно, разорили бы конкурента. В нашем мире могучих и суверенных государств (причем «суверенный» означает: не подчиняющийся никаким моральным законам, которые могли бы ограничить свободу действий суверенного государства) они могут искоренить всю человеческую расу. Главной опасностью для человечества является не изверг или садист, а нормальный человек, наделенный необычайной властью. Однако для того чтобы миллионы людей поставили на карту свою жизнь и стали убийцами, им необходимо внушить такие чувства, как ненависть, возмущение, деструктивность и страх. Наряду с оружием эти чувства являются непременным условием для ведения войны, однако они не являются ее причиной, так же как пушки и бомбы сами по себе не являются причиной войн. Многие полагают, что атомная война в этом смысле отличается от войны традиционной. Тот, кто нажатием кнопки запускает атомные бомбы, каждая из которых способна унести сотни тысяч жизней, едва ли испытывает те же чувства, что и солдат, убивающий с помощью штыка или пулемета. Но даже если запуск атомной ракеты в сознании упомянутого лица переживается только как послушное исполнение приказа, все же остается вопрос: не должны ли содержаться в более глубоких слоях его личности деструктивные импульсы или, по меньшей мере, глубокое безразличие по отношению к жизни, для того чтобы подобное действие вообще стало возможным?
Я хотел бы остановиться на трех феноменах, которые лежат, по моему мнению, в основе наиболее вредной и опасной формы человеческого ориентирования: на любви к мертвому, закоренелом нарциссизме и симбиозно-инцестуальном влечении. Взятые вместе они образуют «синдром распада», который побуждает человека разрушать ради разрушения и ненавидеть ради ненависти. Я хотел бы также обсудить «синдром роста», который состоит из любви к живому, любви к человеку и к независимости. Лишь у немногих людей один из этих двух синдромов получил полное развитие. Однако нет сомнения в том, что каждый человек движется в определенном, избранном им направлении: к живому или мертвому, к добру или злу.
II. Различные формы насилия
Хотя эта книга посвящена в основном злокачественным формам деструктивности, мне хотелось бы сначала остановиться на некоторых других формах насилия. Я не собираюсь подробно обсуждать эту проблему, однако полагаю, что рассмотрение менее тяжких проявлений насилия может способствовать лучшему пониманию тяжелых патологических и злокачественных форм деструктивности. Различение типов насилия основывается на разнице между соответствующими неосознанными мотивациями, ибо только в случае, когда нам ясна неосознанная динамика поведения, мы можем понять также и само поведение, его корни, направление и энергию, которой оно заряжено[1 - Обращаясь к вопросу о различных формах агрессии, сравните обширный материал в психоаналитических исследованиях, прежде всего многочисленные статьи в журнале «The Psychoanalitic Study of the Child» (N. Y.); специально по проблеме человеческой и животной агрессии см.: Skott J.Р. 1958; Buss A.H. 1961; Berkowitz L. 1962.].
Наиболее нормальной и наименее патологической формой насилия является игровое насилие. Мы находим его там, где оно используется в целях демонстрации своей ловкости, а не в целях разрушения, где оно не мотивировано ненавистью или деструктивностью. Можно привести многочисленные примеры игрового насилия, начиная с военных игрищ примитивных племен и кончая искусством борьбы на мечах в дзен-буддизме. Во всех этих военных играх речь не идет об убийстве противника; даже если он при этом погибает, то это как бы его ошибка, поскольку он «стоял не на том месте». Конечно, когда мы утверждаем, что при игровом насилии не может иметь места воля к разрушению, то имеем в виду только идеальный тип подобных игрищ. На практике за четко установленными правилами игры зачастую можно обнаружить неосознанную агрессию и деструктивность. Но даже и в этом случае основной мотивацией является то, что человек демонстрирует свою ловкость, а не то, что он хочет что-то разрушить.
Гораздо большее практическое значение имеет реактивное насилие. Под ним я понимаю насилие, которое проявляется при защите жизни, свободы, достоинства, а также собственного или чужого имущества. Оно коренится в страхе и, вероятно, именно поэтому является наиболее часто встречающейся формой насилия, этот страх может быть реальным или надуманным, осознанным или бессознательным. Данный тип насилия стоит на службе жизни, а не смерти; его целью является сохранение, а не разрушение. Он возникает не только из иррациональной страсти, но до известной степени и из разумного расчета, так что при этом цель и средство более или менее соотносятся друг с другом. Исходя из высших духовных соображений, можно возразить, что убийство, даже в целях самозащиты, не может быть оправдано с моральной точки зрения. Но большинство тех, кто разделяет это убеждение, согласятся, что применение силы для защиты жизни все же является по своей сути чем-то иным, нежели применение насилия, которое служит разрушению ради него самого.
Очень часто ощущение опасности и вытекающее из него реактивное насилие покоятся не на реальной данности, а на манипуляциях мышления; политические и религиозные вожди убеждают своих сторонников, что им угрожает некий враг, возбуждая таким образом субъективное чувство реактивной враждебности. На этом базируется устанавливаемое капиталистическими и коммунистическими правительствами, а также римско-католической церковью различие между справедливыми и несправедливыми войнами, что в высшей степени сомнительно, поскольку обычно каждая из противоборствующих сторон способна представить свою позицию в качестве защиты от нападения. Едва ли имела место агрессивная война, которую нельзя было бы представить как войну оборонительную. Вопрос о том, кто по праву мог бы сказать о себе, что он защищался, обычно решается победителями – и лишь изредка, причем гораздо позже, более объективными историками. Тенденция представлять любую войну в качестве оборонительной показывает следующее: во-первых, большинство людей, во всяком случае во многих цивилизованных странах, не позволяет склонить себя к убийству и смерти, если предварительно их не убедить, что они делают это для защиты своей жизни и свободы; во-вторых, это показывает, как легко убедить миллионы людей в том, что им якобы угрожает опасность нападения и потому они должны себя защищать. Эта подверженность чужому влиянию покоится, прежде всего, на недостатке независимого мышления и чувствования, а также на эмоциональной зависимости подавляющего большинства людей от их политических вождей. Если эта зависимость существует, то почти все доводы, которые высказываются в достаточно требовательной и убедительной форме, принимаются за чистую монету. Психологические последствия, конечно, одинаковы, идет ли речь о мнимой или о подлинной опасности. Люди чувствуют угрозу себе и готовы убивать и разрушать для собственной защиты. Подобный механизм мы находим при параноидальной мании преследования, только здесь речь идет не о группе, а об отдельном человеке. Однако в обоих случаях индивид субъективно чувствует угрозу для себя и реагирует на нее агрессивно. Другой тип реактивного насилия возникает через фрустрацию[2 - В 1939 г. Гитлер должен был инсценировать нападение польских партизан (которые в действительности были штурмовиками) на радиопередатчик в Силезии, чтобы создать впечатление у населения, что на него напали, и таким образом представить свое преднамеренное вторжение в Польшу в качестве «справедливой войны».]. Агрессивное поведение наблюдается у животных, детей и взрослых, когда остается неудовлетворенным их желание или потребность.
Такое агрессивное поведение представляет собой попытку, зачастую напрасную, приобрести силой то, чего некто был лишен. При этом, несомненно, речь идет об агрессии на службе жизни, но не ради разрушения. Поскольку фрустрация потребностей и желаний в большинстве обществ была и по сей день остается обычным явлением, не стоит удивляться, что насилие и агрессия постоянно возникают и проявляют себя.
Агрессии, вытекающей из фрустрации, сродни враждебность, возникающая из зависти и ревности. Как ревность, так и зависть являются специфическими видами фрустрации. Они восходят к тому, что Б обладает чем-то таким, что хотел бы иметь А, или Б любит некая личность, любви которой домогается А. В А просыпается ненависть и враждебность по отношению к Б, который получает то, что хотел бы, но не может иметь А. Зависть и ревность – это фрустрации, которые обостряются еще и тем, что А не только не получает желаемого, но и кто-то другой этим пользуется вместо него. История о Каине, убившем своего брата, а также история Иосифа и его братьев являются классическими примерами ревности и зависти. Психоаналитическая литература содержит в избытке клинические сведения об этих феноменах.
Следующий тип, который хотя и родствен реактивному насилию, все же на один шаг ближе к патологическому, – это насилие из мести. При реактивном насилии речь идет о том, чтобы уберечься от угрозы нанесения ущерба, и потому этот вид биологической функции служит выживанию. При мстительном насилии, напротив, ущерб уже нанесен, так что применение силы не является больше функцией защиты. Оно имеет иррациональную функцию магическим образом снова сделать как бы не свершившимся то, что реально свершилось. Мы обнаруживаем мстительное насилие у отдельных личностей, а также у примитивных и цивилизованных групп. Если мы проанализируем иррациональный характер этого типа насилия, то сможем продвинуться на шаг дальше. Мотив мести обратно пропорционален силе и продуктивности группы или отдельного индивида. Слабак и калека не имеют другой возможности восстановить разрушенное самоуважение, кроме как отомстить в соответствии с lex talionis (глаз за глаз, зуб за зуб). Напротив, продуктивно живущий человек совсем или почти совсем не имеет в этом нужды. Даже если его ущемляют, оскорбляют или ранят, он как раз благодаря продуктивности своей жизни забывает о том, что было сделано ему в прошлом. Его способность творить проявляется сильнее, чем его потребность мстить. Правильность этого анализа легко подтверждается с помощью эмпирических данных как применительно к отдельному индивиду, так и к общественной сфере. Психоаналитический материал показывает, что зрелый, продуктивный человек в меньшей степени мотивирован жаждой мести, чем невротик, которому тяжело вести полную, независимую жизнь и который часто склоняется к тому, чтобы поставить на карту все свое существование ради мести. При тяжелых психических заболеваниях месть становится господствующей целью жизни, поскольку без мести не только самоуважение, чувство собственного достоинства, но и переживание идентичности находится под угрозой разрушения. Следует также констатировать, что в отсталых группах (в экономическом, культурном или эмоциональном отношении) чувство мести (например, за национальное поражение), по-видимому, является наиболее сильным. Так, мелкая буржуазия, которой в индустриальных обществах приходится хуже всех, во многих странах является главным рассадником чувства мести, расистских и националистических чувств. При «проективном опросе»[3 - При «проективном опросе» ответы открыты (open-ended questionnaire) и интерпретируются по их неосознанному и непреднамеренному значению. Таким образом, получаются данные не о «мнениях», а о силах, неосознанно действующих в опрашиваемом.] можно легко установить корреляцию между интенсивностью чувства мести и экономическими и культурным обнищанием. Несколько труднее правильно понять месть в примитивных обществах. Во многих из них мы находим интенсивные и даже институционализированные чувства и модели мести, и вся группа чувствует себя обязанной мстить, если одному из сочленов нанесен ущерб.
Решающую роль здесь могут играть два фактора. Первый довольно точно соответствует упомянутому выше – это атмосфера психической бедности, которая господствует в примитивной группе, что делает месть необходимым средством для компенсации потери. Второй фактор – это нарциссизм; явление, о котором я буду подробно говорить в четвертой главе. Здесь я хотел бы ограничиться следующей констатацией: в примитивной группе господствует столь интенсивный нарциссизм, что любая дискредитация самомнения членов группы оказывает на них исключительно пагубное воздействие и неизбежно вызывает сильную враждебность.
В тесном родстве с мстительным насилием находится следующий вид деструктивности, который можно объяснить потрясением веры, что нередко имеет место в жизни ребенка. Что следует понимать под «потрясением веры»?
Ребенок начинает свою жизнь, веря в любовь, добро и справедливость. Грудной ребенок доверяет материнской груди; он полагается на то, что мать готова накрыть его, когда он мерзнет, и ухаживать за ним, когда он болен. Это доверие ребенка может относиться к отцу, матери, дедушке, бабушке или какому-либо другому близкому лицу; оно может также выражаться как вера в Бога. У многих детей эта вера испытывает потрясение уже в раннем детстве. Ребенок слышит, как отец лжет в важном деле; он переживает его трусливый страх перед матерью, причем отцу ничего не стоит подвести ребенка, чтобы ее успокоить; он наблюдает родителей во время полового акта, при этом отец, возможно, представляется ему грубым животным; он несчастен и запуган, но ни мать, ни отец, которые якобы так озабочены его благополучием, не замечают этого, они совершенно не слушают его, когда он говорит об этом. Так все снова и снова происходит потрясение этой первоначальной веры в любовь, в правдивость и справедливость родителей. У детей, воспитанных в религиозной среде, эта потеря веры иногда относится непосредственно к Богу. Ребенок переживает смерть птички, которую он любит, друга или сестрички, и его вера в доброту и справедливость Бога может быть поколеблена. Однако это едва ли важно для того, чей авторитет это затрагивает, идет ли речь о вере в человека или в Бога. При этом постоянно разрушается вера в жизнь, в возможность доверять жизни. Конечно, каждый ребенок проходит через ряд разочарований; однако решающими являются тяжесть и горечь одного особого разочарования. Это первое, главное переживание, разрушающее веру, часто имеет место в раннем детстве: в возрасте четырех, пяти или шести лет или даже гораздо раньше – в возрасте, в котором позже едва ли себя помнят.
Нередко окончательное разрушение веры происходит в гораздо более позднем возрасте, когда человек был обманут другом, возлюбленной, учителем, религиозным или политическим вождем, которым он верил. При этом лишь изредка речь идет о единственном случае; это, скорее, целый ряд более мелких переживаний, которые, будучи вместе взятыми, разрушают веру человека.
Реакция на подобные переживания бывает разной. Один, возможно, реагирует таким образом, что теряет свою зависимость от лица, разочаровавшего его, он становится тем самым более независимым и потому бывает в состоянии искать себе новых друзей, учителей и возлюбленных, которым он доверяет и в которых он верит. Это является наиболее желательной реакцией на прежние разочарования. Во многих других случаях они приводят к тому, что человек становится скептиком, надеется на чудо, которое вернет ему его веру, он испытывает людей и, разочаровавшись в них, снова испытывает других людей, или, чтобы вновь обрести свою веру, он бросается в объятия могущественного авторитета (церкви, политической партии или вождя). Нередко свое отчаяние, потерю веры в жизнь он преодолевает посредством судорожной погони за мирскими ценностями – деньгами, властью или престижем.
В контексте насилия следует упомянуть еще одну важную реакцию. Глубоко разочарованный человек, который чувствует себя обманутым, может начать ненавидеть жизнь. Если ни на что и ни на кого нельзя положиться, если вера человека в добро и справедливость оказывается только глупой иллюзией, если правит дьявол, а не Бог, тогда жизнь действительно достойна ненависти, и боль последующих разочарований становится далее невыносимой. Именно в этом случае хочется доказать, что жизнь зла, люди злы и сам ты зол. Разочарование в вере и любви к жизни делают человека циником и разрушителем. Речь, таким образом, идет о деструктивности отчаяния, разочарование в жизни ведет к ненависти к жизни.
В моей клинической деятельности я часто встречал подобные глубокие переживания потери веры; они часто образуют характерный лейтмотив в жизни человека. То же самое относится к общественной сфере, когда вождь, которому верят, оказывается плохим или неспособным. Тот, кто не реагирует на это с усиленной независимостью, часто впадает в цинизм и деструктивность.
Все перечисленные формы насилия так или иначе все же стоят на службе у жизни (либо магически, либо по меньшей мере как следствие понесенного ущерба или разочарования жизнью), в то время как компенсаторное насилие, о котором сейчас пойдет речь, патологично в большей степени, хотя и не в такой, как некрофилия, к рассмотрению которой мы перейдем в третьей главе.
Под компенсаторным насилием я понимаю насилие, служащее импотентному человеку в качестве замены продуктивной деятельности. Чтобы пояснить, что я понимаю под «импотенцией», я должен сделать несколько замечаний. Хотя человек является объектом властвующих над ним природных и общественных сил, тем не менее его нельзя рассматривать только в качестве объекта соответствующих обстоятельств. Он обладает волей, способностью и свободой преобразовывать и изменять мир, хотя и в известных границах. Решающим при этом является не сила его воли и размеры свободы (о проблеме свободы см. ниже), а тот факт, что человек не выносит абсолютной пассивности. Это заставляет его преобразовывать и изменять мир, а не только самому становиться преобразованным и измененным. Эта человеческая потребность находит свое выражение уже в пещерных рисунках самого раннего периода, во всем искусстве, в любой работе, а также в сексуальности. Вся эта деятельность возникает из способности человека направлять свою волю на определенную цель и работать до тех пор, пока цель не будет достигнута. Его способность применять свои силы подобным образом является потенцией. (Сексуальная потенция есть лишь особая форма этой потенции.) Если человек из-за слабости, страха, некомпетентности или чего-то подобного не в состоянии действовать, если он импотентен, то он страдает. Это страдание от импотенции приводит к разрушению внутреннего равновесия, и человек не может принять состояния полной беспомощности без того, чтобы не попытаться восстановить свою способность к действию. Может ли он это сделать и каким образом? Одна возможность заключается в том, чтобы подчинить себя некой личности или группе, которая располагает властью, и идентифицировать себя с ней. Посредством такой символической причастности к жизни другого человек обретает иллюзию самостоятельного действия, в то время как на самом деле он лишь подчиняет себя тем, кто действует, и становится их частью. Другая возможность – и она больше всего интересует нас в связи с нашим исследованием – это когда человек использует свою способность разрушать.
Созидание жизни означает трансцендирование своего статуса как тварного существа, которое, подобно жребию из чаши, брошено в жизнь. Разрушение жизни также означает ее трансцендирование и избавление от невыносимых страданий полной пассивности. Созидание жизни требует известных свойств, которые отсутствуют у импотентного человека. Разрушение жизни требует только одного: применения насилия. Импотенту нужно только обладать револьвером, ножом или физической силой, и он может трансцендировать жизнь, разрушая ее в других или в самом себе. Таким образом он мстит жизни за то, что она его обделила.
Эрих Фромм
Эрих Фромм – крупнейший мыслитель XX века, один из великой когорты «философов от психологии» и духовный лидер Франкфуртской социологической школы.
Труды Эриха Фромма актуальны всегда, ибо основной темой его исследований было раскрытие человеческой сущности как реализации продуктивного, жизнетворческого начала.
Эрих Фромм
Душа человека
Erich Fromm
THE HEART OF MAN
Печатается с разрешения The Estate of Erich Fromm and of Annis Fromm и литературного агентства Liepman AG, Literary Agency.
© Erich Fromm, 1964
© Перевод. В. Закс, 2006
© Издание на русском языке AST Publishers, 2010
От автора
В этой книге получают развитие идеи, к которым я уже обращался в своих более ранних произведениях. В работе «Бегство от свободы» я исследовал проблему свободы в связи с садизмом, мазохизмом и деструктивностью; между тем клиническая практика и теоретические размышления привели меня, как я полагаю, к более глубокому пониманию свободы, а также различных видов агрессивности и деструктивности. Теперь я могу отличать разные формы агрессивности, которые прямо или косвенно служат жизни, от злокачественной формы деструктивности – некрофилии, или подлинной любви к мертвому, являющейся противоположностью биофилии – любви к жизни и живому. В книге «Человек для себя» я обсуждал проблему этических норм, покоящихся на нашем знании человеческой природы, а не на откровениях или законах и традициях, созданных людьми. Здесь я продолжаю исследование в данном направлении, обращая особое внимание на изучение сущности зла и проблемы выбора между добром и злом. В известном смысле эта книга, главная тема которой – способность человека разрушать, его нарциссизм и инцестуальное влечение, противоположна моей работе «Искусство любить», где речь шла о способности человека к любви. Хотя обсуждение не-любви занимает большую часть данной работы, тем не менее в ней говорится и о любви, но в новом, более широком смысле – о любви к жизни. Я пытался показать, что любовь к живому в сочетании с независимостью и преодолением нарциссизма образует «синдром роста», противоположный «синдрому распада», который возникает из любви к мертвому, из инцестуального симбиоза и злокачественного нарциссизма.
Не только мой опыт клинициста, но также общественное и политическое развитие последних лет побудили меня к исследованию синдрома распада. Все настоятельнее звучит вопрос, почему, несмотря на всю добрую волю и осознание последствий атомной войны, попытки предотвратить ее так ничтожны по сравнению с величиной опасности и вероятностью ее возникновения. Полным ходом идет гонка атомных вооружений, продолжается «холодная война». Именно тревога побудила меня исследовать феномен безразличия по отношению к жизни во все более механизированном индустриальном мире. В этом мире человек стал вещью, и – как следствие этого – он со страхом и равнодушием, если не с ненавистью, противостоит жизни. Нынешняя склонность к насилию, проявляющаяся в молодежной преступности и политических убийствах, ставит перед нами задачу сделать первый шаг на пути к переменам. Возникает вопрос, идем ли мы по направлению к новому варварству, даже если дело не дойдет до атомной войны, или возможен ренессанс нашей гуманистической традиции.
Наряду с обсуждением данной проблемы в этой книге мне хотелось бы прояснить, как соотносятся мои психоаналитические представления с теорией Фрейда. Я никогда не соглашался с тем, что меня причисляли к новой «школе» психоанализа, как бы ее ни называли – «культурной школой» или «неофрейдизмом». Я убежден, что эти школы дали ценные результаты, однако некоторые из них отодвинули на задний план многие из важнейших открытий Фрейда. Я определенно не являюсь «ортодоксальным фрейдистом». Дело в том, что любая теория, которая не изменяется в течение 60 лет, именно по этой причине не является больше первоначальной теорией своего создателя; она, скорее, окаменелое повторение прежнего и как таковая в действительности превращается в установку. Свои основополагающие открытия Фрейд осуществил во вполне определенной философской системе, системе механистического материализма, последователями которого было большинство естествоиспытателей начала нашего столетия. Я считаю, что необходимо дальнейшее развитие идей Фрейда в другой философской системе, а именно в системе диалектического гуманизма. В этой книге я пытался показать, что на пути величайших открытий Фрейда – эдипова комплекса, нарциссизма, инстинкта смерти – стояли его мировоззренческие установки, и если эти открытия освободить от старой системы и перенести в новую, они станут более убедительными и значительными. Я думаю, что система гуманизма с ее парадоксальным смешением беспощадной критики, бескомпромиссного реализма и рациональной веры даст возможность для дальнейшего плодотворного развития здания, фундамент которого был заложен Фрейдом.
И еще одно замечание. Изложенные в этой книге мысли основываются на моей клинической деятельности как психоаналитика (и до известной степени на опыте моего участия в общественных процессах). Вместе с тем в ней мало используется документальных материалов, к которым я хотел бы обратиться в большей по объему работе, посвященной теории и практике гуманистического психоанализа.
В заключение я хочу поблагодарить Пола Эдвардса за критические замечания к главе о свободе, детерминизме и альтернативности.
Хочу подчеркнуть, что моя точка зрения на психоанализ ни в коем случае не является желанием подменить теорию Фрейда так называемым «экзистенциальным анализом». Этот эрзац теории Фрейда зачастую весьма поверхностен; понятия, заимствованные у Хайдеггера или Сартра (или Гуссерля), используются без их связи с тщательно продуманными клиническими фактами. Это относится как к известным «экзистенциальным психоаналитикам», так и к психологическим идеям Сартра, которые хотя и блестяще сформулированы, все же поверхностны и не имеют солидного клинического фундамента. Экзистенциализм Сартра, как и Хайдеггера, – это не новое начало, а конец. Оба говорят об отчаянии, постигшем западного человека после катастрофы двух мировых войн и режимов Гитлера и Сталина. Но у них речь идет не только о выражении отчаяния, но и о манифестации крайнего буржуазного эгоизма и солипсизма. У Хайдеггера, симпатизировавшего нацизму, это вполне можно понять. Гораздо больше сбивает с толку Сартр, который утверждает, что он – марксист и философ будущего, оставаясь при этом представителем духа общества беззакония и эгоизма, которое он критикует и хочет изменить. Что касается точки зрения, согласно которой жизнь имеет смысл, не дарованный и не гарантированный ни одним из богов, то она представлена во многих системах, среди религий – прежде всего в буддизме.
Сартр и его сторонники теряют важнейшее достижение теистических и нетеистических религий и гуманистической традиции, когда утверждают, что нет объективных ценностей, имеющих значение для всех людей, и существует понятие свободы, вытекающее из эгоистического произвола.
I. Человек – волк или овца?
Одни полагают, что люди – это овцы, другие считают их хищными волками. Обе стороны могут привести аргументы в пользу своей точки зрения. Тот, кто считает людей овцами, может указать хотя бы на то, что они с легкостью выполняют приказы других людей, даже в ущерб себе. Он может также добавить, что люди снова и снова следуют за своими вождями на войну, которая не дает им ничего, кроме разрушения, что они верят любой несуразице, если она излагается с надлежащей настойчивостью и подкрепляется авторитетом властителей – от прямых угроз священников и королей до вкрадчивых голосов более или менее тайных обольстителей. Кажется, что большинство людей, подобно дремлющим детям, легко поддается внушению и готово безвольно следовать за любым, кто, угрожая или заискивая, достаточно упорно их уговаривает. Человек с сильными убеждениями, пренебрегающий воздействием толпы, скорее исключение, чем правило. Он часто вызывает восхищение последующих поколений, но, как правило, является посмешищем в глазах своих современников.
Великие инквизиторы и диктаторы основывали свои системы власти как раз на утверждении, что люди – это овцы. Именно мнение, согласно которому люди – овцы и потому нуждаются в вождях, принимающих за них решения, нередко придавало самим вождям твердую убежденность, что они выполняли вполне моральную, хотя подчас и весьма трагичную обязанность: брали на себя руководство и снимали с других груз ответственности и свободы, давая людям то, что те хотели.
Однако если большинство людей – овцы, то почему они ведут жизнь, которая этому полностью противоречит? История человечества написана кровью. Это история никогда не прекращающегося насилия, поскольку люди почти всегда подчиняли себе подобных с помощью силы. Разве Талаат-паша сам убил миллионы армян? Разве Гитлер один убил миллионы евреев? Разве Сталин один убил миллионы своих политических противников? Нет. Эти люди были не одиноки, они располагали тысячами других людей, которые умерщвляли и пытали, делая это не просто с желанием, но даже с удовольствием. Разве мы не сталкиваемся повсюду с бесчеловечностью человека – в случае безжалостного ведения войны, в случае убийства и насилия, в случае беззастенчивой эксплуатации слабых более сильными? А как часто стоны истязаемого и страдающего существа наталкиваются на глухие уши и ожесточенные сердца! Такой мыслитель, как Гоббс, из всего этого сделал вывод: homo homini lupus est (человек человеку – волк). И сегодня многие из нас приходят к заключению, что человек от природы является существом злым и деструктивным, что он напоминает убийцу, которого от любимого занятия может удержать только страх перед более сильным убийцей.
И все же аргументы обеих сторон не убеждают. Пусть мы и встречали некоторых потенциальных или явных убийц и садистов, которые по своей беззастенчивости могли бы тягаться со Сталиным или с Гитлером, все же это были исключения, а не правила. Неужели мы действительно должны считать, что мы сами и большинство обычных людей только волки в овечьей шкуре, что наша «истинная природа» якобы проявится лишь после того, как мы отбросим сдерживающие факторы, мешавшие нам до сих пор уподобиться диким зверям? Хоть это и трудно оспорить, однако такой ход мысли нельзя признать вполне убедительным. В повседневной жизни есть возможности для проявления жестокости и садизма, причем нередко их можно реализовать, не опасаясь возмездия. Тем не менее многие на это не идут и, напротив, реагируют с отвращением, когда сталкиваются с подобными явлениями.
Может быть, есть другое, лучшее объяснение этого удивительного противоречия? Может быть, ответ прост и заключается в том, что меньшинство волков живет бок о бок с большинством овец? Волки хотят убивать, овцы хотят делать то, что им приказывают. Волки заставляют овец убивать и душить, а те поступают так не потому, что это доставляет им радость, а потому, что они хотят подчиняться. Кроме того, чтобы побудить большинство овец действовать, как волки, убийцы должны придумать истории о правоте своего дела, о защите свободы, которая якобы находится в опасности, о мести за детей, заколотых штыками, об изнасилованных женщинах и поруганной чести. Этот ответ звучит убедительно, но и после него остается много сомнений. Не означает ли он, что существуют как бы две человеческие расы – волки и овцы? Кроме того, возникает вопрос: если это не свойственно их природе, то почему овцы с такой легкостью соблазняются поведением волков, когда насилие представлено в качестве их священной обязанности? Может быть, сказанное о волках и овцах не соответствует действительности? Может быть, и в самом деле отличительным свойством человека является нечто волчье и большинство просто не проявляет этого открыто? А может, речь вообще не должна идти об альтернативе? Может быть, человек – это одновременно и волк, и овца, или он – ни волк, ни овца?
Сегодня, когда нации определяют возможность применения опаснейшего разрушающего оружия против своих «врагов» и, очевидно, не страшатся даже собственной гибели в ходе массового уничтожения, ответ на эти вопросы имеет решающее значение. Если мы будем убеждены, что человек от природы склонен к разрушению, что потребность применять насилие коренится глубоко в его существе, то может ослабнуть наше сопротивление все возрастающей жестокости. Почему нужно сопротивляться волкам, если все мы в той или иной степени волки? Вопрос о том, является ли человек волком или овцой, – это лишь заостренная формулировка вопроса, который в самом широком и общем смысле принадлежит к основополагающим проблемам теологического и философского мышления западного мира, а именно: является ли человек по существу злым и порочным или он добр по своей сути и способен к самосовершенствованию? Ветхий Завет не считает, что человек порочен в своей основе. Неповиновение Богу со стороны Адама и Евы не рассматривается как грех. Мы нигде не находим указаний на то, что это неповиновение погубило человека. Напротив, это неповиновение является предпосылкой того, что человек осознал самого себя, что он стал способен решать свои дела. Таким образом, этот первый акт неповиновения в конечном счете является первым шагом человека на пути к свободе. Кажется даже, что это неповиновение было предусмотрено Божьим планом. Согласно пророкам, именно благодаря тому, что человек был изгнан из рая, он оказался в состоянии сам формировать свою историю, укреплять свои человеческие силы и в качестве полностью развитого индивида достигнуть гармонии с другими людьми и природой. Эта гармония заступила на место прежней, в которой человек еще не был индивидом. Мессианская мысль пророков явно исходит из того, что человек в своей основе непорочен и может быть спасен помимо особого акта Божьей милости.
Конечно, этим еще не сказано, что способность к добру обязательно побеждает. Если человек творит зло, то он и сам становится хуже. Так, например, сердце фараона «ожесточилось», поскольку он постоянно творил зло. Оно ожесточилось настолько, что в определенный момент для него стало совершенно невозможно начать все заново и покаяться в содеянном. Примеров злодеяний в Ветхом Завете содержится не меньше, чем примеров праведных дел, но в нем ни разу не делается исключения для таких возвышенных образов, как царь Давид. С точки зрения Ветхого Завета человек способен и к хорошему, и к дурному, он должен выбирать между добром и злом, между благословением и проклятием, между жизнью и смертью. Бог никогда не вмешивается в это решение. Он помогает, посылая своих посланцев, пророков, чтобы наставлять людей, каким образом они могут распознавать зло и осуществлять добро, чтобы предупреждать их и возражать им. Но после того, как это уже свершилось, человек остается наедине со своими «двумя инстинктами» – стремлением к добру и стремлением к злу, теперь он сам должен решать эту проблему.
Развитие христианства шло иначе. По мере становления христианской веры появилась точка зрения, согласно которой неповиновение Адама было грехом, причем настолько тяжким, что он погубил природу самого Адама и всех его потомков. Теперь человек не мог больше собственными силами освободиться от этой порочности. Только акт Божьей милости, появление Христа, умершего за людей, может уничтожить эту порочность и спасти тех, кто уверует в него.
Разумеется, догма о первородном грехе не оставалась бесспорной и внутри самой церкви. На нее нападал Пелагий, однако ему не удалось одержать верх. В период Ренессанса гуманисты пытались смягчить эту догму внутри церкви, хотя они не боролись с ней прямо и не оспаривали ее, как это делали многие еретики. Правда, Лютер был более твердо убежден во врожденной подлости и порочности человека, в то время как мыслители Ренессанса, а позднее Просвещения отважились на заметный шаг в противоположном направлении. Последние утверждали, что все зло в человеке является лишь следствием внешних обстоятельств, и потому в действительности у человека нет возможности выбора. Они полагали, что необходимо лишь изменить обстоятельства, из которых произрастает зло, тогда изначальное добро в человеке проявится почти автоматически. Эта точка зрения повлияла также на мышление Маркса и его последователей. Вера в принципиальную доброту человека возникла благодаря новому самосознанию, приобретенному в ходе неслыханного со времен Ренессанса экономического и политического прогресса. Моральное банкротство Запада, начавшееся с Первой мировой войны и приведшее через Гитлера и Сталина, через Ковентри и Хиросиму к нынешней подготовке всеобщего уничтожения, наоборот, повлияло на то, что снова стала усиленно подчеркиваться склонность человека к дурному. По существу, это была здоровая реакция на недооценку врожденной склонности человека творить зло. С другой стороны, слишком часто это служило причиной осмеяния тех, кто не потерял еще своей веры в человека, причем их точка зрения понималась ложно, а подчас и намеренно искажалась.
Меня часто несправедливо упрекали в недооценке зла, потенциально заложенного в человеке. Хотелось бы подчеркнуть, что я далек от подобного сентиментального оптимизма. Тот, кто обладает длительным опытом практикующего психоаналитика, едва ли может быть склонен к недооценке деструктивных сил в человеке. Он видит эти силы в действии у тяжело больных пациентов и знает, насколько трудно бывает приостановить или направить их энергию в конструктивное русло. Так же и те, кто пережил внезапный взрыв зла и разрушительной ярости с начала Первой мировой войны, едва ли не заметят силу и интенсивность человеческой деструктивности. Тем не менее существует опасность, что чувство бессилия, охватывающее сегодня как интеллигента, так и среднего человека, может привести к тому, что они усвоят новую версию порочности и первородного греха и используют ее для рационализации взгляда, согласно которому война неизбежна как следствие деструктивности человеческой природы.
Подобная точка зрения, нередко козыряющая своим необыкновенным реализмом, является заблуждением по двум причинам. Во-первых, интенсивность деструктивных устремлений ни в коем случае не свидетельствует об их неодолимости или даже доминировании. Во-вторых, предположение, что войны являются в первую очередь результатом действия психологических сил, ошибочно. При объяснении общественных и политических проблем нет нужды подробно останавливаться на ложной посылке «психологизма». Войны возникают по решению политических, военных и экономических вождей для захвата земель, природных ресурсов или для получения торговых привилегий, для защиты от реальной или мнимой угрозы безопасности своей страны или для того, чтобы поднять свой личный престиж и стяжать себе славу. Эти люди не отличаются от среднего человека: они эгоистичны и едва ли готовы отказаться от собственных преимуществ в пользу других, но вместе с тем они не выделяются ни особой злобностью, ни особой жестокостью. Когда такие люди, которые в нормальной жизни скорее содействовали бы добру, чем злу, приходят к власти, повелевают миллионами и располагают самым страшным оружием разрушения, они могут нанести огромный вред. В гражданской жизни они, вероятно, разорили бы конкурента. В нашем мире могучих и суверенных государств (причем «суверенный» означает: не подчиняющийся никаким моральным законам, которые могли бы ограничить свободу действий суверенного государства) они могут искоренить всю человеческую расу. Главной опасностью для человечества является не изверг или садист, а нормальный человек, наделенный необычайной властью. Однако для того чтобы миллионы людей поставили на карту свою жизнь и стали убийцами, им необходимо внушить такие чувства, как ненависть, возмущение, деструктивность и страх. Наряду с оружием эти чувства являются непременным условием для ведения войны, однако они не являются ее причиной, так же как пушки и бомбы сами по себе не являются причиной войн. Многие полагают, что атомная война в этом смысле отличается от войны традиционной. Тот, кто нажатием кнопки запускает атомные бомбы, каждая из которых способна унести сотни тысяч жизней, едва ли испытывает те же чувства, что и солдат, убивающий с помощью штыка или пулемета. Но даже если запуск атомной ракеты в сознании упомянутого лица переживается только как послушное исполнение приказа, все же остается вопрос: не должны ли содержаться в более глубоких слоях его личности деструктивные импульсы или, по меньшей мере, глубокое безразличие по отношению к жизни, для того чтобы подобное действие вообще стало возможным?
Я хотел бы остановиться на трех феноменах, которые лежат, по моему мнению, в основе наиболее вредной и опасной формы человеческого ориентирования: на любви к мертвому, закоренелом нарциссизме и симбиозно-инцестуальном влечении. Взятые вместе они образуют «синдром распада», который побуждает человека разрушать ради разрушения и ненавидеть ради ненависти. Я хотел бы также обсудить «синдром роста», который состоит из любви к живому, любви к человеку и к независимости. Лишь у немногих людей один из этих двух синдромов получил полное развитие. Однако нет сомнения в том, что каждый человек движется в определенном, избранном им направлении: к живому или мертвому, к добру или злу.
II. Различные формы насилия
Хотя эта книга посвящена в основном злокачественным формам деструктивности, мне хотелось бы сначала остановиться на некоторых других формах насилия. Я не собираюсь подробно обсуждать эту проблему, однако полагаю, что рассмотрение менее тяжких проявлений насилия может способствовать лучшему пониманию тяжелых патологических и злокачественных форм деструктивности. Различение типов насилия основывается на разнице между соответствующими неосознанными мотивациями, ибо только в случае, когда нам ясна неосознанная динамика поведения, мы можем понять также и само поведение, его корни, направление и энергию, которой оно заряжено[1 - Обращаясь к вопросу о различных формах агрессии, сравните обширный материал в психоаналитических исследованиях, прежде всего многочисленные статьи в журнале «The Psychoanalitic Study of the Child» (N. Y.); специально по проблеме человеческой и животной агрессии см.: Skott J.Р. 1958; Buss A.H. 1961; Berkowitz L. 1962.].
Наиболее нормальной и наименее патологической формой насилия является игровое насилие. Мы находим его там, где оно используется в целях демонстрации своей ловкости, а не в целях разрушения, где оно не мотивировано ненавистью или деструктивностью. Можно привести многочисленные примеры игрового насилия, начиная с военных игрищ примитивных племен и кончая искусством борьбы на мечах в дзен-буддизме. Во всех этих военных играх речь не идет об убийстве противника; даже если он при этом погибает, то это как бы его ошибка, поскольку он «стоял не на том месте». Конечно, когда мы утверждаем, что при игровом насилии не может иметь места воля к разрушению, то имеем в виду только идеальный тип подобных игрищ. На практике за четко установленными правилами игры зачастую можно обнаружить неосознанную агрессию и деструктивность. Но даже и в этом случае основной мотивацией является то, что человек демонстрирует свою ловкость, а не то, что он хочет что-то разрушить.
Гораздо большее практическое значение имеет реактивное насилие. Под ним я понимаю насилие, которое проявляется при защите жизни, свободы, достоинства, а также собственного или чужого имущества. Оно коренится в страхе и, вероятно, именно поэтому является наиболее часто встречающейся формой насилия, этот страх может быть реальным или надуманным, осознанным или бессознательным. Данный тип насилия стоит на службе жизни, а не смерти; его целью является сохранение, а не разрушение. Он возникает не только из иррациональной страсти, но до известной степени и из разумного расчета, так что при этом цель и средство более или менее соотносятся друг с другом. Исходя из высших духовных соображений, можно возразить, что убийство, даже в целях самозащиты, не может быть оправдано с моральной точки зрения. Но большинство тех, кто разделяет это убеждение, согласятся, что применение силы для защиты жизни все же является по своей сути чем-то иным, нежели применение насилия, которое служит разрушению ради него самого.
Очень часто ощущение опасности и вытекающее из него реактивное насилие покоятся не на реальной данности, а на манипуляциях мышления; политические и религиозные вожди убеждают своих сторонников, что им угрожает некий враг, возбуждая таким образом субъективное чувство реактивной враждебности. На этом базируется устанавливаемое капиталистическими и коммунистическими правительствами, а также римско-католической церковью различие между справедливыми и несправедливыми войнами, что в высшей степени сомнительно, поскольку обычно каждая из противоборствующих сторон способна представить свою позицию в качестве защиты от нападения. Едва ли имела место агрессивная война, которую нельзя было бы представить как войну оборонительную. Вопрос о том, кто по праву мог бы сказать о себе, что он защищался, обычно решается победителями – и лишь изредка, причем гораздо позже, более объективными историками. Тенденция представлять любую войну в качестве оборонительной показывает следующее: во-первых, большинство людей, во всяком случае во многих цивилизованных странах, не позволяет склонить себя к убийству и смерти, если предварительно их не убедить, что они делают это для защиты своей жизни и свободы; во-вторых, это показывает, как легко убедить миллионы людей в том, что им якобы угрожает опасность нападения и потому они должны себя защищать. Эта подверженность чужому влиянию покоится, прежде всего, на недостатке независимого мышления и чувствования, а также на эмоциональной зависимости подавляющего большинства людей от их политических вождей. Если эта зависимость существует, то почти все доводы, которые высказываются в достаточно требовательной и убедительной форме, принимаются за чистую монету. Психологические последствия, конечно, одинаковы, идет ли речь о мнимой или о подлинной опасности. Люди чувствуют угрозу себе и готовы убивать и разрушать для собственной защиты. Подобный механизм мы находим при параноидальной мании преследования, только здесь речь идет не о группе, а об отдельном человеке. Однако в обоих случаях индивид субъективно чувствует угрозу для себя и реагирует на нее агрессивно. Другой тип реактивного насилия возникает через фрустрацию[2 - В 1939 г. Гитлер должен был инсценировать нападение польских партизан (которые в действительности были штурмовиками) на радиопередатчик в Силезии, чтобы создать впечатление у населения, что на него напали, и таким образом представить свое преднамеренное вторжение в Польшу в качестве «справедливой войны».]. Агрессивное поведение наблюдается у животных, детей и взрослых, когда остается неудовлетворенным их желание или потребность.
Такое агрессивное поведение представляет собой попытку, зачастую напрасную, приобрести силой то, чего некто был лишен. При этом, несомненно, речь идет об агрессии на службе жизни, но не ради разрушения. Поскольку фрустрация потребностей и желаний в большинстве обществ была и по сей день остается обычным явлением, не стоит удивляться, что насилие и агрессия постоянно возникают и проявляют себя.
Агрессии, вытекающей из фрустрации, сродни враждебность, возникающая из зависти и ревности. Как ревность, так и зависть являются специфическими видами фрустрации. Они восходят к тому, что Б обладает чем-то таким, что хотел бы иметь А, или Б любит некая личность, любви которой домогается А. В А просыпается ненависть и враждебность по отношению к Б, который получает то, что хотел бы, но не может иметь А. Зависть и ревность – это фрустрации, которые обостряются еще и тем, что А не только не получает желаемого, но и кто-то другой этим пользуется вместо него. История о Каине, убившем своего брата, а также история Иосифа и его братьев являются классическими примерами ревности и зависти. Психоаналитическая литература содержит в избытке клинические сведения об этих феноменах.
Следующий тип, который хотя и родствен реактивному насилию, все же на один шаг ближе к патологическому, – это насилие из мести. При реактивном насилии речь идет о том, чтобы уберечься от угрозы нанесения ущерба, и потому этот вид биологической функции служит выживанию. При мстительном насилии, напротив, ущерб уже нанесен, так что применение силы не является больше функцией защиты. Оно имеет иррациональную функцию магическим образом снова сделать как бы не свершившимся то, что реально свершилось. Мы обнаруживаем мстительное насилие у отдельных личностей, а также у примитивных и цивилизованных групп. Если мы проанализируем иррациональный характер этого типа насилия, то сможем продвинуться на шаг дальше. Мотив мести обратно пропорционален силе и продуктивности группы или отдельного индивида. Слабак и калека не имеют другой возможности восстановить разрушенное самоуважение, кроме как отомстить в соответствии с lex talionis (глаз за глаз, зуб за зуб). Напротив, продуктивно живущий человек совсем или почти совсем не имеет в этом нужды. Даже если его ущемляют, оскорбляют или ранят, он как раз благодаря продуктивности своей жизни забывает о том, что было сделано ему в прошлом. Его способность творить проявляется сильнее, чем его потребность мстить. Правильность этого анализа легко подтверждается с помощью эмпирических данных как применительно к отдельному индивиду, так и к общественной сфере. Психоаналитический материал показывает, что зрелый, продуктивный человек в меньшей степени мотивирован жаждой мести, чем невротик, которому тяжело вести полную, независимую жизнь и который часто склоняется к тому, чтобы поставить на карту все свое существование ради мести. При тяжелых психических заболеваниях месть становится господствующей целью жизни, поскольку без мести не только самоуважение, чувство собственного достоинства, но и переживание идентичности находится под угрозой разрушения. Следует также констатировать, что в отсталых группах (в экономическом, культурном или эмоциональном отношении) чувство мести (например, за национальное поражение), по-видимому, является наиболее сильным. Так, мелкая буржуазия, которой в индустриальных обществах приходится хуже всех, во многих странах является главным рассадником чувства мести, расистских и националистических чувств. При «проективном опросе»[3 - При «проективном опросе» ответы открыты (open-ended questionnaire) и интерпретируются по их неосознанному и непреднамеренному значению. Таким образом, получаются данные не о «мнениях», а о силах, неосознанно действующих в опрашиваемом.] можно легко установить корреляцию между интенсивностью чувства мести и экономическими и культурным обнищанием. Несколько труднее правильно понять месть в примитивных обществах. Во многих из них мы находим интенсивные и даже институционализированные чувства и модели мести, и вся группа чувствует себя обязанной мстить, если одному из сочленов нанесен ущерб.
Решающую роль здесь могут играть два фактора. Первый довольно точно соответствует упомянутому выше – это атмосфера психической бедности, которая господствует в примитивной группе, что делает месть необходимым средством для компенсации потери. Второй фактор – это нарциссизм; явление, о котором я буду подробно говорить в четвертой главе. Здесь я хотел бы ограничиться следующей констатацией: в примитивной группе господствует столь интенсивный нарциссизм, что любая дискредитация самомнения членов группы оказывает на них исключительно пагубное воздействие и неизбежно вызывает сильную враждебность.
В тесном родстве с мстительным насилием находится следующий вид деструктивности, который можно объяснить потрясением веры, что нередко имеет место в жизни ребенка. Что следует понимать под «потрясением веры»?
Ребенок начинает свою жизнь, веря в любовь, добро и справедливость. Грудной ребенок доверяет материнской груди; он полагается на то, что мать готова накрыть его, когда он мерзнет, и ухаживать за ним, когда он болен. Это доверие ребенка может относиться к отцу, матери, дедушке, бабушке или какому-либо другому близкому лицу; оно может также выражаться как вера в Бога. У многих детей эта вера испытывает потрясение уже в раннем детстве. Ребенок слышит, как отец лжет в важном деле; он переживает его трусливый страх перед матерью, причем отцу ничего не стоит подвести ребенка, чтобы ее успокоить; он наблюдает родителей во время полового акта, при этом отец, возможно, представляется ему грубым животным; он несчастен и запуган, но ни мать, ни отец, которые якобы так озабочены его благополучием, не замечают этого, они совершенно не слушают его, когда он говорит об этом. Так все снова и снова происходит потрясение этой первоначальной веры в любовь, в правдивость и справедливость родителей. У детей, воспитанных в религиозной среде, эта потеря веры иногда относится непосредственно к Богу. Ребенок переживает смерть птички, которую он любит, друга или сестрички, и его вера в доброту и справедливость Бога может быть поколеблена. Однако это едва ли важно для того, чей авторитет это затрагивает, идет ли речь о вере в человека или в Бога. При этом постоянно разрушается вера в жизнь, в возможность доверять жизни. Конечно, каждый ребенок проходит через ряд разочарований; однако решающими являются тяжесть и горечь одного особого разочарования. Это первое, главное переживание, разрушающее веру, часто имеет место в раннем детстве: в возрасте четырех, пяти или шести лет или даже гораздо раньше – в возрасте, в котором позже едва ли себя помнят.
Нередко окончательное разрушение веры происходит в гораздо более позднем возрасте, когда человек был обманут другом, возлюбленной, учителем, религиозным или политическим вождем, которым он верил. При этом лишь изредка речь идет о единственном случае; это, скорее, целый ряд более мелких переживаний, которые, будучи вместе взятыми, разрушают веру человека.
Реакция на подобные переживания бывает разной. Один, возможно, реагирует таким образом, что теряет свою зависимость от лица, разочаровавшего его, он становится тем самым более независимым и потому бывает в состоянии искать себе новых друзей, учителей и возлюбленных, которым он доверяет и в которых он верит. Это является наиболее желательной реакцией на прежние разочарования. Во многих других случаях они приводят к тому, что человек становится скептиком, надеется на чудо, которое вернет ему его веру, он испытывает людей и, разочаровавшись в них, снова испытывает других людей, или, чтобы вновь обрести свою веру, он бросается в объятия могущественного авторитета (церкви, политической партии или вождя). Нередко свое отчаяние, потерю веры в жизнь он преодолевает посредством судорожной погони за мирскими ценностями – деньгами, властью или престижем.
В контексте насилия следует упомянуть еще одну важную реакцию. Глубоко разочарованный человек, который чувствует себя обманутым, может начать ненавидеть жизнь. Если ни на что и ни на кого нельзя положиться, если вера человека в добро и справедливость оказывается только глупой иллюзией, если правит дьявол, а не Бог, тогда жизнь действительно достойна ненависти, и боль последующих разочарований становится далее невыносимой. Именно в этом случае хочется доказать, что жизнь зла, люди злы и сам ты зол. Разочарование в вере и любви к жизни делают человека циником и разрушителем. Речь, таким образом, идет о деструктивности отчаяния, разочарование в жизни ведет к ненависти к жизни.
В моей клинической деятельности я часто встречал подобные глубокие переживания потери веры; они часто образуют характерный лейтмотив в жизни человека. То же самое относится к общественной сфере, когда вождь, которому верят, оказывается плохим или неспособным. Тот, кто не реагирует на это с усиленной независимостью, часто впадает в цинизм и деструктивность.
Все перечисленные формы насилия так или иначе все же стоят на службе у жизни (либо магически, либо по меньшей мере как следствие понесенного ущерба или разочарования жизнью), в то время как компенсаторное насилие, о котором сейчас пойдет речь, патологично в большей степени, хотя и не в такой, как некрофилия, к рассмотрению которой мы перейдем в третьей главе.
Под компенсаторным насилием я понимаю насилие, служащее импотентному человеку в качестве замены продуктивной деятельности. Чтобы пояснить, что я понимаю под «импотенцией», я должен сделать несколько замечаний. Хотя человек является объектом властвующих над ним природных и общественных сил, тем не менее его нельзя рассматривать только в качестве объекта соответствующих обстоятельств. Он обладает волей, способностью и свободой преобразовывать и изменять мир, хотя и в известных границах. Решающим при этом является не сила его воли и размеры свободы (о проблеме свободы см. ниже), а тот факт, что человек не выносит абсолютной пассивности. Это заставляет его преобразовывать и изменять мир, а не только самому становиться преобразованным и измененным. Эта человеческая потребность находит свое выражение уже в пещерных рисунках самого раннего периода, во всем искусстве, в любой работе, а также в сексуальности. Вся эта деятельность возникает из способности человека направлять свою волю на определенную цель и работать до тех пор, пока цель не будет достигнута. Его способность применять свои силы подобным образом является потенцией. (Сексуальная потенция есть лишь особая форма этой потенции.) Если человек из-за слабости, страха, некомпетентности или чего-то подобного не в состоянии действовать, если он импотентен, то он страдает. Это страдание от импотенции приводит к разрушению внутреннего равновесия, и человек не может принять состояния полной беспомощности без того, чтобы не попытаться восстановить свою способность к действию. Может ли он это сделать и каким образом? Одна возможность заключается в том, чтобы подчинить себя некой личности или группе, которая располагает властью, и идентифицировать себя с ней. Посредством такой символической причастности к жизни другого человек обретает иллюзию самостоятельного действия, в то время как на самом деле он лишь подчиняет себя тем, кто действует, и становится их частью. Другая возможность – и она больше всего интересует нас в связи с нашим исследованием – это когда человек использует свою способность разрушать.
Созидание жизни означает трансцендирование своего статуса как тварного существа, которое, подобно жребию из чаши, брошено в жизнь. Разрушение жизни также означает ее трансцендирование и избавление от невыносимых страданий полной пассивности. Созидание жизни требует известных свойств, которые отсутствуют у импотентного человека. Разрушение жизни требует только одного: применения насилия. Импотенту нужно только обладать револьвером, ножом или физической силой, и он может трансцендировать жизнь, разрушая ее в других или в самом себе. Таким образом он мстит жизни за то, что она его обделила.