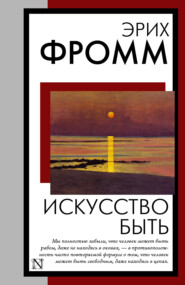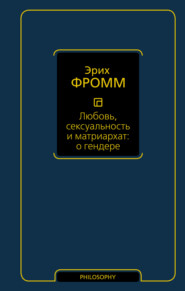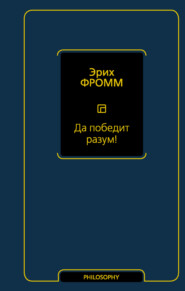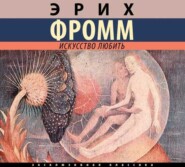По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Анатомия человеческой деструктивности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Первый касается непреодолимой тенденции к повиновению. Испытуемые с детства привыкли, что причинять боль другому человеку – это тяжелый нравственный проступок. И все же 26 человек переступили через этот нравственный императив и послушно исполняли приказы авторитарной личности, хотя она и не обладала никакой формальной властью.
Второй непредусмотренный эффект связан с чрезмерным напряжением. Можно было ожидать, что испытуемые либо прекратят выполнять задание, либо будут продолжать – как кому подскажет совесть. Но произошло нечто совершенно иное. Дело дошло до крайней степени напряженности и огромных эмоциональных перегрузок. Один наблюдатель записал: «Я видел, как довольно развязный, уверенный в себе предприниматель средних лет, улыбаясь, вошел в лабораторию. Через 20 минут он превратился в дрожащее, заикающееся, жалкое существо, похожее на нервного больного. Он постоянно теребил мочку уха, потирал руки. А один раз ударил себя кулаком по лбу и пробормотал: “О Господи, когда же это кончится?!” И тем не менее он прислушивался к каждому слову экспериментатора и подчинялся ему до конца» (188, 1963, с. 376).
На самом деле этот эксперимент чрезвычайно интересен не только для изучения конформизма, но и для изучения жестокости и деструктивности. Это напоминает ситуации реальной жизни, когда, к примеру, выясняется вина солдата, совершавшего чудовищные преступления по приказу командира. Может быть, это касается и немецких генералов, осужденных в Нюрнберге военных преступников, или лейтенанта Келли и некоторых его подчиненных во Вьетнаме?
Я полагаю, что в большинстве случаев из эксперимента нельзя делать выводов относительно реальной жизни. Психолог был в эксперименте не просто авторитетом, а представителем науки и одного из ведущих научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами высшего образования в США. Принимая во внимание, что наука в современном индустриальном обществе ценится выше всего на свете, среднему американцу трудно представить, что от ученого может исходить безнравственный приказ. Если бы Господь Бог не запретил Аврааму убить сына, он бы это сделал, как это делали миллионы родителей, приносившие своих детей в жертву. Для верующего ни Бог, ни его современный эквивалент, каким является наука, не могут совершить несправедливость. Поэтому повиновение, обнаруженное в эксперименте Мильграма, не должно вызывать удивления. Скорее, можно было бы удивиться непокорности 35 % участников.
Не должна удивлять и возникшая степень напряженности. Экспериментатор ожидал, «что испытуемые сами прекратят выполнять задание по велению своей совести». Но разве это тот способ, каким люди в жизни выходят из конфликтных ситуаций? Разве не в том состоит особенность и трагизм человеческого поведения, что человек пытается не ставить себя в конфликтную ситуацию? Это означает, что он не осознает своего выбора между тем, что ему диктуют жадность и страх, и тем, что ему запрещает его совесть? На деле человек с помощью рационализации устраняется от осознания конфликта и конфликт проявляется неосознанно в форме сильного стресса, невротических симптомов или чувства вины по совершенно иным, придуманным причинам. И в этом отношении Мильграмовы подопечные вели себя вполне нормально.
Однако здесь возникают другие интересные вопросы. Мильграм считает, что его испытуемые находятся в конфликтной ситуации, ибо они не видят выхода из противоречия между авторитарным приказом и образцами поведения, внушенными им в раннем детстве, суть которых «не навреди другому человеку».
Но разве так происходит на самом деле? Разве мы научились «не наносить ущерба другим людям»? Может быть, этой заповеди и учат в церковной школе, но в школе реальной жизни детей, напротив, учат понимать и отстаивать свои преимущества, даже в ущерб другим. И потому конфликт, который предполагает Мильграм в этой ситуации, не столь уж велик.
Я вижу важнейший результат Мильграмова эксперимента в том, что он обнаружил сильную реакцию против жестокости. Разумеется, 65 % испытуемых удалось поставить в такие условия, что они вели себя жестоко, но при этом в большинстве случаев они отчетливо проявляли реакцию возмущения или неприятия садистского типа поведения. К сожалению, автор не приводит нам точных сведений о тех людях, которые в продолжение всего эксперимента не проявляли признаков беспокойства. Как раз очень интересно было бы для понимания человеческого поведения узнать об этих людях больше подробностей. Очевидно, они не испытывали ни малейших неудобств, совершая жестокие действия. И первый вопрос, возникающий здесь: почему? Возможен, например, такой ответ, что страдание других доставляло им удовольствие и они не чувствовали ни малейших угрызений совести, ибо их поведение было санкционировано авторитетом свыше. Есть и другая возможность: если речь идет о сильно отчужденном или нарциссическом типе личности, то такие люди вообще невосприимчивы ко всему, что касается других людей. А может быть, это были «психопаты», которые полностью лишены нравственных «тормозов». Те, у кого проявились различные симптомы стресса и страха, – вот это, должно быть, люди с антисадистским и антидеструктивным характером. (Если бы после эксперимента было проведено глубинно-психологическое интервьюирование, то была бы возможность выяснить характерологические различия этих людей и можно было бы дать обоснованные гипотезы о поведении этих людей в будущем.)
Важнейший результат эксперимента сам Мильграм оставляет почти без внимания, а именно наличие совести у большинства испытуемых и их переживание по поводу того, что послушание заставило их действовать вопреки их совести. А если кто-то захочет интерпретировать этот эксперимент как доказательство того, что человека легко сделать бесчеловечным, то я подчеркиваю, что реакции испытуемых говорят о прямо противоположном, т. е. о наличии серьезных внутренних сил личности, для которых жестокое поведение невыносимо. Это подводит нас к тому, что при изучении жестокости в реальной жизни очень важно учитывать не только жестокое поведение, но и (часто неосознанные) угрызения совести тех, кто подчинился авторитарному приказу. (Нацисты были вынуждены применить хитроумнейшую систему сокрытия своих преступлений, чтобы заглушить голос совести у простых немецких граждан.)
Эксперимент Мильграма хорошо иллюстрирует разницу между сознательными и бессознательными аспектами поведения, хотя сам он их и не принимает в расчет.
Еще один эксперимент оказался в связи с этим весьма убедительной иллюстрацией к проблеме причин жестокости.
Первый отчет об этом эксперименте – совсем коротенькое сообщение д-ра Цимбардо в 1972 г. (289, 1972). Позднее появилась более подробная публикация (115, 1973), но я буду цитировать по рукописи, любезно предоставленной мне д-ром Цимбардо.
Цель эксперимента состояла в том, чтобы изучить поведение нормальных людей в ситуациях, близких к тюремному заключению, где одни испытуемые выступали в роли заключенных, а другие – надзирателей. Автор считает, что ему удалось этим экспериментом подтвердить общий тезис, что под влиянием определенных обстоятельств любой человек может дойти до какого угодно состояния, вопреки всем своим представлениям о нравственности, вопреки личной порядочности и всем социальным принципам, ценностям и нормам. Короче говоря, в этом эксперименте большинство испытуемых, игравших роль «надзирателей», превращались на глазах в жесточайших садистов, а те, кто играл заключенных, демонстрировали жалкое зрелище несчастных, запуганных и подневольных людей. У некоторых «заключенных» так быстро развились серьезные симптомы психической неполноценности, что пришлось даже через несколько дней выводить их из эксперимента. На самом деле реакции обеих групп испытуемых были столь интенсивны, что запланированный на две недели эксперимент пришлось закончить через шесть дней.
Я сомневаюсь, что данный эксперимент доказывает вышеназванный бихевиористский тезис, и приведу свои аргументы. Но сначала я должен сообщить читателю некоторые подробности эксперимента. Через газетную рекламу был организован конкурс студентов, желавших за 15 долларов в день принять участие в эксперименте с целью психологического исследования жизни в тюремных условиях.
Желающие должны были заполнить подробнейшую анкету о своем семейном положении, происхождении, здоровье, с сообщением биографических фактов, а также рассказом о психопатологических наклонностях и т. д. Каждый заполнивший анкету проходил затем собеседование с одним из двух руководителей исследования. В конце концов были отобраны 24 человека, которые выглядели наиболее здоровыми в физическом и духовном плане и казались менее всего способными на антисоциальные поступки. Половина из них наугад была определена на роль «надзирателей», а вторая – на роль заключенных (115, 1973, с. 73).
Последняя выборка испытуемых за день до начала эксперимента была подвергнута тестовому испытанию. По мнению авторов проекта, все участники были нормальными и не имели никаких садистских или мазохистских наклонностей.
Тюрьма была устроена в длинном коридоре подвала института психологии Стенфордского университета. Всем испытуемым было объявлено, что
…они могут сыграть роль надзирателя или заключенного, и все добровольно согласились в течение двух недель играть одну из этих ролей и получать за это 15 долларов в день. Они подписали договор, в котором оговаривались условия их жизни – минимальная одежда, еда, питье, медицинское обеспечение и т. д.
В договоре было четко оговорено, что те, кто согласился быть заключенным, будут находиться под надзором (не будут оставаться никогда в одиночестве) и что во время этого заключения они будут лишены некоторых гражданских прав и могут быть наказаны (за исключением телесных наказаний). Больше никакой информации о своем будущем пребывании в тюрьме они не получили. Тем, кто был окончательно выбран на эту роль, было сообщено по телефону, что в определенное воскресенье (день начала эксперимента) они должны быть дома (115,1973, с. 74).
Лица, избранные на роль надзирателей, приняли участие в собеседовании с «директором тюрьмы» (дипломированным преподавателем вуза) и с «инспектором» (главным экспериментатором). Им сказали, что в их задачу входит «поддержание некоторого порядка в тюрьме». Важно знать, что понимали под «тюрьмой» авторы исследования. Они употребляли это слово не в прямом его значении, т. е. не как место пребывания правонарушителей, а в специфическом значении, которое отражает условия в некоторых американских тюрьмах.
Мы не собирались буквально воспроизводить все условия какой-либо американской тюрьмы, а скорее хотели показать функциональные связи. Из этических, нравственных и практических причин мы не могли запереть наших испытуемых на неопределенное время; мы не могли угрожать им тяжелыми физическими наказаниями, не могли допустить проявлений гомосексуализма или расизма и других специфических аспектов тюремной жизни. И все же мы думали, что нам удастся создать ситуацию, которая будет настолько похожа на реальный мир, что нам через ролевую игру удастся в какой-то мере проникнуть в глубинную структуру личности. Для этой цели мы позаботились о том, чтобы в эксперименте были представлены разные профессии и судьбы, и тогда мы сможем вызвать у испытуемых вполне жизненные психологические реакции – чувства могущества или бессилия, власти или подневольности, удовлетворения или фрустрации, права на произвол или сопротивления авторитарности и т. д. (115, 1973, с. 71).
Читателю должно быть понятно, что методы, примененные в эксперименте, были ориентированы на систематическое болезненное унижение личности – это было запланировано заранее.
Каково было обращение с «заключенными»? С самого начала их предупредили, чтобы они готовились к эксперименту.
«Арест» происходил без предупреждения на квартире с помощью государственной полиции. Полицейский объявил каждому, что он подозревается в краже или вооруженном нападении. Каждого тщательно обыскали (нередко в присутствии любопытных соседей), надели наручники, проинформировали об их законных правах и предложили спуститься вниз, чтобы в полицейской машине проехать в полицию. Там состоялась обычная процедура: снятие отпечатков, заполнение анкеты, и сразу арестованные были помещены в камеры. Каждому при этом завязали глаза и проводили в сопровождении экспериментатора и «охранника» в экспериментальную тюрьму. Во всей процедуре официальные власти занимали самую серьезную позицию и не отвечали ни на один из возникавших у испытуемых вопросов.
По прибытии в экспериментальную тюрьму каждого арестованного раздели до нитки, в голом виде поставили во дворе и побрызгали дезодорантом, на котором было написано: «Средство от вшей». Затем каждый был одет в арестантскую одежду, сфотографирован в профиль и в фас и отправлен в камеру под спокойно отданный приказ вести себя тихо (115, 1973, с. 76).
Поскольку «арест» был произведен руками настоящей полиции, испытуемые должны были думать, что они и впрямь подозреваются в каком-то деянии, особенно после того, как на заданный вопрос об эксперименте чиновники не дали никакого ответа. Что должны были при этом думать и чувствовать испытуемые? Откуда им было знать, что «арест» был «понарошку», а полицию привлекли для того, чтобы применением силы и ложными обвинениями придать эксперименту больше правдоподобности?
Одежда арестованных была своеобразной, она состояла из хлопчатобумажной куртки с черным номерным знаком на груди и на спине. Под «костюмом» не было никакого нижнего белья. На щиколотку надевалась тонкая цепочка, застегнутая на замок. На ноги выдавались резиновые сандалии, а на голову – тонкая, плотно прилегающая и закрывающая все волосы шапочка из нейлонового чулка… Эта одежда не только лишала арестованных всякой индивидуальности, она должна была унизить, ибо она была символом зависимости. О подневольности постоянно напоминала цепочка на ноге, она и во сне не давала покоя… А шапочка из чулка делала всех людей на одно лицо, как в армии и тюрьме, когда мужчин стригут наголо. Безобразные куртки не по размеру стесняли движения, а отсутствие белья вынуждало арестованных менять походку и походить скорее на женщин, чем на мужчин… (115, 1973, с. 75).
Как же вели себя «заключенные» и «надзиратели», каковы были их реакции на протяжении шести экспериментальных дней?
Самое ужасное впечатление произвело на всех участников тяжелейшее состояние пяти заключенных, которые кричали, буйствовали или демонстрировали приступы жесточайшей депрессии, животного страха и в результате были выведены из эксперимента. У четырех из них симптомы ненормального состояния начались на второй день заключения. Пятый же весь покрылся аллергической сыпью нервного происхождения. Когда через 6 дней эксперимент прекратился раньше срока, все оставшиеся заключенные были безмерно счастливы (115, 1973, с. 81).
Итак, все «заключенные» проявили приблизительно одинаковые реакции на ситуацию, в то время как «надзиратели» дали более сложную картину:
Казалось, что решение об окончании эксперимента их буквально огорчило, ибо они так вошли в роль, что им явно доставляла удовольствие неограниченная власть над более слабыми и они не хотели с ней расставаться (115, 1973, с. 81).
Авторы эксперимента так описывают поведение «надзирателей»:
Никто из них ни разу не опоздал на смену, а некоторые даже добровольно соглашались на вторую смену без оплаты.
Патологические реакции в обеих группах испытуемых доказывают высокую степень зависимости личности от социально-профессиональной среды. Но были и отчетливые индивидуальные отклонения от средней нормы адаптации к новым условиям. Так, половина заключенных нормально переносила угнетающую атмосферу тюрьмы и не всех надзирателей захватил дух враждебности по отношению к заключенным. Некоторые держались строго, но «в рамках инструкции». Однако некоторые проявили такое рвение, которое далеко выходило за рамки предписанной им роли: они мучили заключенных с изощренной жестокостью… совсем немногие проявили пассивность и лишь изредка применяли к заключенным минимально необходимые меры принуждения (115, 1973, с. 81).
Жаль, что у нас нет более точной информации, чем «некоторые», «несколько», «совсем немногие». Мне это представляется совершенно лишней скрытностью и недостатком точности, легче было бы назвать число. Тем более что в первой краткой публикации в «Trans Action» были приведены более точные данные, существенно отличающиеся от того, что мы только что прочли. Там процент садистски настроенных «надзирателей», применяющих изощренные методы унижения заключенных, составлял чуть ли не одну треть. А остаток был поделен на две категории: 1) строгие, но честные; 2) хорошие надзиратели с точки зрения заключенных, ибо они были доброжелательны, не отказывали в мелких услугах.
Эти характеристики очень сильно отличаются от того, что «немногие оставались пассивными и редко применяли меры принуждения».
Подобные расхождения и недостаток точности данных и формулировок тем досаднее, что с ними авторы связывают главный и решающий тезис эксперимента. Они надеялись доказать, что сама ситуация всего за несколько дней может превратить нормального человека либо в жалкое и ничтожное существо, либо в безжалостного садиста. Мне кажется, что эксперимент как раз доказывает обратное, если он вообще что-нибудь доказывает. Хотя общая атмосфера тюрьмы, по мысли исследователей, должна была быть унижающей человеческое достоинство (что наверняка сразу поняли «надзиратели»), все-таки две трети «надзирателей» не проявили никаких симптомов садистского поведения, и для меня это кажется вполне убедительным доказательством того, что человек не так-то легко превращается в садиста под влиянием соответствующей ситуации.
Все дело в том, что существует огромная разница между поведением и характером. И необходимо различать между тем, что кто-то ведет себя соответственно садистским правилам, и тем, что этот кто-то, проявляя жестокость к другим людям, находит в этом удовольствие. Тот факт, что в данном эксперименте такое различение не проводилось, существенно снижает его ценность.
На самом деле разграничение это имеет значение и для второй половины основного тезиса, ведь предварительное тестовое обследование показало, что испытуемые не имели ни садистских, ни мазохистских наклонностей, т. е. тесты не выявили таких черт характера. Что касается психологов, делающих ставку на явное поведение, то для них эта констатация может считаться истинной. А психоаналитику она представляется не очень-то убедительной. Ведь черты характера зачастую совершенно не осознаются и не могут быть раскрыты с помощью обычных психологических тестов. Что касается прожективных методик, как, например, тест Роршаха, то все зависит от их интерпретации; в действительности с помощью этих тестов докопаться до неосознанных пластов психики в состоянии лишь те исследователи, которые имеют большой опыт изучения бессознательных процессов.
Есть еще одна причина для того, чтобы считать выводы о «надзирателях» спорными. Данные индивиды только потому и были избраны, что в соответствующих тестах проявили себя как более или менее нормальные, обычные люди, не обнаружившие садистских наклонностей. Но этот результат находится в противоречии с утверждением, что среди обычного населения процент потенциальных садистов не равен нулю. Некоторые исследования доказали это (101, 1970; 1979), а опытный наблюдатель может установить это и без всяких тестов и анкет. Но каков бы ни был процент личностей с садистскими наклонностями среди нормального населения, полное отсутствие данной категории, установленное в предваряющих эксперимент тестах, скорее, свидетельствует о том, что применены были тесты, не подходящие для выяснения этой проблемы.
Некоторые неожиданные результаты описанного эксперимента можно объяснить другими факторами. Авторы утверждают, что испытуемым было трудно отличить реальность от роли, и на этом основании делают вывод, что виновата сама ситуация. Это, конечно, верно, но ведь такая ситуация была заранее запланирована руководителями эксперимента. Сначала «арестованные» были сбиты с толку и запутаны. Условия, сообщенные им при подписании договора, резко отличались от того, что они увидели позже. Они были совершенно не готовы оказаться в атмосфере, унижающей человеческое достоинство. Но еще важнее для понимания возникшей путаницы привлечение к работе полиции. Поскольку полицейские власти чрезвычайно редко принимают участие в экспериментальных психологических играх, постольку «заключенным» было в высшей степени трудно отличить действительность от игры.
Из отчета следует, что они даже не знали, связан ли арест с экспериментом или нет, а чиновники отказались отвечать на этот вопрос. Спрашивается, есть ли хоть один нормальный человек, которого подобная ситуация не привела бы в полное смятение? После этого любой бы приступил к эксперименту с мыслью, что его «подставили» и «заложили».
Почему «арестованные» не потребовали немедленного прекращения игры? Авторы не дают нам ясного объяснения того, как они объяснили участникам эксперимента условия выхода из тюрьмы. Я, по крайней мере, не нашел каких-либо свидетельств того, что их предупредили об их праве выхода из эксперимента, если он станет для них невыносимым. И действительно, «надзиратели» силой заставляли оставаться на местах тех, кто хотел сбежать. У них, вероятно, было такое впечатление, что они должны для этого получить разрешение от специальной комиссии по освобождению… Однако авторы пишут следующее:
Одно из наиболее запоминающихся событий произошло в тот момент, когда мы услышали ответы пяти досрочно освобождаемых заключенных. На вопрос руководителя об отказе от денежного вознаграждения трое сразу сказали, что согласны отказаться от всех заработанных денег. Если вспомнить, что единственным мотивом участия в эксперименте с самого начала был заработок, то, конечно, удивительно, что уже через четыре дня они готовы были полностью отказаться от денег ради свободы. Однако еще удивительнее было то, что после такого заявления каждый из них встал и позволил «конвоиру» увести себя в камеру, ибо им сообщили, что возможность их освобождения необходимо обсудить с руководством. Если бы они считали себя только «испытуемыми», которые за деньги участвуют в эксперименте, то для них инцидент был бы исчерпан и они считали бы себя вправе просто уйти. Однако к тому времени ощущение подневольности стало таким сильным, а реквизит театральной тюрьмы так здорово походил на реальную, что они не могли вспомнить в этот момент, что единственный мотив их пребывания здесь больше не имеет силы; и потому они послушно вернулись в камеру, чтобы там терпеливо дожидаться, когда тюремщики решатся досрочно отпустить их домой (115, 1973, с. 93).
Разве они могли действительно с легкостью выйти из игры? Почему же им сразу четко не сказали: «Кто из вас захочет выйти из игры, может сделать это в любой момент, только тогда он потеряет свой заработок»? Если бы они были об этом информированы и все-таки оставались бы ждать решения властей, то автор имел бы право говорить об их конформности. Но этого не было. Им дали ответ в типично бюрократической формулировке, когда ответственность перекладывается на кого-то наверху, из чего однозначно следовало, что «арестованные» не имеют права уйти.
Знали ли «арестованные» в действительности, что речь идет только об эксперименте? Это зависит от того, что здесь надо понимать под словом «знать» и какое воздействие на сознание испытуемых оказала ситуация ареста, когда все умышленно запутали настолько, что можно было запросто забыть, кто есть кто и что есть что.
Помимо недостатка точности и критической самооценки, у эксперимента есть еще один недостаток, а именно тот, что результаты его не были перепроверены в обстановке реальной тюрьмы. Разве большинство заключенных в самых плохих американских тюрьмах содержатся в рабских условиях, а большинство надзирателей являются жесточайшими садистами? Авторы приводят всего лишь одно свидетельство бывшего заключенного и одного тюремного священника, в то время как для доказательства столь важного тезиса, на который они замахнулись, не грех было бы провести целую серию проверок, может быть, даже систематический опрос многих бывших заключенных. Не говоря уже о том, что они обязаны были вместо общих рассуждений о «тюрьмах» привести точные данные о процентном соотношении обычных тюрем и тех, которые известны особо унизительными условиями и обстановку которых хотели воспроизвести экспериментаторы.
То, что авторы не потрудились перепроверить свои выводы на реальных жизненных ситуациях, тем более досадно, что существует обширнейший материал о самой чудовищной тюрьме, какую можно увидеть только в самом страшном сне, – я имею в виду гитлеровский концлагерь.
Что касается проблемы спонтанности садизма эсэсовских надзирателей, то она еще не была систематически исследована. При моих ограниченных возможностях в получении данных о проявлении спонтанного садизма у надзирателей (т. е. такого поведения, которое выходит за рамки инструкций и мотивировано садистским наслаждением), судя по опросам бывших заключенных, разброс оценок очень велик – от 10 до 90 %; причем более низкие цифры даны по показаниям бывших политзаключенных[38 - Мне их сообщили лично X. Брандт и профессор Г. Симонсон, которые провели много лет в концлагерях как политзаключенные (43, 1967).]. И чтобы внести ясность в эту шкалу оценок, надо было бы провести систематическое исследование садизма надзирателей в концлагерях. Для такого исследования можно использовать разнообразный материал, например:
1. Систематическое интервьюирование бывших узников концлагерей и ранжирование их высказываний по возрасту заключенных, причинам и длительности ареста и другим характерным показателям, а также интервьюирование бывших надзирателей[39 - Я знаю, что у д-ра Штайнера уже есть готовый материал.].
Второй непредусмотренный эффект связан с чрезмерным напряжением. Можно было ожидать, что испытуемые либо прекратят выполнять задание, либо будут продолжать – как кому подскажет совесть. Но произошло нечто совершенно иное. Дело дошло до крайней степени напряженности и огромных эмоциональных перегрузок. Один наблюдатель записал: «Я видел, как довольно развязный, уверенный в себе предприниматель средних лет, улыбаясь, вошел в лабораторию. Через 20 минут он превратился в дрожащее, заикающееся, жалкое существо, похожее на нервного больного. Он постоянно теребил мочку уха, потирал руки. А один раз ударил себя кулаком по лбу и пробормотал: “О Господи, когда же это кончится?!” И тем не менее он прислушивался к каждому слову экспериментатора и подчинялся ему до конца» (188, 1963, с. 376).
На самом деле этот эксперимент чрезвычайно интересен не только для изучения конформизма, но и для изучения жестокости и деструктивности. Это напоминает ситуации реальной жизни, когда, к примеру, выясняется вина солдата, совершавшего чудовищные преступления по приказу командира. Может быть, это касается и немецких генералов, осужденных в Нюрнберге военных преступников, или лейтенанта Келли и некоторых его подчиненных во Вьетнаме?
Я полагаю, что в большинстве случаев из эксперимента нельзя делать выводов относительно реальной жизни. Психолог был в эксперименте не просто авторитетом, а представителем науки и одного из ведущих научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами высшего образования в США. Принимая во внимание, что наука в современном индустриальном обществе ценится выше всего на свете, среднему американцу трудно представить, что от ученого может исходить безнравственный приказ. Если бы Господь Бог не запретил Аврааму убить сына, он бы это сделал, как это делали миллионы родителей, приносившие своих детей в жертву. Для верующего ни Бог, ни его современный эквивалент, каким является наука, не могут совершить несправедливость. Поэтому повиновение, обнаруженное в эксперименте Мильграма, не должно вызывать удивления. Скорее, можно было бы удивиться непокорности 35 % участников.
Не должна удивлять и возникшая степень напряженности. Экспериментатор ожидал, «что испытуемые сами прекратят выполнять задание по велению своей совести». Но разве это тот способ, каким люди в жизни выходят из конфликтных ситуаций? Разве не в том состоит особенность и трагизм человеческого поведения, что человек пытается не ставить себя в конфликтную ситуацию? Это означает, что он не осознает своего выбора между тем, что ему диктуют жадность и страх, и тем, что ему запрещает его совесть? На деле человек с помощью рационализации устраняется от осознания конфликта и конфликт проявляется неосознанно в форме сильного стресса, невротических симптомов или чувства вины по совершенно иным, придуманным причинам. И в этом отношении Мильграмовы подопечные вели себя вполне нормально.
Однако здесь возникают другие интересные вопросы. Мильграм считает, что его испытуемые находятся в конфликтной ситуации, ибо они не видят выхода из противоречия между авторитарным приказом и образцами поведения, внушенными им в раннем детстве, суть которых «не навреди другому человеку».
Но разве так происходит на самом деле? Разве мы научились «не наносить ущерба другим людям»? Может быть, этой заповеди и учат в церковной школе, но в школе реальной жизни детей, напротив, учат понимать и отстаивать свои преимущества, даже в ущерб другим. И потому конфликт, который предполагает Мильграм в этой ситуации, не столь уж велик.
Я вижу важнейший результат Мильграмова эксперимента в том, что он обнаружил сильную реакцию против жестокости. Разумеется, 65 % испытуемых удалось поставить в такие условия, что они вели себя жестоко, но при этом в большинстве случаев они отчетливо проявляли реакцию возмущения или неприятия садистского типа поведения. К сожалению, автор не приводит нам точных сведений о тех людях, которые в продолжение всего эксперимента не проявляли признаков беспокойства. Как раз очень интересно было бы для понимания человеческого поведения узнать об этих людях больше подробностей. Очевидно, они не испытывали ни малейших неудобств, совершая жестокие действия. И первый вопрос, возникающий здесь: почему? Возможен, например, такой ответ, что страдание других доставляло им удовольствие и они не чувствовали ни малейших угрызений совести, ибо их поведение было санкционировано авторитетом свыше. Есть и другая возможность: если речь идет о сильно отчужденном или нарциссическом типе личности, то такие люди вообще невосприимчивы ко всему, что касается других людей. А может быть, это были «психопаты», которые полностью лишены нравственных «тормозов». Те, у кого проявились различные симптомы стресса и страха, – вот это, должно быть, люди с антисадистским и антидеструктивным характером. (Если бы после эксперимента было проведено глубинно-психологическое интервьюирование, то была бы возможность выяснить характерологические различия этих людей и можно было бы дать обоснованные гипотезы о поведении этих людей в будущем.)
Важнейший результат эксперимента сам Мильграм оставляет почти без внимания, а именно наличие совести у большинства испытуемых и их переживание по поводу того, что послушание заставило их действовать вопреки их совести. А если кто-то захочет интерпретировать этот эксперимент как доказательство того, что человека легко сделать бесчеловечным, то я подчеркиваю, что реакции испытуемых говорят о прямо противоположном, т. е. о наличии серьезных внутренних сил личности, для которых жестокое поведение невыносимо. Это подводит нас к тому, что при изучении жестокости в реальной жизни очень важно учитывать не только жестокое поведение, но и (часто неосознанные) угрызения совести тех, кто подчинился авторитарному приказу. (Нацисты были вынуждены применить хитроумнейшую систему сокрытия своих преступлений, чтобы заглушить голос совести у простых немецких граждан.)
Эксперимент Мильграма хорошо иллюстрирует разницу между сознательными и бессознательными аспектами поведения, хотя сам он их и не принимает в расчет.
Еще один эксперимент оказался в связи с этим весьма убедительной иллюстрацией к проблеме причин жестокости.
Первый отчет об этом эксперименте – совсем коротенькое сообщение д-ра Цимбардо в 1972 г. (289, 1972). Позднее появилась более подробная публикация (115, 1973), но я буду цитировать по рукописи, любезно предоставленной мне д-ром Цимбардо.
Цель эксперимента состояла в том, чтобы изучить поведение нормальных людей в ситуациях, близких к тюремному заключению, где одни испытуемые выступали в роли заключенных, а другие – надзирателей. Автор считает, что ему удалось этим экспериментом подтвердить общий тезис, что под влиянием определенных обстоятельств любой человек может дойти до какого угодно состояния, вопреки всем своим представлениям о нравственности, вопреки личной порядочности и всем социальным принципам, ценностям и нормам. Короче говоря, в этом эксперименте большинство испытуемых, игравших роль «надзирателей», превращались на глазах в жесточайших садистов, а те, кто играл заключенных, демонстрировали жалкое зрелище несчастных, запуганных и подневольных людей. У некоторых «заключенных» так быстро развились серьезные симптомы психической неполноценности, что пришлось даже через несколько дней выводить их из эксперимента. На самом деле реакции обеих групп испытуемых были столь интенсивны, что запланированный на две недели эксперимент пришлось закончить через шесть дней.
Я сомневаюсь, что данный эксперимент доказывает вышеназванный бихевиористский тезис, и приведу свои аргументы. Но сначала я должен сообщить читателю некоторые подробности эксперимента. Через газетную рекламу был организован конкурс студентов, желавших за 15 долларов в день принять участие в эксперименте с целью психологического исследования жизни в тюремных условиях.
Желающие должны были заполнить подробнейшую анкету о своем семейном положении, происхождении, здоровье, с сообщением биографических фактов, а также рассказом о психопатологических наклонностях и т. д. Каждый заполнивший анкету проходил затем собеседование с одним из двух руководителей исследования. В конце концов были отобраны 24 человека, которые выглядели наиболее здоровыми в физическом и духовном плане и казались менее всего способными на антисоциальные поступки. Половина из них наугад была определена на роль «надзирателей», а вторая – на роль заключенных (115, 1973, с. 73).
Последняя выборка испытуемых за день до начала эксперимента была подвергнута тестовому испытанию. По мнению авторов проекта, все участники были нормальными и не имели никаких садистских или мазохистских наклонностей.
Тюрьма была устроена в длинном коридоре подвала института психологии Стенфордского университета. Всем испытуемым было объявлено, что
…они могут сыграть роль надзирателя или заключенного, и все добровольно согласились в течение двух недель играть одну из этих ролей и получать за это 15 долларов в день. Они подписали договор, в котором оговаривались условия их жизни – минимальная одежда, еда, питье, медицинское обеспечение и т. д.
В договоре было четко оговорено, что те, кто согласился быть заключенным, будут находиться под надзором (не будут оставаться никогда в одиночестве) и что во время этого заключения они будут лишены некоторых гражданских прав и могут быть наказаны (за исключением телесных наказаний). Больше никакой информации о своем будущем пребывании в тюрьме они не получили. Тем, кто был окончательно выбран на эту роль, было сообщено по телефону, что в определенное воскресенье (день начала эксперимента) они должны быть дома (115,1973, с. 74).
Лица, избранные на роль надзирателей, приняли участие в собеседовании с «директором тюрьмы» (дипломированным преподавателем вуза) и с «инспектором» (главным экспериментатором). Им сказали, что в их задачу входит «поддержание некоторого порядка в тюрьме». Важно знать, что понимали под «тюрьмой» авторы исследования. Они употребляли это слово не в прямом его значении, т. е. не как место пребывания правонарушителей, а в специфическом значении, которое отражает условия в некоторых американских тюрьмах.
Мы не собирались буквально воспроизводить все условия какой-либо американской тюрьмы, а скорее хотели показать функциональные связи. Из этических, нравственных и практических причин мы не могли запереть наших испытуемых на неопределенное время; мы не могли угрожать им тяжелыми физическими наказаниями, не могли допустить проявлений гомосексуализма или расизма и других специфических аспектов тюремной жизни. И все же мы думали, что нам удастся создать ситуацию, которая будет настолько похожа на реальный мир, что нам через ролевую игру удастся в какой-то мере проникнуть в глубинную структуру личности. Для этой цели мы позаботились о том, чтобы в эксперименте были представлены разные профессии и судьбы, и тогда мы сможем вызвать у испытуемых вполне жизненные психологические реакции – чувства могущества или бессилия, власти или подневольности, удовлетворения или фрустрации, права на произвол или сопротивления авторитарности и т. д. (115, 1973, с. 71).
Читателю должно быть понятно, что методы, примененные в эксперименте, были ориентированы на систематическое болезненное унижение личности – это было запланировано заранее.
Каково было обращение с «заключенными»? С самого начала их предупредили, чтобы они готовились к эксперименту.
«Арест» происходил без предупреждения на квартире с помощью государственной полиции. Полицейский объявил каждому, что он подозревается в краже или вооруженном нападении. Каждого тщательно обыскали (нередко в присутствии любопытных соседей), надели наручники, проинформировали об их законных правах и предложили спуститься вниз, чтобы в полицейской машине проехать в полицию. Там состоялась обычная процедура: снятие отпечатков, заполнение анкеты, и сразу арестованные были помещены в камеры. Каждому при этом завязали глаза и проводили в сопровождении экспериментатора и «охранника» в экспериментальную тюрьму. Во всей процедуре официальные власти занимали самую серьезную позицию и не отвечали ни на один из возникавших у испытуемых вопросов.
По прибытии в экспериментальную тюрьму каждого арестованного раздели до нитки, в голом виде поставили во дворе и побрызгали дезодорантом, на котором было написано: «Средство от вшей». Затем каждый был одет в арестантскую одежду, сфотографирован в профиль и в фас и отправлен в камеру под спокойно отданный приказ вести себя тихо (115, 1973, с. 76).
Поскольку «арест» был произведен руками настоящей полиции, испытуемые должны были думать, что они и впрямь подозреваются в каком-то деянии, особенно после того, как на заданный вопрос об эксперименте чиновники не дали никакого ответа. Что должны были при этом думать и чувствовать испытуемые? Откуда им было знать, что «арест» был «понарошку», а полицию привлекли для того, чтобы применением силы и ложными обвинениями придать эксперименту больше правдоподобности?
Одежда арестованных была своеобразной, она состояла из хлопчатобумажной куртки с черным номерным знаком на груди и на спине. Под «костюмом» не было никакого нижнего белья. На щиколотку надевалась тонкая цепочка, застегнутая на замок. На ноги выдавались резиновые сандалии, а на голову – тонкая, плотно прилегающая и закрывающая все волосы шапочка из нейлонового чулка… Эта одежда не только лишала арестованных всякой индивидуальности, она должна была унизить, ибо она была символом зависимости. О подневольности постоянно напоминала цепочка на ноге, она и во сне не давала покоя… А шапочка из чулка делала всех людей на одно лицо, как в армии и тюрьме, когда мужчин стригут наголо. Безобразные куртки не по размеру стесняли движения, а отсутствие белья вынуждало арестованных менять походку и походить скорее на женщин, чем на мужчин… (115, 1973, с. 75).
Как же вели себя «заключенные» и «надзиратели», каковы были их реакции на протяжении шести экспериментальных дней?
Самое ужасное впечатление произвело на всех участников тяжелейшее состояние пяти заключенных, которые кричали, буйствовали или демонстрировали приступы жесточайшей депрессии, животного страха и в результате были выведены из эксперимента. У четырех из них симптомы ненормального состояния начались на второй день заключения. Пятый же весь покрылся аллергической сыпью нервного происхождения. Когда через 6 дней эксперимент прекратился раньше срока, все оставшиеся заключенные были безмерно счастливы (115, 1973, с. 81).
Итак, все «заключенные» проявили приблизительно одинаковые реакции на ситуацию, в то время как «надзиратели» дали более сложную картину:
Казалось, что решение об окончании эксперимента их буквально огорчило, ибо они так вошли в роль, что им явно доставляла удовольствие неограниченная власть над более слабыми и они не хотели с ней расставаться (115, 1973, с. 81).
Авторы эксперимента так описывают поведение «надзирателей»:
Никто из них ни разу не опоздал на смену, а некоторые даже добровольно соглашались на вторую смену без оплаты.
Патологические реакции в обеих группах испытуемых доказывают высокую степень зависимости личности от социально-профессиональной среды. Но были и отчетливые индивидуальные отклонения от средней нормы адаптации к новым условиям. Так, половина заключенных нормально переносила угнетающую атмосферу тюрьмы и не всех надзирателей захватил дух враждебности по отношению к заключенным. Некоторые держались строго, но «в рамках инструкции». Однако некоторые проявили такое рвение, которое далеко выходило за рамки предписанной им роли: они мучили заключенных с изощренной жестокостью… совсем немногие проявили пассивность и лишь изредка применяли к заключенным минимально необходимые меры принуждения (115, 1973, с. 81).
Жаль, что у нас нет более точной информации, чем «некоторые», «несколько», «совсем немногие». Мне это представляется совершенно лишней скрытностью и недостатком точности, легче было бы назвать число. Тем более что в первой краткой публикации в «Trans Action» были приведены более точные данные, существенно отличающиеся от того, что мы только что прочли. Там процент садистски настроенных «надзирателей», применяющих изощренные методы унижения заключенных, составлял чуть ли не одну треть. А остаток был поделен на две категории: 1) строгие, но честные; 2) хорошие надзиратели с точки зрения заключенных, ибо они были доброжелательны, не отказывали в мелких услугах.
Эти характеристики очень сильно отличаются от того, что «немногие оставались пассивными и редко применяли меры принуждения».
Подобные расхождения и недостаток точности данных и формулировок тем досаднее, что с ними авторы связывают главный и решающий тезис эксперимента. Они надеялись доказать, что сама ситуация всего за несколько дней может превратить нормального человека либо в жалкое и ничтожное существо, либо в безжалостного садиста. Мне кажется, что эксперимент как раз доказывает обратное, если он вообще что-нибудь доказывает. Хотя общая атмосфера тюрьмы, по мысли исследователей, должна была быть унижающей человеческое достоинство (что наверняка сразу поняли «надзиратели»), все-таки две трети «надзирателей» не проявили никаких симптомов садистского поведения, и для меня это кажется вполне убедительным доказательством того, что человек не так-то легко превращается в садиста под влиянием соответствующей ситуации.
Все дело в том, что существует огромная разница между поведением и характером. И необходимо различать между тем, что кто-то ведет себя соответственно садистским правилам, и тем, что этот кто-то, проявляя жестокость к другим людям, находит в этом удовольствие. Тот факт, что в данном эксперименте такое различение не проводилось, существенно снижает его ценность.
На самом деле разграничение это имеет значение и для второй половины основного тезиса, ведь предварительное тестовое обследование показало, что испытуемые не имели ни садистских, ни мазохистских наклонностей, т. е. тесты не выявили таких черт характера. Что касается психологов, делающих ставку на явное поведение, то для них эта констатация может считаться истинной. А психоаналитику она представляется не очень-то убедительной. Ведь черты характера зачастую совершенно не осознаются и не могут быть раскрыты с помощью обычных психологических тестов. Что касается прожективных методик, как, например, тест Роршаха, то все зависит от их интерпретации; в действительности с помощью этих тестов докопаться до неосознанных пластов психики в состоянии лишь те исследователи, которые имеют большой опыт изучения бессознательных процессов.
Есть еще одна причина для того, чтобы считать выводы о «надзирателях» спорными. Данные индивиды только потому и были избраны, что в соответствующих тестах проявили себя как более или менее нормальные, обычные люди, не обнаружившие садистских наклонностей. Но этот результат находится в противоречии с утверждением, что среди обычного населения процент потенциальных садистов не равен нулю. Некоторые исследования доказали это (101, 1970; 1979), а опытный наблюдатель может установить это и без всяких тестов и анкет. Но каков бы ни был процент личностей с садистскими наклонностями среди нормального населения, полное отсутствие данной категории, установленное в предваряющих эксперимент тестах, скорее, свидетельствует о том, что применены были тесты, не подходящие для выяснения этой проблемы.
Некоторые неожиданные результаты описанного эксперимента можно объяснить другими факторами. Авторы утверждают, что испытуемым было трудно отличить реальность от роли, и на этом основании делают вывод, что виновата сама ситуация. Это, конечно, верно, но ведь такая ситуация была заранее запланирована руководителями эксперимента. Сначала «арестованные» были сбиты с толку и запутаны. Условия, сообщенные им при подписании договора, резко отличались от того, что они увидели позже. Они были совершенно не готовы оказаться в атмосфере, унижающей человеческое достоинство. Но еще важнее для понимания возникшей путаницы привлечение к работе полиции. Поскольку полицейские власти чрезвычайно редко принимают участие в экспериментальных психологических играх, постольку «заключенным» было в высшей степени трудно отличить действительность от игры.
Из отчета следует, что они даже не знали, связан ли арест с экспериментом или нет, а чиновники отказались отвечать на этот вопрос. Спрашивается, есть ли хоть один нормальный человек, которого подобная ситуация не привела бы в полное смятение? После этого любой бы приступил к эксперименту с мыслью, что его «подставили» и «заложили».
Почему «арестованные» не потребовали немедленного прекращения игры? Авторы не дают нам ясного объяснения того, как они объяснили участникам эксперимента условия выхода из тюрьмы. Я, по крайней мере, не нашел каких-либо свидетельств того, что их предупредили об их праве выхода из эксперимента, если он станет для них невыносимым. И действительно, «надзиратели» силой заставляли оставаться на местах тех, кто хотел сбежать. У них, вероятно, было такое впечатление, что они должны для этого получить разрешение от специальной комиссии по освобождению… Однако авторы пишут следующее:
Одно из наиболее запоминающихся событий произошло в тот момент, когда мы услышали ответы пяти досрочно освобождаемых заключенных. На вопрос руководителя об отказе от денежного вознаграждения трое сразу сказали, что согласны отказаться от всех заработанных денег. Если вспомнить, что единственным мотивом участия в эксперименте с самого начала был заработок, то, конечно, удивительно, что уже через четыре дня они готовы были полностью отказаться от денег ради свободы. Однако еще удивительнее было то, что после такого заявления каждый из них встал и позволил «конвоиру» увести себя в камеру, ибо им сообщили, что возможность их освобождения необходимо обсудить с руководством. Если бы они считали себя только «испытуемыми», которые за деньги участвуют в эксперименте, то для них инцидент был бы исчерпан и они считали бы себя вправе просто уйти. Однако к тому времени ощущение подневольности стало таким сильным, а реквизит театральной тюрьмы так здорово походил на реальную, что они не могли вспомнить в этот момент, что единственный мотив их пребывания здесь больше не имеет силы; и потому они послушно вернулись в камеру, чтобы там терпеливо дожидаться, когда тюремщики решатся досрочно отпустить их домой (115, 1973, с. 93).
Разве они могли действительно с легкостью выйти из игры? Почему же им сразу четко не сказали: «Кто из вас захочет выйти из игры, может сделать это в любой момент, только тогда он потеряет свой заработок»? Если бы они были об этом информированы и все-таки оставались бы ждать решения властей, то автор имел бы право говорить об их конформности. Но этого не было. Им дали ответ в типично бюрократической формулировке, когда ответственность перекладывается на кого-то наверху, из чего однозначно следовало, что «арестованные» не имеют права уйти.
Знали ли «арестованные» в действительности, что речь идет только об эксперименте? Это зависит от того, что здесь надо понимать под словом «знать» и какое воздействие на сознание испытуемых оказала ситуация ареста, когда все умышленно запутали настолько, что можно было запросто забыть, кто есть кто и что есть что.
Помимо недостатка точности и критической самооценки, у эксперимента есть еще один недостаток, а именно тот, что результаты его не были перепроверены в обстановке реальной тюрьмы. Разве большинство заключенных в самых плохих американских тюрьмах содержатся в рабских условиях, а большинство надзирателей являются жесточайшими садистами? Авторы приводят всего лишь одно свидетельство бывшего заключенного и одного тюремного священника, в то время как для доказательства столь важного тезиса, на который они замахнулись, не грех было бы провести целую серию проверок, может быть, даже систематический опрос многих бывших заключенных. Не говоря уже о том, что они обязаны были вместо общих рассуждений о «тюрьмах» привести точные данные о процентном соотношении обычных тюрем и тех, которые известны особо унизительными условиями и обстановку которых хотели воспроизвести экспериментаторы.
То, что авторы не потрудились перепроверить свои выводы на реальных жизненных ситуациях, тем более досадно, что существует обширнейший материал о самой чудовищной тюрьме, какую можно увидеть только в самом страшном сне, – я имею в виду гитлеровский концлагерь.
Что касается проблемы спонтанности садизма эсэсовских надзирателей, то она еще не была систематически исследована. При моих ограниченных возможностях в получении данных о проявлении спонтанного садизма у надзирателей (т. е. такого поведения, которое выходит за рамки инструкций и мотивировано садистским наслаждением), судя по опросам бывших заключенных, разброс оценок очень велик – от 10 до 90 %; причем более низкие цифры даны по показаниям бывших политзаключенных[38 - Мне их сообщили лично X. Брандт и профессор Г. Симонсон, которые провели много лет в концлагерях как политзаключенные (43, 1967).]. И чтобы внести ясность в эту шкалу оценок, надо было бы провести систематическое исследование садизма надзирателей в концлагерях. Для такого исследования можно использовать разнообразный материал, например:
1. Систематическое интервьюирование бывших узников концлагерей и ранжирование их высказываний по возрасту заключенных, причинам и длительности ареста и другим характерным показателям, а также интервьюирование бывших надзирателей[39 - Я знаю, что у д-ра Штайнера уже есть готовый материал.].