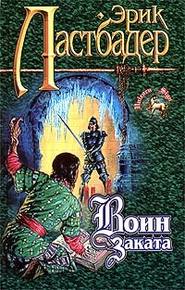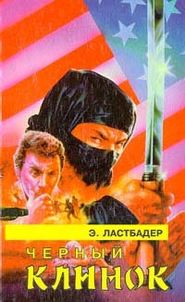По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дай-сан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Перед ним возвышался Эк в черных легких и тонких одеждах, развевающихся на его худощавом теле. Он швырнул в Ронина плоский камень в форме полумесяца. Камень ударил в клинок, меч со звоном упал на камни.
Ронин, однако, не растерялся. Метнувшись вправо, он подхватил огромный зажженный светильник и бросил его в облаке голубого пламени и красных углей в лицо Эку.
Лицо вспыхнуло и загорелось с сухим необычным треском.
Ронин быстро поднял меч, вложил его в ножны и повернулся. Взгляд его скользнул мимо пылающей фигуры Эка, и тут он увидел…
Тело раскачивалось, словно, сделавшись вдруг невесомым, попало в перекрестные токи ветра.
Ронин смотрел.
Из почерневшего, дымящегося провала между широких плеч донесся противный скрежет, словно внутри конвульсивно сжались какие-то гигантские челюсти. Ни на что не похожий, нечеловеческий вопль вырвался навстречу ночи, уже отступающей перед рассветом, и самый воздух над высокой фигурой заколыхался и задрожал так, что Ронин на мгновение перестал различать происходящее.
Воздух очистился. Эк исчез.
Воссоединившись, четверо братьев из Старого Времени – четыре воплощения божества – стали едины. Перед Ронином стоял Ксаман-Балам, Рука темного Тцатлипоки, вдохновитель Раскола, инициатор кощунственного искажения священной Книги Балама, жрец ночи.
Рожденный на западе, где всегда царит тьма, предстал он в одеждах настолько темных, что они поглощали свет. Его огромная голова, посаженная на широкие могучие плечи, представляла собой морду свирепого ягуара. Атавистическое видение Чакмооля, воплощение его Господина: красная, с желтоватыми подпалинами, с острыми желтыми клыками и круглыми желтыми с черным глазами, свирепыми и немигающими.
Ронин, в котором еще пульсировала энергия, все-таки понял, что с его стороны было бы самонадеянно даже предположить, что он устоит в схватке с этим зловещим богом. Ему противостояла сейчас небывалая, ужасающая сила, и тело его содрогалось от исходящих от нее токов.
Перед ним стояла сама смерть. Жизнь отодвинулась куда-то… за пределы воображения…
Огромные звериные челюсти Ксаман-Балама открылись. Из разверстой пасти вырвался звук, который не слышал, наверное, ни один смертный. Этот кошмарный рев врезался в барабанные перепонки, словно тысячи тонких кремневых ножей.
Это был голос последнего из великих богов Ксич-Чи, и Ронин содрогнулся, ощутив свою слабость при первых же знаках силы, находящейся за пределами человеческого понимания. Но когда Ксаман-Балам шагнул к нему, он вынул меч и приготовился к схватке, заглянув внутрь себя и настроив смятенную душу на темное странствие смерти.
Ксаман-Балам приближался, воздев руки со скрюченными когтями, упирающимися в ладони. Ронин еще крепче сжал бесполезный меч, напряг мышцы для последнего – бессильного – удара и поднял клинок.
Но бог неожиданно остановился, и Ронину потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы понять, что Ксаман-Балам пренебрег его жалкой потугой на противостояние и сейчас возносит молитву.
Ронин повернулся лицом к восходящему солнцу.
С востока мчался сгусток слепящего света, словно кусок огня отделился от солнца. Извиваясь в воздухе, он приближался, вырастая в размерах.
Искрясь и пульсируя.
Теперь Ронин увидел, что это огромный змей, покрытый переливчатыми перьями всех цветов радуги. Змей направлялся прямо к вершине Священной Пирамиды Тцатлипоки. Ксаман-Балам стоял неподвижно, словно пронзенный смертельной стрелой.
Откуда-то снизу донесся голос:
– О, Ксаман-Балам, пришел наш конец! С возвращением в мир Атцбилана вернулся и его Отец, как это было предсказано в Долгом Расчете!
Это была Кин-Коба – с лицом, исполненным благоговения и боли, бледным, прекрасным и страшным.
– Кукулькан вернулся в Ксич-Чи! Мы погибли!
Огромная голова змея, точная копия полустертых каменных изображений на стенах храма с обезглавленной статуей, нависла над Ксаман-Баламом. Громадное тело искрилось, извиваясь в воздухе. Трепетание его перьев было подобно вихрю.
А потом трепещущие кольца сомкнулись и заключили темного бога в свои объятия. Ронин смотрел, как переливчатое тело змея сжимает, сдавливает Ксаман-Балама… свирепые челюсти скрежещут, и голова Чакмооля в муке откидывается назад, а ноги приподнимаются над холодными камнями его излюбленной пирамиды.
Черный бог издает вопль – пронзительный крик, вспарывающий небеса.
А Кукулькан все сильнее сжимает свои мерцающие кольца.
Время, кажется, остановилось.
А потом солнечный змей говорит:
– Спрячь меч, сын мой.
Ронин убрал меч в ножны и протянул вперед руку в перчатке из шкуры Маккона – в знаке дружбы, ладонью вверх.
Ладонь наполнилась рубиновым светом, настолько насыщенным, что ему было больно смотреть в его пылающую глубину.
А потом свет сорвался с кончиков его напряженных пальцев и, словно жгучая кислота, выплеснулся в круглые глаза бога с головой Чакмооля.
Полыхнуло жаром.
ПОЛЕТ
Белое. Голубое. Серо-белое с пятнами. Шум в ушах. Холодный воздух обдувает тело – бальзам, исцеляющий боль и страдания.
Невесомость.
Глаза закрываются. Разум парит.
Пальцы тонут в трепещущих мягких перьях. Широкие взмахи. Веера Тенчо, далеко-далеко отсюда. Крупная дрожь.
Усилием воли он открывает глаза. День. Потому что еще светло. Еще будет время поспать, когда придет ночь.
Он потянулся, глядя вниз. Разрыв в пелене облаков, мраморная прореха. Внизу плоское море уходит все дальше, опрокидываясь в перспективу, и закругляется, повторяя изгиб горизонта. Отраженный свет жаркого солнца превращается в булавочные головки ослепительной белизны, пляшущие по поверхности перекатывающейся воды. Это похоже на тигель с расплавленным золотом. Он поискал взглядом черную точку, невидимую на фоне текучего золота. Где ты теперь, Мойши?
Итак, Ронин летит на Кукулькане, Великом Пернатом Змее, удаляясь от искрошенного известняка, от шума влажных и душных лесов холмистого острова, где когда-то был каменный город Ксич-Чи, сметенный толчками могучего землетрясения. Бурлящее сине-зеленое море уже устремилось на захват новой территории, расширяя свои зыбкие, сумеречные владения.
Ксич-Чи плывет теперь по волнам.
Над головой видны перламутрово-серые переливы нижних слоев облаков, собирающихся в тесные кучи и расходящихся под воздействием ветров. Эти кажущиеся незыблемыми небесные города расступаются на пути Кукулькана, мчащегося по небу огромной искрящейся радугой.
А Ронин, опьяненный энергией жизни, которой пронизано все вокруг, завороженный стремительным полетом, держится за пульсирующие бока, за пучки ярких перьев, теплых на ощупь. Он широко раскидывает руки в радостном возбуждении, и кровь поет в его жилах, и свет пульсирует перед глазами, и он ощущает себя неотъемлемой частью этого исполина, летящего в поднебесье, которого Кин-Коба назвала перед смертью Творцом Солнца.
Когда раздавленным насекомым ползла по широкой каменной лестнице пирамиды… А небо светлело, и тускнела луна, даже днем не исчезающая с небосвода на этой широте, но земля потемнела, как ночь, окутанная клубами черного дыма, что рвались из каменной мостовой Ксич-Чи, расходящейся трещинами между зданиями.
Это крошилось само основание острова. На вершине шатающейся пирамиды Кин-Коба отвернула бледное лицо, когда заговорил Кукулькан:
– Заберись ко мне на спину, сын мой.
Ронин указал рукой вниз.
Ронин, однако, не растерялся. Метнувшись вправо, он подхватил огромный зажженный светильник и бросил его в облаке голубого пламени и красных углей в лицо Эку.
Лицо вспыхнуло и загорелось с сухим необычным треском.
Ронин быстро поднял меч, вложил его в ножны и повернулся. Взгляд его скользнул мимо пылающей фигуры Эка, и тут он увидел…
Тело раскачивалось, словно, сделавшись вдруг невесомым, попало в перекрестные токи ветра.
Ронин смотрел.
Из почерневшего, дымящегося провала между широких плеч донесся противный скрежет, словно внутри конвульсивно сжались какие-то гигантские челюсти. Ни на что не похожий, нечеловеческий вопль вырвался навстречу ночи, уже отступающей перед рассветом, и самый воздух над высокой фигурой заколыхался и задрожал так, что Ронин на мгновение перестал различать происходящее.
Воздух очистился. Эк исчез.
Воссоединившись, четверо братьев из Старого Времени – четыре воплощения божества – стали едины. Перед Ронином стоял Ксаман-Балам, Рука темного Тцатлипоки, вдохновитель Раскола, инициатор кощунственного искажения священной Книги Балама, жрец ночи.
Рожденный на западе, где всегда царит тьма, предстал он в одеждах настолько темных, что они поглощали свет. Его огромная голова, посаженная на широкие могучие плечи, представляла собой морду свирепого ягуара. Атавистическое видение Чакмооля, воплощение его Господина: красная, с желтоватыми подпалинами, с острыми желтыми клыками и круглыми желтыми с черным глазами, свирепыми и немигающими.
Ронин, в котором еще пульсировала энергия, все-таки понял, что с его стороны было бы самонадеянно даже предположить, что он устоит в схватке с этим зловещим богом. Ему противостояла сейчас небывалая, ужасающая сила, и тело его содрогалось от исходящих от нее токов.
Перед ним стояла сама смерть. Жизнь отодвинулась куда-то… за пределы воображения…
Огромные звериные челюсти Ксаман-Балама открылись. Из разверстой пасти вырвался звук, который не слышал, наверное, ни один смертный. Этот кошмарный рев врезался в барабанные перепонки, словно тысячи тонких кремневых ножей.
Это был голос последнего из великих богов Ксич-Чи, и Ронин содрогнулся, ощутив свою слабость при первых же знаках силы, находящейся за пределами человеческого понимания. Но когда Ксаман-Балам шагнул к нему, он вынул меч и приготовился к схватке, заглянув внутрь себя и настроив смятенную душу на темное странствие смерти.
Ксаман-Балам приближался, воздев руки со скрюченными когтями, упирающимися в ладони. Ронин еще крепче сжал бесполезный меч, напряг мышцы для последнего – бессильного – удара и поднял клинок.
Но бог неожиданно остановился, и Ронину потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы понять, что Ксаман-Балам пренебрег его жалкой потугой на противостояние и сейчас возносит молитву.
Ронин повернулся лицом к восходящему солнцу.
С востока мчался сгусток слепящего света, словно кусок огня отделился от солнца. Извиваясь в воздухе, он приближался, вырастая в размерах.
Искрясь и пульсируя.
Теперь Ронин увидел, что это огромный змей, покрытый переливчатыми перьями всех цветов радуги. Змей направлялся прямо к вершине Священной Пирамиды Тцатлипоки. Ксаман-Балам стоял неподвижно, словно пронзенный смертельной стрелой.
Откуда-то снизу донесся голос:
– О, Ксаман-Балам, пришел наш конец! С возвращением в мир Атцбилана вернулся и его Отец, как это было предсказано в Долгом Расчете!
Это была Кин-Коба – с лицом, исполненным благоговения и боли, бледным, прекрасным и страшным.
– Кукулькан вернулся в Ксич-Чи! Мы погибли!
Огромная голова змея, точная копия полустертых каменных изображений на стенах храма с обезглавленной статуей, нависла над Ксаман-Баламом. Громадное тело искрилось, извиваясь в воздухе. Трепетание его перьев было подобно вихрю.
А потом трепещущие кольца сомкнулись и заключили темного бога в свои объятия. Ронин смотрел, как переливчатое тело змея сжимает, сдавливает Ксаман-Балама… свирепые челюсти скрежещут, и голова Чакмооля в муке откидывается назад, а ноги приподнимаются над холодными камнями его излюбленной пирамиды.
Черный бог издает вопль – пронзительный крик, вспарывающий небеса.
А Кукулькан все сильнее сжимает свои мерцающие кольца.
Время, кажется, остановилось.
А потом солнечный змей говорит:
– Спрячь меч, сын мой.
Ронин убрал меч в ножны и протянул вперед руку в перчатке из шкуры Маккона – в знаке дружбы, ладонью вверх.
Ладонь наполнилась рубиновым светом, настолько насыщенным, что ему было больно смотреть в его пылающую глубину.
А потом свет сорвался с кончиков его напряженных пальцев и, словно жгучая кислота, выплеснулся в круглые глаза бога с головой Чакмооля.
Полыхнуло жаром.
ПОЛЕТ
Белое. Голубое. Серо-белое с пятнами. Шум в ушах. Холодный воздух обдувает тело – бальзам, исцеляющий боль и страдания.
Невесомость.
Глаза закрываются. Разум парит.
Пальцы тонут в трепещущих мягких перьях. Широкие взмахи. Веера Тенчо, далеко-далеко отсюда. Крупная дрожь.
Усилием воли он открывает глаза. День. Потому что еще светло. Еще будет время поспать, когда придет ночь.
Он потянулся, глядя вниз. Разрыв в пелене облаков, мраморная прореха. Внизу плоское море уходит все дальше, опрокидываясь в перспективу, и закругляется, повторяя изгиб горизонта. Отраженный свет жаркого солнца превращается в булавочные головки ослепительной белизны, пляшущие по поверхности перекатывающейся воды. Это похоже на тигель с расплавленным золотом. Он поискал взглядом черную точку, невидимую на фоне текучего золота. Где ты теперь, Мойши?
Итак, Ронин летит на Кукулькане, Великом Пернатом Змее, удаляясь от искрошенного известняка, от шума влажных и душных лесов холмистого острова, где когда-то был каменный город Ксич-Чи, сметенный толчками могучего землетрясения. Бурлящее сине-зеленое море уже устремилось на захват новой территории, расширяя свои зыбкие, сумеречные владения.
Ксич-Чи плывет теперь по волнам.
Над головой видны перламутрово-серые переливы нижних слоев облаков, собирающихся в тесные кучи и расходящихся под воздействием ветров. Эти кажущиеся незыблемыми небесные города расступаются на пути Кукулькана, мчащегося по небу огромной искрящейся радугой.
А Ронин, опьяненный энергией жизни, которой пронизано все вокруг, завороженный стремительным полетом, держится за пульсирующие бока, за пучки ярких перьев, теплых на ощупь. Он широко раскидывает руки в радостном возбуждении, и кровь поет в его жилах, и свет пульсирует перед глазами, и он ощущает себя неотъемлемой частью этого исполина, летящего в поднебесье, которого Кин-Коба назвала перед смертью Творцом Солнца.
Когда раздавленным насекомым ползла по широкой каменной лестнице пирамиды… А небо светлело, и тускнела луна, даже днем не исчезающая с небосвода на этой широте, но земля потемнела, как ночь, окутанная клубами черного дыма, что рвались из каменной мостовой Ксич-Чи, расходящейся трещинами между зданиями.
Это крошилось само основание острова. На вершине шатающейся пирамиды Кин-Коба отвернула бледное лицо, когда заговорил Кукулькан:
– Заберись ко мне на спину, сын мой.
Ронин указал рукой вниз.