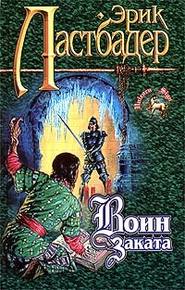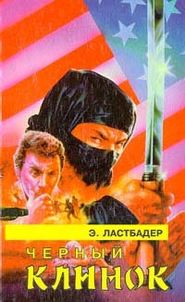По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дай-сан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну как?
– А я еще думал, что я как поэт никуда не гожусь, – буркнул Оками себе под нос.
– Что это означает? – спросил Ронин.
– Я сасори, – сказал молодой человек. – Скоро сасори развернут крылья и отправятся в свой ночной полет, забрав с собой то, что им принадлежит. Больше нам не придется жить на этом маленьком, скудном острове. Скоро богатств хватит на всех жителей Ама-но-мори, буджунов и иноземцев.
– Хватит! – окликнул Оками.
На этот раз Ронин даже и не попытался его остановить. Буджун схватил поэта за грудки. Листок упал на землю.
– Больше я этого слушать не буду. Если вы знаете, где сейчас куншин, вам лучше об этом сказать!
Молодой человек покосился на Ронина, и тот безучастно заметил:
– Думаю, он говорит серьезно. Лучше скажите, вам будет спокойнее.
Поэт перевел взгляд на Оками, который еще сильнее потянул за отвороты его халата. Ткань начинала трещать.
– Сегодня у Асакусы представление ногаку, – выдавил он. – Возможно, там вы его и найдете.
Большой фонарь из промасленной бумаги, качнувшийся на ветру, издал осуждающий звук. Ржанки скрылись за вишневыми деревьями. Верхушка Асакусы уже утонула в лазоревом бархате ночной темноты.
Последние посетители Камейдо скрылись за широкими деревянными дверями алого здания. Мощеный двор опустел.
Оками подошел к Ронину.
– Пора.
Они прошли через двор мимо качающихся вишен.
– Асакуса – самый известный на Ама-но-мори театр ногаку.
– Ногаку – это пьесы? – уточнил Ронин.
– Вроде того.
Они вошли внутрь. Полированная деревянная сцена занимала большую часть пространства. Перед ней, тремя ступеньками ниже, проходила полоса грубого гравия метра три шириной, за которой начинались полированные зрительские ложи с низенькими стенками.
Оками выбрал ложу у центрального прохода, поближе к сцене. Там они и уселись, скрестив ноги.
Оками перегнулся к соседней ложе, пошептался с сидевшим там человеком и сообщил:
– Сегодняшняя ногаку – Хагоромо.
– А что это значит?
– Плащ из перьев.
Театр был полон.
– Он здесь?
Оками повертел головой.
– Пока что-то не видно.
Тонкие пронзительные звуки флейты объявили о начале ногаку. Представление напоминало скорее не пьесу, а стихотворную декламацию. Ведущий актер, наряженный в затейливые парадные одежды, играл женскую роль. Еще на нем был замысловатый парик и маска тончайшей резьбы с нежными чертами небывалой красоты. Ронину сразу вспомнилась Онджин. Второй актер был без маски.
Сначала они просто сидели на полированной сцене и то ли пели, то ли декламировали на языке, непонятном Ронину, сопровождая слова только жестами рук. И все же благодаря отточенному мастерству актеров Ронин уже очень скоро начал разбираться в сюжете.
Некая богиня, потерявшая свой плащ из перьев, спускается в мир людей, чтобы вернуть пропажу. Плащ найден простым рыбаком, который не знает, что именно он нашел, но все-таки понимает, что это – единственная в своем роде, очень ценная вещь. Богиня пытается уговорить рыбака вернуть ей плащ, но ее доводы не убеждают его. Он упорно отказывается расстаться со своей добычей.
В конце концов они заключают сделку. Рыбак готов вернуть плащ из перьев, если богиня согласится станцевать для него.
Подходит кульминация ногаку, полностью основанная на движении, без слов.
Начинается танец богини. Причудливые движения, исполненные эмоций. Неземное, завораживающее искусство. Неудивительно, что все до единого зрители не могут глаз оторвать от актера. Танец продолжается, и вот уже самый воздух заряжается напряжением, порожденным красотой, непостижимой для смертных. Богиня танцует – отчаянно, исступленно. Богиня желает вернуть свой плащ.
И именно в этот момент, когда танец богини достиг предельной вершины, когда исчезли стены Асакусы, растворились границы реальности, и ощущение бесконечности вторглось в душу Ронина, он услышал, как всколыхнулась вселенская тишина:
Ронин.
Под ними неспешно текла река, широкая и голубая. Тростник по ее берегам был срезан, и жирная рыба, довольная и ленивая, апатично поклевывала водоросли, приставшие к подводным камням. В сумраке мелькали светлячки.
У дальнего берега по воде растянулось на многие метры зыбкое отражение трактира – перевернутый зеркальный образ, симметричный и точный. Сооружение из деревянных секций, укрепленное на сваях над струящейся водой.
В конце Оками пришлось буквально тащить Ронина за собой, протискиваясь сквозь толпу.
Над Эйдо все еще нависал туман, укрывая вершину Фудзивары. На промасленных соджи, отделяющих друг от друга компании, которые предпочли в этот вечер поужинать в трактире, висели красные бумажные фонари. Алый свет фонарей создавал ощущение уюта, не достижимое никакими другими средствами – слишком большим был обеденный зал.
«Жива! – думал Ронин. – Жива!»
Гул негромких разговоров и шуршание шелка сопровождало мужчин и женщин, перемещающихся по залу. Кто-то входил, кто-то, наоборот, выходил. Послышался короткий вскрик цапли, промелькнувшей белым пятном на сине-черной воде; отсветы фонарей создавали на ней причудливые искрящиеся узоры. Движение не прекращалось.
Ронин вскочил, повернулся. Но публика непрерывно ходила туда-сюда. Все вокруг шевелилось. Безбрежное море шорохов, безразличное к тому, с какой жадностью переводил он взгляд от одного лица к другому. Где-то там…
– Рисового вина?
Над ними склонилась молодая женщина. Оками бросил взгляд на Ронина.
– Да, – сказал он. – На двоих.
Ронин тревожно смотрел ей вслед. Оками о чем-то спросил его, он не услышал. В зале Асакусы, когда электризующее представление ногаку открыло его разум, он услышал, как она зовет его. Он думал, что уже никогда не услышит этого зова. Моэру… В трактир вошли трое мужчин и женщина и направились к деревянной секции на воде. Его блуждающий взгляд совершенно случайно упал на них, и его словно пронзило током.
– Ронин?
Он вскочил на ноги, глядя во все глаза на женщину, как раз усаживающуюся за столик.
– А я еще думал, что я как поэт никуда не гожусь, – буркнул Оками себе под нос.
– Что это означает? – спросил Ронин.
– Я сасори, – сказал молодой человек. – Скоро сасори развернут крылья и отправятся в свой ночной полет, забрав с собой то, что им принадлежит. Больше нам не придется жить на этом маленьком, скудном острове. Скоро богатств хватит на всех жителей Ама-но-мори, буджунов и иноземцев.
– Хватит! – окликнул Оками.
На этот раз Ронин даже и не попытался его остановить. Буджун схватил поэта за грудки. Листок упал на землю.
– Больше я этого слушать не буду. Если вы знаете, где сейчас куншин, вам лучше об этом сказать!
Молодой человек покосился на Ронина, и тот безучастно заметил:
– Думаю, он говорит серьезно. Лучше скажите, вам будет спокойнее.
Поэт перевел взгляд на Оками, который еще сильнее потянул за отвороты его халата. Ткань начинала трещать.
– Сегодня у Асакусы представление ногаку, – выдавил он. – Возможно, там вы его и найдете.
Большой фонарь из промасленной бумаги, качнувшийся на ветру, издал осуждающий звук. Ржанки скрылись за вишневыми деревьями. Верхушка Асакусы уже утонула в лазоревом бархате ночной темноты.
Последние посетители Камейдо скрылись за широкими деревянными дверями алого здания. Мощеный двор опустел.
Оками подошел к Ронину.
– Пора.
Они прошли через двор мимо качающихся вишен.
– Асакуса – самый известный на Ама-но-мори театр ногаку.
– Ногаку – это пьесы? – уточнил Ронин.
– Вроде того.
Они вошли внутрь. Полированная деревянная сцена занимала большую часть пространства. Перед ней, тремя ступеньками ниже, проходила полоса грубого гравия метра три шириной, за которой начинались полированные зрительские ложи с низенькими стенками.
Оками выбрал ложу у центрального прохода, поближе к сцене. Там они и уселись, скрестив ноги.
Оками перегнулся к соседней ложе, пошептался с сидевшим там человеком и сообщил:
– Сегодняшняя ногаку – Хагоромо.
– А что это значит?
– Плащ из перьев.
Театр был полон.
– Он здесь?
Оками повертел головой.
– Пока что-то не видно.
Тонкие пронзительные звуки флейты объявили о начале ногаку. Представление напоминало скорее не пьесу, а стихотворную декламацию. Ведущий актер, наряженный в затейливые парадные одежды, играл женскую роль. Еще на нем был замысловатый парик и маска тончайшей резьбы с нежными чертами небывалой красоты. Ронину сразу вспомнилась Онджин. Второй актер был без маски.
Сначала они просто сидели на полированной сцене и то ли пели, то ли декламировали на языке, непонятном Ронину, сопровождая слова только жестами рук. И все же благодаря отточенному мастерству актеров Ронин уже очень скоро начал разбираться в сюжете.
Некая богиня, потерявшая свой плащ из перьев, спускается в мир людей, чтобы вернуть пропажу. Плащ найден простым рыбаком, который не знает, что именно он нашел, но все-таки понимает, что это – единственная в своем роде, очень ценная вещь. Богиня пытается уговорить рыбака вернуть ей плащ, но ее доводы не убеждают его. Он упорно отказывается расстаться со своей добычей.
В конце концов они заключают сделку. Рыбак готов вернуть плащ из перьев, если богиня согласится станцевать для него.
Подходит кульминация ногаку, полностью основанная на движении, без слов.
Начинается танец богини. Причудливые движения, исполненные эмоций. Неземное, завораживающее искусство. Неудивительно, что все до единого зрители не могут глаз оторвать от актера. Танец продолжается, и вот уже самый воздух заряжается напряжением, порожденным красотой, непостижимой для смертных. Богиня танцует – отчаянно, исступленно. Богиня желает вернуть свой плащ.
И именно в этот момент, когда танец богини достиг предельной вершины, когда исчезли стены Асакусы, растворились границы реальности, и ощущение бесконечности вторглось в душу Ронина, он услышал, как всколыхнулась вселенская тишина:
Ронин.
Под ними неспешно текла река, широкая и голубая. Тростник по ее берегам был срезан, и жирная рыба, довольная и ленивая, апатично поклевывала водоросли, приставшие к подводным камням. В сумраке мелькали светлячки.
У дальнего берега по воде растянулось на многие метры зыбкое отражение трактира – перевернутый зеркальный образ, симметричный и точный. Сооружение из деревянных секций, укрепленное на сваях над струящейся водой.
В конце Оками пришлось буквально тащить Ронина за собой, протискиваясь сквозь толпу.
Над Эйдо все еще нависал туман, укрывая вершину Фудзивары. На промасленных соджи, отделяющих друг от друга компании, которые предпочли в этот вечер поужинать в трактире, висели красные бумажные фонари. Алый свет фонарей создавал ощущение уюта, не достижимое никакими другими средствами – слишком большим был обеденный зал.
«Жива! – думал Ронин. – Жива!»
Гул негромких разговоров и шуршание шелка сопровождало мужчин и женщин, перемещающихся по залу. Кто-то входил, кто-то, наоборот, выходил. Послышался короткий вскрик цапли, промелькнувшей белым пятном на сине-черной воде; отсветы фонарей создавали на ней причудливые искрящиеся узоры. Движение не прекращалось.
Ронин вскочил, повернулся. Но публика непрерывно ходила туда-сюда. Все вокруг шевелилось. Безбрежное море шорохов, безразличное к тому, с какой жадностью переводил он взгляд от одного лица к другому. Где-то там…
– Рисового вина?
Над ними склонилась молодая женщина. Оками бросил взгляд на Ронина.
– Да, – сказал он. – На двоих.
Ронин тревожно смотрел ей вслед. Оками о чем-то спросил его, он не услышал. В зале Асакусы, когда электризующее представление ногаку открыло его разум, он услышал, как она зовет его. Он думал, что уже никогда не услышит этого зова. Моэру… В трактир вошли трое мужчин и женщина и направились к деревянной секции на воде. Его блуждающий взгляд совершенно случайно упал на них, и его словно пронзило током.
– Ронин?
Он вскочил на ноги, глядя во все глаза на женщину, как раз усаживающуюся за столик.