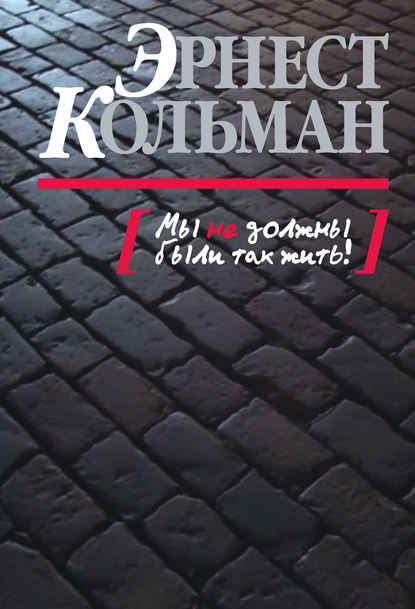По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мы не должны были так жить!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь, когда не было отца, который настоял бы на том, чтобы я продолжал инженерное образование, я склонил мягкую мать к тому, что стану не инженером, а профессором математики. Распрощавшись с политехникумом, я окончательно превратился в студента философского факультета. В то же время и брат Рудольф, которому было тогда пятнадцать лет, после окончания с незавидными отметками четвертого класса гимназии, не захотел продолжать в ней учиться. После крупных сцен, он, еще более упрямый, чем я, настоял на своем желании самостоятельно зарабатывать, и поступил учеником-приказчиком в фирму «Шпиц и Мунк», торговцев мануфактурой. Это далеко не поэтическое занятие, однако, не помешало брату развивать дальше свои музыкальные способности и сочинять лирические стихи, которые, несмотря на столь юный возраст их автора, то и дело появлялись в печати. А сестра Марта, только еще окончившая к тому времени начальную школу (ей было 12 лет), поступила затем в художественно-промышленное училище, и стала специалистом по декоративному искусству, работала рисовальщицей новых узоров для текстильных тканей. Одновременно она училась музыке, пению и сделалась первоклассной оперной певицей. Но все это относится к тому времени, когда меня уже давно не было на родине.
Освободившись от политехникума, от трудоемкого черчения, я смог в университете почти всецело посвятить себя посещению лекций, участию в семинарах и библиотечному чтению научных книг и журналов. Я говорю «почти», так как часть моего рабочего времени уходила на два урока на дому по математике. Кроме того, я раз в неделю ездил в Уста (Ауссиг), в северную Чехию, где в кружке еврейской националистической молодежи преподавал иврит. Это очень хорошо вознаграждалось, мне оплачивали и стоимость билетов скорым поездом.
В университете в то время философские науки читали несколько профессоров и доцентов: будущий первый президент Чехословакии Масарик, затем Крейчи, Радл, Тврды, Халупны и Дртина. Все они, без исключения, были сторонниками идеализма. Масарик, эклектическая философия которого примыкала к платонизму, и чьи социалистические взгляды и политическая деятельность (он был лидером партии «реалистов», издававшей газету «Время» – «Сах») были – для представителя буржуазной интеллигенции – несомненно левыми, передовыми, пользовался большой популярностью среди студенчества, да и среди рабочих. На меня он производил сильное впечатление оригинальной личности, искреннего демократа. Конечно, позднее, при его президентстве, творилась антинародная политика, в том числе расстрелы бастующих рабочих. Этим Масарик только лишний раз оправдал болгарскую поговорку: «Хочешь узнать человека, дай ему власть», верность которой, как это ни странно, исторически подтверждена для политических (и не только политических, но и научных и культурных) руководителей любого общественного класса. Что же касается позднейших антибольшевистских выступлений Масарика (равно как и Андре Жида, и ряда других представителей западно-европейской интеллигенции), которые мы, коммунисты, тогда с негодованием отвергали и клеймили как запроданные капитализму, то сейчас, в ретроспективе, после разоблачения массовых кровавых преступлений сталинского террора и продолжающегося и поныне попирания элементарных прав человека и расправы с инакомыслящими, я, как мне кажется, способен объективно расценить и понять причину этих выступлений. Масарик и другие просто отождествляли последовательно коммунистические, а значит высоко гуманные принципы большевизма, с их извращениями правящими советскими, а после и другими «социалистическими» политиками, чтобы обрушиться на эти принципы. Но такое же отождествление сознательно или по недомыслию допускают современные коммунисты-аллилуйщики для того, чтобы всячески оправдывать этих политиков, обелять их злодейства.
Небезынтересно отметить, что на семинарских занятиях, которые, как правило, вел не профессор, а доцент, зачастую разгорались горячие диспуты, из которых «победителем» не всегда выходил руководитель. А во время экзамена студент мог защищать взгляды, идущие вразрез с мнением профессора – правда, не всякого, были и крайне нетерпимые, и расхождения обычно не были слишком уж радикальными. Но во всяком случае большинство экзаменаторов выше всего ценило не пересказ прослушанного и прочитанного, а умение самостоятельно критически философски мыслить. И опять-таки нельзя воздержаться от сравнения: попробуй теперь советский или чехословацкий студент на экзамене по основам марксизма-ленинизма высказать какую-нибудь свою, собственную, выстраданную им, но по мнению преподавателя еретическую, крамольную мысль – провал, а то и «проработка» и даже изгнание из института, а не исключено и арест, ему обеспечены.
Мои математические занятия продвигались успешно. За время пребывания в высшей школе, я не только продолжал решать задачи по элементарной математике, публикуемые в приложении к «Журналу чешских математиков и физиков», но иногда и сам составлял их и посылал в журнал. Это пристрастие к математическим (а в последние годы и к логико-математическим) задачам осталось у меня и теперь, я люблю решать их и мучить ими любителей, и своему математически одаренному внуку, пятнадцатилетнему Васе, иногда предлагаю их. Книжка «Занимательная логика», написанная по моей инициативе вместе с профессором Зихом, тоже свидетельствует об этом увлечении.
Еще до того, как я окончил университет, я стал работать вычислителем при астрономической обсерватории. Меня не могли зачислить в ее штат не только потому, что у меня пока еще не было научной степени. Дело в том, что при существовавших австрийских бюрократических порядках, прославленного «шимля», для назначения на штатную должность «ассистента вычислителя», как и в любом государственном учреждении самого низшего чиновника, требовалось утверждение министерства в Вене. На это уходили многие месяцы, а то и год-два. В моем случае приходилось ожидать затяжки, а то и опасаться, что утверждения вовсе не последует.
На основании международного разделения труда, существовавшего между обсерваториями, мы в Праге занимались определением орбит астероидов – малых планет, которых, главным образом в пространстве между Марсом и Юпитером, насчитывается свыше полутора тысяч. В большинстве они очень малы, и, должно быть, являются осколками пятой по счету планеты, когда-то обращавшейся вокруг Солнца, но погибшей вследствие какой-то катастрофы. Какие могли быть причины? То ли столкновение с кометой, или другим небесным телом, то ли внутренние напряжения, вызвавшие взрыв планеты, а то и «успехи», быть может, существовавшей на ней цивилизации, приведшие к уничтожению самой планеты в термоядерной или еще более гибельной тотальной войне? В наш атомный век, для сочинителей фантастических романов тут имеется готовый сюжет.
Мы получали в готовом виде лишь столбцы цифр – исходные данные, координаты различных положений астероида, снятые, замеренные с фотопластинок. При существовавшей тогда вычислительной технике – семнадцатиместных таблиц логарифмов и гониометрических функций и ручных арифмометрах – это была очень кропотливая работа, продолжавшаяся многие месяцы.
А в настоящее время, после составления программы – процесса, который также может быть, хотя бы частично осуществлен автоматически – ЭВМ выполняет эту работу в течение нескольких минут, в крайнем случае, часов.
С тех пор, несмотря на бурные перипетии моей жизни, на долгое время оторвавшие меня от науки, я не потерял живого интереса к астрономии. Когда, после 1962 года, я снова вернулся в Москву, то в течение всего времени принимал активное участие в методологическом семинаре Астрономического института имени Штернберга, выступая на нем с докладами. В Чехословакии я дружил с космологом Пахнером, притесняемом и в конце концов вынужденном эмигрировать, а в Москве – с талантливым Зельмановым.
В связи с философскими проблемами естествознания, хочу еще заметить, что я недоумевал тогда (теперь недоумевать перестал, но многие недоумевают и сейчас), как же это немалое количество ученых-естественников могут быть искренне религиозными. Мы, студенты, знали, например, что один из профессоров, читавших звездную астрономию и астрофизику, и в своих лекциях никогда не упоминавший о боге и других сверхъестественных силах, перед началом занятий отстаивал на коленях заутреннюю мессу в университетской часовне.
Замечательные люди
Упомянув о мировоззренческих проблемах, я вспомнил, что раньше я позабыл назвать престарелого профессора Тильшера, геометра, который на своих лекциях – я слушал их, правда, только спорадически – обязательно затрагивал, с позитивистских позиций, философские проблемы математики, в особенности вопрос о существовании, наряду с эвклидовой, одинаково логически непротиворечивых неэвклидовых геометрий. Во всяком случае, уже к тому времени у меня все сильней стал проявляться интерес к методологии математики, к вопросам ее логико-философских основ, а также к методологическим вопросам физики и астрономии, равно как и истории всех этих наук. Но, конечно, наиболее сильное влияние в этом отношении оказали на меня лекции Эйнштейна.
О существовании теории относительности (равно как и квантовой теории) я узнал из научно-популярных журналов и, позднее, из курса Хвольсона. Но на одном из математических семинаров я завел знакомство со студентом физики старшего курса, очень даровитым, оригинально мыслившим Ружеком. По его просьбе я стал помогать ему в математическом обзорном реферате о Бернуллиевых числах, и вот однажды Ружек с восторгом сообщил мне, что в немецком университете сам основатель теории относительности, представляющей настоящую революцию в науке, Альберт Эйнштейн будет читать лекции. И он, Ружек, обязательно станет их посещать. Он уговорил меня сделать то же.
Хотя доступ на университетские лекции был вполне свободен, я не без некоторой опаски входил в аудиторию «чужого» немецкого университета. Она оказалась битком набитой, присутствовали не только студенты, немцы и чехи, но и многие профессора. Со времени опубликования первой работы Эйнштейна по теории относительности прошло шесть лет. За это время вокруг нее и ее автора создалась атмосфера жарких споров, восхищения и негодования, в те годы, правда, еще ограничиваясь сравнительно узкими научными кругами. Как-никак теория относительности представлялась многим чем-то заумным, а сам Эйнштейн, преемник здесь, в Праге, кафедры Маха, сенсацией.
Как это полагается на вступительной лекции нового профессора, Эйнштейна аудитории представил ректор. Эйнштейн оказался среднего роста, довольно плотным, совсем молодым еще мужчиной, с буйной курчавой шевелюрой, для профессора университета и этого торжественного момента несколько небрежно одетым. И без всякой торжественности он начал быстрым темпом излагать в сжатом виде основы специальной теории относительности. Это должно было служить лишь введением к его лекциям по общей теории относительности, которую он тогда, а также ее приложение к космологии, разрабатывал. Уже на этой первой лекции было ясно, что большинство слушателей не в состоянии понимать специальное «сухое» физико-математическое изложение лектора, и не услышали от него – по крайней мере на этот раз – тех обще-философских рассуждений, ради которых – если не просто ради того, чтобы увидеть знаменитость, или потому, что так «полагается» – они явились сюда.
Уже со второй лекции аудитория стала заметно редеть – мы с Ружеком установили, что в убывающей геометрической прогрессии – пока не стабилизировалась на каком-то десятке с лишним человек-энтузиастов. На Эйнштейна, однако, это не произвело заметного впечатления. Он придерживался такого же принципа, как и наш профессор Соботка, который говаривал: «Ничего, трое составляют общество – бог-отец, бог-сын и дух святой присутствуют всегда, а поэтому, если вас, господа, и никого не будет, я все-таки стану читать».
На следующие лекции Эйнштейн приходил одетым совсем по-домашнему, в свитере, часто без галстука, зато однажды, по рассеянности, явился сразу в двух. В то время носили кальсоны, завязывавшиеся внизу тесемками. Эти тесемки у него иногда болтались, испачканные осенней слякотью пражских улиц. Понятно, что мы, студенты, сразу же зачислили Эйнштейна в чудаки. Но чудно, и вместе с тем чудно было совсем другое – содержание его лекций, способ изложения и его отношение к слушателям. Почти каждая его лекция была творческой импровизацией, он просто рассказывал о том, над чем в данное время думал, зачастую спорил сам с собой, призывал нас участвовать в этом споре. Напишет на доске то крупными знаками, то мелким, почти бисерным почерком уравнение. А потом внезапно задумается и взволнованно говорит: «Что же вы, господа, молчите? Ведь все это неправильно, тут ошибка!» И стирает написанное, заменяет другим. А то откладывает продолжение, заявляя: «Надо нам это продумать». Какая разница между Эйнштейном и теми непогрешимыми, богоравными политиками, которые ни за что не признают допущенные ими ошибки!
Эйнштейн любил, чтобы его перебивали, – вещь немыслимая у других профессоров, – чтобы задавали «каверзные» вопросы, вел длинные беседы со слушателями. Часто – даже в дождливую погоду, на которую Прага не скупится, – небольшая группа студентов провожала его домой после лекции. И если интересная беседа не кончалась, то он – уже тогда мировая знаменитость – был в состоянии повернуть и сам проводить провожавших его до «менсы» – студенческой столовой. Да, Эйнштейн был подлинным, не показным демократом.
Но популярность Эйнштейна имела уже тогда и обратную сторону. Немецкие националистические, антисемитские студенты, «бурши» разных объединений, отличавшихся своими разноцветными фуражками, всячески старались отравить ему пребывание в Праге. Возможно, отчасти в виде внутреннего протеста, в Эйнштейне пробудилось сознание принадлежности к еврейской национальности, или, во всяком случае, усилилось в нем. Он стал общаться с пражской еврейско-националистической и сионистской интеллигенцией. И, не будучи правоверным сторонником иудаизма, он стал играть по большим еврейским праздникам в синагоге на своей любимой скрипке. Как известно, из Праги Эйнштейн уехал в Берлин, где ему были созданы исключительно благоприятные условия для работы, пока жуткая волна гитлеризма не захлестнула Германию.
Я без смущения сознаюсь, что мне было трудно понимать лекции Эйнштейна. Пришлось изучить новый созданный аппарат специального тензорного анализа. Но я выдержал, и вместе с Ружеком, которому обязан тем, что пришел в соприкосновение с величайшим физиком нашего времени, первым из тех многих замечательных людей, с которыми жизнь, не баловавшая меня в других отношениях, в виде компенсации дала мне возможность встретиться, до конца оставался одним из немногих слушателей. Пространство, время, материю и ее движение Эйнштейн толковал – как я сейчас понимаю – отнюдь не по-махистски, а как существующие объективно, независимо от познающего их субъекта, причем не в боге, не в каком-то абсолютном мировом духе, а в материальной природе. Его религиозные взгляды сводились, собственно, лишь к признанию некоего высшего морального принципа, к вере в человека, в гуманизм, в духовный исторический прогресс. Впоследствии, как я об этом расскажу в своем месте, мне вновь пришлось встретиться с Эйнштейном. А про Ружека я, после моего возвращения в Прагу в 1945 году, узнал, что он спился и преждевременно умер.
Окончание университета завершилось, как и положено, «промоцией» – торжественным вручением диплома. В большой «ауле», – актовом зале, – получала его сразу целая группа выпускников философского факультета. За длинным, покрытым красным сукном столом, на возвышении, сидели профессора, во главе с деканом, одетые в черные мантии и береты, с золотой цепью на шее. Был тут и «педель» – привратник в красной мантии, державший золотой жезл – знак достоинства университета, который впоследствии украли нацисты. Играла праздничная музыка, орган, звучали фанфары. Я, как и другие выпускники, должен был повторить латинскую формулу клятвенного обещания никогда не извращать науку ради посторонних, корыстных целей, применять ее исключительно только на пользу человека, а не во вред ему. Эта формула, как в основных чертах, а отчасти даже в буквальном тексте, и вся церемония, сохранились со средних веков, со времени основания Пражского университета Карелом IV в 1348 году.
В свои студенческие годы я соприкоснулся также с литературным миром. Для этого мне не приходилось ходить далеко, ведь трое моих родственников со стороны матери были писателями, причем даже известными: два двоюродных брата – Франтишек и Йиржи Лангеры и троюродный брат Макс Брод. Франтишек, старше меня на четыре года, в то время заканчивавший медицинский факультет, уже прославился не только лирическими стихами, но и рассказами, а главное – стихотворной драмой «Святой Вацлав», удостоившейся постановки на сцене национального театра. В ней молодой легендарный Вацлав, первый из чешских королей, став во главе народа, избавляет его в победной борьбе от нашествия чужеземцев, возможно тоже пришедших «освобождать» бедных чехов (ведь и Гитлер был в Чехии только «протектором», что значит «охранителем», а войска пяти «социалистических» стран, «вошедшие» в нее в 1968 году, тоже лишь «спасали» ее).
Франтишек Лангер получил звание национального художника Чехословакии. Пройдя сложный путь от неоформленных анархистских увлечений ранней молодости, затем симпатий к марксизму, Лангер, попав на русский фронт Первой мировой войны, тут же вместе со всем полком, состоящим преимущественно из чехов, сдается в плен, и как дивизионный врач в чехословацких легионах, принимает участие в национально-освободительной борьбе против Австро-Венгрии. А в дальнейшем, в Самаре и в Сибири, вместе с другими легионерами, Фирлингером и Свободой в том числе, обманутыми своим политическим руководством, он участвует в жестоких выступлениях против большевиков. Так получилось, что мы с Франтишеком тогда, собственно, воевали друг против друга.
История чехословацких легионеров так до сих пор и не появилась. Да возможна ли вообще объективная историография? Существовала ли она когда-либо? Не являются ли все исторические сочинения палимпсестами – папирусами, на которых всякий последующий древне-египетский храмовый писец тщательно выскабливал предыдущий текст, и заменял его угодным царствующему фараону?
Франтишек Лангер принадлежал по своему литературному профилю к кругу Карела Чапека, близким другом которого он был. Его произведения выделяются тонкой философской направленностью, поисками ответов на вечные «проклятые» вопросы, занимающие человека всю жизнь и во все века. Он давал читателю выпить чашу и сладости и горечи до дна.
Лангер участвовал и во Второй мировой войне, в рядах чехословацких войск во Франции, в чине генерала руководил их медицинской службой. Своей антивоенной, антифашистской тематикой (рассказ «Речь над колыбелью», драма «Бронзовая рапсодия», написанная в последние годы жизни) он продолжил те подлинные гуманистические и демократические мотивы своего богатого творчества, которые, как и у всех передовых чешских писателей, характеризуют его лучшие произведения.
Именно благодаря Франтишеку я впервые увидел Гашека. Еще до этой встречи я прочитал несколько фельетонов Гашека, которые этот богемствующий юморист, о чьих веселых похождениях ходили по Праге самые невероятные истории, помещал без разбора в любых газетах, кроме, разве, крайне правых, клерикальных. Но вот, в 1911 году, во время дополнительных выборов в Краевой сейм от нашего города Королевские Винограды, Франтишек предложил мне пойти с ним на одно собрание, обещав, что я там потешусь на славу. Мы отправились вечером в трактир «Кравин». Здесь проходило предвыборное собрание новой политической партии, «Партии умеренного прогресса в рамках закона», которую издевательски основал Гашек, выдвинув от нее кандидатом в Сейм самого себя.
В насквозь прокуренном и пропахшем пивными парами не очень большом зале, в сизом дыму которого, как говорится, можно было топор повесить, было битком набито. За столами, осушая одну кружку пива за другой, сидели собравшиеся сюда со всей Праги друзья Гашека и почитатели его юмора. Но было также и немало жителей Коронного проспекта (ныне проспект Вильгельма Пика), где располагался трактир, и прилегавших к нему улиц, привлеченные именем кандидата и странным названием его партии. Под импровизированным помостом, за длинным столом сидели с важным лицом основатели этой партии, члены ее Центрального комитета. И Франтишек, как один из них, уселся там, потащив и меня. А на возвышении за небольшим столиком восседал, строя еще более серьезное лицо, молодой председатель собрания, и там же полицейский комиссар, строгий, в полной форме, снявший лишь кепи. Здесь же стоя с увлечением, разойдясь, выступал со своей «кандидатской речью» сам Гашек.
Это был пухлый, розовощекий шатен с рыжеватым оттенком волос, с маленькими слезящимися сероватого цвета глазками, с неопределенной постоянной добродушной улыбкой, почти не сходившей с его, казалось, никогда не смеющегося лица, с какими-то в общем замедленными, но иногда не к месту порывистыми движениями. Он производил впечатление человека, находящегося постоянно «на взводе», а сейчас, вдобавок, изрядно уже хватившего. Так оно, должно быть, и было, потому что мы с Франтишеком сильно опоздали, а Гашек ораторствовал уже час или два, то и дело залпом осушая кружку, чтобы прочистить горло. Но как он говорил! Это были сплошь шедевры экспромтов, пародии на трескотню политиканов, на пустословие газетных передовиц, выпады против кандидатов-соперников, обещания реформ, которых он, Гашек, будучи избранным депутатом, добьется! И все это пересыпано анекдотами, неподражаемыми клоунадами, тут же разыгрываемыми им. Зал снова и снова грохотал от взрывов хохота. А полицейский комиссар, абсолютно не понимая, что здесь творится, растерянно ерзал на месте, не зная, следует ли ему вмешаться. На этом кончилось мое первое знакомство с Гашеком. Следующие встречи состоялись лишь через три года, а затем еще через шесть лет.
Литературное творчество младшего брата Франтишека, Йиржи (или Мордехай, как он своим еврейским именем стал позже называть себя), о близкой дружбе с которым в детские годы я уже рассказывал, принадлежит сразу трем литературам. Он писал одинаково свободно на чешском, немецком и древнееврейском языках. Правда, писательская известность пришла к нему уже тогда, когда меня давно не было в Праге.
Интерес ко всему таинственному, который Йиржи и прежде проявлял, как свойственно юному возрасту, но только более интенсивно, чем он выражался у других, в том числе и у меня, с годами стал у него все больше усиливаться, превращаться в увлечение религиозной мистикой, направление же моего ума вообще было естественно-научное, и поскольку – как я об этом тут же расскажу – я стал усваивать научное, материалистическое мировоззрение, непримиримое ни с какой мистикой. А Йиржи между тем сблизился с Альфредом Фуксом, парнем моего возраста, стройным, с пританцовывающей походкой, и они вместе стали изучать Талмуд, комментарии к нему, а главное – Каббалу. Для этого они освоили и родственный древнееврейскому, но все же сильно отличающийся от него, мертвый арамейский язык. В то время в Праге в церкви Змауэского монастыря, по воскресеньям вел свои пламенные фанатичные проповеди патер Альбан, гремевший ораторской славой Савонаролы. Под его влиянием многие холодные христиане «обращались» к вере, а Альфред Фукс сменил еврейскую мистику на католическую, углубился в средневековые латинские тексты, затем принял крещение, стал монахом и видным религиозным философом. После оккупации Чехословакии нацистами, гестапо извлекло Фукса из монастыря и замучило его в концлагере в Дахау.
Однако Йиржи Лангер практически превратился в хасида. В 1914 году Йиржи уехал в восточную Галицию, в местечко Бельц, где некоторое время подвизался при «дворе» тамошнего раввина-чудотворца, пожалуй, самого прославленного своим прямым «общением» с богом. Но с этой печальной унылой болотистой местностью, с этой дикой заброшенностью, отсталостью и грязью местечка, жившего как бы еще в XIV веке, Йиржи не мог свыкнуться. И он вернулся домой.
Он появился здесь в полном хасидском наряде, в длинном до пят кафтане, глубоко нахлобученной широкополой черной плюшевой шляпе, которую хасиды, вместе с языком идиш в век миннезингеров вывезли с собой из южной Германии и консервативно сохранили. Лицо, все заросшее рыжеватой бородой, длинные вьющиеся пейсы до плеч. Он так ходил по Праге, вызывая насмешки прохожих, смущение и возмущение домашних. Но вскоре он вновь уехал к своим хасидам – как он утверждал, ему так велел «явившийся» ему бельцский раби. Однако тут же началась война, и Йиржи мобилизовали. На военной службе, не желая осквернять себя пищей «трейфе», он питался одним только хлебом и луком, и наотрез отказывался носить в субботу винтовку. Его арестовали, угрожали военным трибуналом, но признали душевнобольным и от военной службы освободили. И Йиржи еще раз вернулся в восточную Галицию, где, однако, разгорелись самые бурные военные действия того времени. Тогда он, вместе с хасидами, эвакуировался в Венгрию, где и оставался до 1918 года, до распада Австро-Венгрии. Теперь уже гражданин Чехословакии, он снова возвратился в Прагу. Все эти приключения Йиржи, начиная с 1914 года, мне стали известны по воспоминаниям Франтишека Лангера.
Вернувшись, Йиржи, к удивлению всех, углубился в изучение сочинений Фрейда, опубликовал несколько статей в фрейдистском журнале «Имаго», и в 1923 году на немецком языке книжку «Эротика Каббалы», а на иврите – поэтический сборник «Пиютим веширей едидут» («Стихи и песни дружбы»). Он сдружился с писателем Францем Кафкой, который был старше его на 11 лет, и с писателем Максом Бродом, тот был старше на 10 лет. Йиржи издал на чешском научно-популярную книжку о Талмуде и его возникновении со ста отрывками, переведенными из него. В то время германские фашисты уже начали распространять свою человеконенавистническую «мораль» и антисемитскую пропаганду. И по замыслу Йиржи его книжка должна была дать этому отпор.
Конечно, Талмуд – это средневековое сочинение, содержащее, наряду с прекрасными, поэтичными народными легендами, которые высоко ценили Бялик и Горький, в своих узаконениях религиозного права и быта массу всякого суеверного вздора. Однако, в общем этика Талмуда гуманна, несравненно выше звериной аморальности не только таких пасквилей, как «Mein Kampf», но и тех, якобы антисионистских, на деле же антисемитских, писаний, в немалой мере сдутых с дореволюционных, черносотенных, которые в последние годы стали выходить массовыми тиражами в СССР, Чехословакии и Польше. В 1937 году появились «Песни обреченных» (в 1939 они были изданы вторично) – чешский перевод, сделанный Йиржи, избранных еврейских поэтов с XI по XVIII век, включая и элегию Авигдора Кара, одного из немногих, кто пережил кровавый погром пражского гетто в 1389 году. В том же 1937 году вышла чешская книга Йиржи, самый прекрасный его труд «Девять ворот» – рассказы и легенды о хасидах, принадлежащая, по общему мнению, к жемчужинам чешской художественной литературы. В 1959 году она была переведена на немецкий язык, а в 1961 вышла на английском в Лондоне и Нью-Йорке.
Осенью 1939 года, спасаясь от гитлеровцев, Йиржи перебрался в Словакию, откуда подкупленные гестаповцы за приличную мзду давали пока еще евреям бежать в Палестину. Плывя в невероятно тяжелых условиях при тридцатиградусном морозе на железной барже по Дунаю, Йиржи простудился и, прибыв в «обетованную землю» тяжело больным, после четырехлетних страданий скончался в 1943 году в Тель-Авиве от нефроза. Будучи больным, он продолжал писать, и, уже посмертно вышел сборник его стихов «Меат цори» («Немножко бальзама»), содержащий и стихотворение «На смерть поэта», посвященное Францу Кафке.
С Максом Бродом мы встречались редко. Я находился с ним лишь в отдаленном родстве, а, главное, он, как он сам называл себя, был «еврейским писателем немецкого языка», а, следовательно, мы вращались в разных кругах. Он был старше меня на восемь лет, что в молодом возрасте много. Кроме всего прочего, он был юристом, а у меня всегда – будь я суеверен, я сказал бы, в предчувствии моих будущих судеб – почему-то чувствовалась какая-то аверсия ко всем и ко всему, что связано с правосудием.
Наконец, Макс Брод уже тогда, когда я впервые прослышал о нем, славился как выдающийся автор романов и повестей, действия которых иногда развиваются в современной, а то и средневековой пражской среде, проникновенно воспроизведенной им. И я, естественно, чувствуя большое почтение к писателю, робел перед первой встречей с ним. Не помню уже по какому поводу, она состоялась у него на квартире, куда я с мамой пришел в гости. Но Макса Брода я представлял себе совсем другим. Ничего от великого, или хотя бы знаменитого человека. Простой человечек низенького роста, вдобавок горбатый. Осталось общее впечатление: гуманиста, ратующего за культурное сближение населения Чехии – чехов, немцев и евреев; еврейского националиста, но отнюдь не шовиниста, затем сиониста, а в философии – идеалиста.
Макс Брод был самым близким другом Франца Кафки, а после его смерти издателем и комментатором его сочинений. Этот необыкновенно своеобразный писатель сумел как никто другой в своих в большинстве не оконченных романах «Америка», «Процесс», «Замок» и в своих рассказах выразить не только страх, тоску, заброшенность, одиночество человека в обесчеловеченном мире империализма, а поразительно тонко почувствовать весь ужас бытия в любом тоталитарном государстве, где человек отдан на произвол безымянных сил. Несомненно, что тому, что Кафка смог столь остро ощутить весь тот надвигавшийся на человека кошмар, в котором мир, не только в Германии, но и в СССР, и в США, погрузился с тридцатых годов, содействовало то, что Франц Кафка был еврей, с сильным национальным самосознанием, пробудившемся в нем под ударами антисемитизма, чутко воспринимавший все положительное, как и отрицательное, что связано с еврейством. Вместе с Максом Бродом Кафка изучал иврит, их учителем был как раз Йиржи Лангер. Макс Брод повторял, что одна лишь толерантность, терпимость к другой нации, не только недостаточны, но и оскорбительны, что они сводятся к этакому похлопыванию по плечу. У нас, коммунистов, термин «националист» давно стал бранным словом, по крайней мере в применении ко всякой другой нации кроме русской, да еще и арабской. О великодержавном русском национализме стыдливо умалчивают. А также о том, что великий интернационалист Ленин написал статью «О национальной гордости великороссов». Если подлинный интернационалист имеет право гордиться тем, что он русский, почему интернационалисту-еврею нельзя гордиться тем, что он еврей? Почему он тогда становится сразу не то «космополитом» не то «сионистом»? Видите ли, еврею положено ассимилироваться. Но для ассимиляции нужны двое: тот, кто желает ассимилироваться, и тот, кто позволяет, чтобы к нему ассимилировались.
Мы должны признать, и отнюдь не только в связи с «еврейским вопросом», что Маркс, при всей своей гениальности, недооценил значение национального вопроса (в частности, доверившись предвзятым, пангерманистским источникам, он считал чехов нацией, обреченной на гибель). Национальный вопрос, как об этом свидетельствует вся новейшая история, будет еще не предвидимо долго играть огромную роль. Хотя и в меньшей мере, чем Маркс, Ленин тоже недооценил все значение национального самосознания.
Ведь не все ли, в конце концов, равно, нация или только национальность евреи, раз они сами, или какая-то часть их, ощущают свою самобытность, которую – не только в религиозной форме – они, вопреки всем жесточайшим преследованиям, через два тысячелетия сумели сохранить. И не требовала ли материалистическая диалектика признания Лениным того, что раз евреи, которые ведь когда-то несомненно были нацией, смогли, при определенных исторических условиях, потерять требуемые им для определения нации признаки, то может наступить также момент, когда они, при других исторических условиях снова приобретут их?
Ведь каким гигантским бы ни было определяющее значение классовой борьбы в развитии общества, она все же не ликвидирует, а только модифицирует национальную, а также и религиозную борьбу.
Что же касается сионизма, то я считаю, что мы, коммунисты, не имеем никаких причин возражать против того, чтобы евреи, если они этого желают, возродились как нация, со своим государством, языком, всей культурой. Однако мы решительно должны возражать против того, чтобы навязывать евреям эту идею, чтобы считать каждого еврея, гражданина любой страны, потенциально гражданином Израиля, чтобы осуждать его за то, что он желает ассимилироваться. Столь же решительно мы должны выступать против того, чтобы суверенитет евреев в Израиле осуществлялся за счет арабов, их экономической, политической и культурной дискриминации. Совершенно неприемлем так называемый «принцип исторических границ», согласно которому, раз вся Палестина в древности обиталась евреями (что, впрочем, сомнительно), то она и теперь должна принадлежать им. Ведь если руководствоваться этим порочным принципом, то, например, в Европе не осталось бы ни одной страны, границы которой не пришлось бы до неузнаваемости перекраивать. И мы должны настаивать на том, что гарантии безопасности любого государства это не столько отодвинутые и «удобные» в военном отношении границы (чего, к примеру, добился Сталин в войне против Финляндии, но что совершенно иллюзорно при современной технике), сколько дружеские, лишенные реваншистских настроений, взаимоотношения с соседями.
В беседе с руководителями Компартии Израиля, с Микунисом и ныне уже покойным Снээ (с Вильнером я тоже виделся и убедился, что он ничтожество, а его партия – просто платная экспозитура советских руководителей), я настойчиво высказывал мнение, что им нужно бороться не просто за дружбу евреев с арабами, а за братство, «гитахавут», с ними, что их газета «Кол-Гаам» должна регулярно печатать страницу о славной истории и культуре арабов, а в приложении – уроки арабского языка, который коммунисты-евреи должны изучать, что они должны изыскивать разнообразные формы совместной работы евреев и арабов, поощрять смешанные браки и т. д.
Наконец я, понятно, осуждаю реакционную политику правительства Голды Меир, ее аннексионизм, ее союз с раввинатом, ее помыкание сефардами, – евреями, выходцами из стран Азии и Африки, находящимися на более низком культурном уровне, чем ашкенази – евреи, выходцы из Европы и Америки, ее притеснение израильских арабов, ее антирабочую и антидемократическую внутреннюю политику.
Огульное заушательское отношение к сионизму тем более странно, что именно благодаря Советскому Союзу самая заветная мечта сионистов – создание еврейского государства в Палестине – реализована, и тем более неоправданно, что сионизм вовсе не представляет идеологически и организационно единого течения. Наоборот, ныне это целый спектр – от левых социалистов до анархистско-экстремистских террористов фашистской партии «хсрут» («свобода»), а также до религиозных изуверов включительно. Казалось бы, что советские руководители, называющие себя самыми последовательными марксистами, должны были бы подходить к сионизму исторически, учитывать происшедшие в нем изменения, и что разумная реалистическая, и вместе с тем принципиальная коммунистическая политика должна бы быть направлена на сближение с теми сионистами, которые, как и мы, выступают за права арабов, за свободу евреев определять свою национальную принадлежность, и против мракобесной политики израильского правительства.
Я знакомлюсь с марксизмом
Осенью 1910 года, в самую первую неделю первого семестра в политехникуме, подошел ко мне Ладя Кожешник. С ним вместе мы окончили «реалку» и, как и я, он теперь трудился над первым чертежом винтов, гаек и прочих машинных деталей. Он спросил, не пойду ли я с ним на устраиваемый «Свободной мыслью» вечер, посвященный памяти Франциско Феррера. Я охотно согласился. «Свободная мысль» – название журнала, издававшегося организацией свободомыслящих, и вечер состоялся в его редакции. Хотя эта организация рабочих, но главным образом интеллигентов, которую возглавлял Бартошек, и была легальной, австрийская полиция, поддерживая клерикализм, всячески ущемляла ее. Она то и дело конфисковывала выходящие номера журнала, с пристрастием цензурировала его, в нем тогда появлялись большие белые «плеши», на редактора Бартошека налагала крупные денежные штрафы, и всех, соприкасавшихся с этой организацией, держала под своим негласным надзором.
В 1909 году в Испании церковная и светская реакции затеяли процесс против Феррера, передового педагога, боровшегося за отделение церкви от школы, обвинив его облыжно в самых тяжелых преступлениях. Несмотря на кампанию протеста, развернувшуюся тогда во всем мире, – пражские свободомыслящие устроили демонстрацию, которую полиция разогнала – Феррера расстреляли. В нашем школьном журнале «Без названия» мы с Крупским поместили посвященную этому чудовищному событию страстную передовицу. Но мировая передовая общественность все-таки добилась того, что Феррер был посмертно реабилитирован. Этот процесс, эта казнь, эта «реабилитация посмертно», стали одним из первых звеньев той длинной мертвящей цепи, которой сковано наше XX столетие.
Освободившись от политехникума, от трудоемкого черчения, я смог в университете почти всецело посвятить себя посещению лекций, участию в семинарах и библиотечному чтению научных книг и журналов. Я говорю «почти», так как часть моего рабочего времени уходила на два урока на дому по математике. Кроме того, я раз в неделю ездил в Уста (Ауссиг), в северную Чехию, где в кружке еврейской националистической молодежи преподавал иврит. Это очень хорошо вознаграждалось, мне оплачивали и стоимость билетов скорым поездом.
В университете в то время философские науки читали несколько профессоров и доцентов: будущий первый президент Чехословакии Масарик, затем Крейчи, Радл, Тврды, Халупны и Дртина. Все они, без исключения, были сторонниками идеализма. Масарик, эклектическая философия которого примыкала к платонизму, и чьи социалистические взгляды и политическая деятельность (он был лидером партии «реалистов», издававшей газету «Время» – «Сах») были – для представителя буржуазной интеллигенции – несомненно левыми, передовыми, пользовался большой популярностью среди студенчества, да и среди рабочих. На меня он производил сильное впечатление оригинальной личности, искреннего демократа. Конечно, позднее, при его президентстве, творилась антинародная политика, в том числе расстрелы бастующих рабочих. Этим Масарик только лишний раз оправдал болгарскую поговорку: «Хочешь узнать человека, дай ему власть», верность которой, как это ни странно, исторически подтверждена для политических (и не только политических, но и научных и культурных) руководителей любого общественного класса. Что же касается позднейших антибольшевистских выступлений Масарика (равно как и Андре Жида, и ряда других представителей западно-европейской интеллигенции), которые мы, коммунисты, тогда с негодованием отвергали и клеймили как запроданные капитализму, то сейчас, в ретроспективе, после разоблачения массовых кровавых преступлений сталинского террора и продолжающегося и поныне попирания элементарных прав человека и расправы с инакомыслящими, я, как мне кажется, способен объективно расценить и понять причину этих выступлений. Масарик и другие просто отождествляли последовательно коммунистические, а значит высоко гуманные принципы большевизма, с их извращениями правящими советскими, а после и другими «социалистическими» политиками, чтобы обрушиться на эти принципы. Но такое же отождествление сознательно или по недомыслию допускают современные коммунисты-аллилуйщики для того, чтобы всячески оправдывать этих политиков, обелять их злодейства.
Небезынтересно отметить, что на семинарских занятиях, которые, как правило, вел не профессор, а доцент, зачастую разгорались горячие диспуты, из которых «победителем» не всегда выходил руководитель. А во время экзамена студент мог защищать взгляды, идущие вразрез с мнением профессора – правда, не всякого, были и крайне нетерпимые, и расхождения обычно не были слишком уж радикальными. Но во всяком случае большинство экзаменаторов выше всего ценило не пересказ прослушанного и прочитанного, а умение самостоятельно критически философски мыслить. И опять-таки нельзя воздержаться от сравнения: попробуй теперь советский или чехословацкий студент на экзамене по основам марксизма-ленинизма высказать какую-нибудь свою, собственную, выстраданную им, но по мнению преподавателя еретическую, крамольную мысль – провал, а то и «проработка» и даже изгнание из института, а не исключено и арест, ему обеспечены.
Мои математические занятия продвигались успешно. За время пребывания в высшей школе, я не только продолжал решать задачи по элементарной математике, публикуемые в приложении к «Журналу чешских математиков и физиков», но иногда и сам составлял их и посылал в журнал. Это пристрастие к математическим (а в последние годы и к логико-математическим) задачам осталось у меня и теперь, я люблю решать их и мучить ими любителей, и своему математически одаренному внуку, пятнадцатилетнему Васе, иногда предлагаю их. Книжка «Занимательная логика», написанная по моей инициативе вместе с профессором Зихом, тоже свидетельствует об этом увлечении.
Еще до того, как я окончил университет, я стал работать вычислителем при астрономической обсерватории. Меня не могли зачислить в ее штат не только потому, что у меня пока еще не было научной степени. Дело в том, что при существовавших австрийских бюрократических порядках, прославленного «шимля», для назначения на штатную должность «ассистента вычислителя», как и в любом государственном учреждении самого низшего чиновника, требовалось утверждение министерства в Вене. На это уходили многие месяцы, а то и год-два. В моем случае приходилось ожидать затяжки, а то и опасаться, что утверждения вовсе не последует.
На основании международного разделения труда, существовавшего между обсерваториями, мы в Праге занимались определением орбит астероидов – малых планет, которых, главным образом в пространстве между Марсом и Юпитером, насчитывается свыше полутора тысяч. В большинстве они очень малы, и, должно быть, являются осколками пятой по счету планеты, когда-то обращавшейся вокруг Солнца, но погибшей вследствие какой-то катастрофы. Какие могли быть причины? То ли столкновение с кометой, или другим небесным телом, то ли внутренние напряжения, вызвавшие взрыв планеты, а то и «успехи», быть может, существовавшей на ней цивилизации, приведшие к уничтожению самой планеты в термоядерной или еще более гибельной тотальной войне? В наш атомный век, для сочинителей фантастических романов тут имеется готовый сюжет.
Мы получали в готовом виде лишь столбцы цифр – исходные данные, координаты различных положений астероида, снятые, замеренные с фотопластинок. При существовавшей тогда вычислительной технике – семнадцатиместных таблиц логарифмов и гониометрических функций и ручных арифмометрах – это была очень кропотливая работа, продолжавшаяся многие месяцы.
А в настоящее время, после составления программы – процесса, который также может быть, хотя бы частично осуществлен автоматически – ЭВМ выполняет эту работу в течение нескольких минут, в крайнем случае, часов.
С тех пор, несмотря на бурные перипетии моей жизни, на долгое время оторвавшие меня от науки, я не потерял живого интереса к астрономии. Когда, после 1962 года, я снова вернулся в Москву, то в течение всего времени принимал активное участие в методологическом семинаре Астрономического института имени Штернберга, выступая на нем с докладами. В Чехословакии я дружил с космологом Пахнером, притесняемом и в конце концов вынужденном эмигрировать, а в Москве – с талантливым Зельмановым.
В связи с философскими проблемами естествознания, хочу еще заметить, что я недоумевал тогда (теперь недоумевать перестал, но многие недоумевают и сейчас), как же это немалое количество ученых-естественников могут быть искренне религиозными. Мы, студенты, знали, например, что один из профессоров, читавших звездную астрономию и астрофизику, и в своих лекциях никогда не упоминавший о боге и других сверхъестественных силах, перед началом занятий отстаивал на коленях заутреннюю мессу в университетской часовне.
Замечательные люди
Упомянув о мировоззренческих проблемах, я вспомнил, что раньше я позабыл назвать престарелого профессора Тильшера, геометра, который на своих лекциях – я слушал их, правда, только спорадически – обязательно затрагивал, с позитивистских позиций, философские проблемы математики, в особенности вопрос о существовании, наряду с эвклидовой, одинаково логически непротиворечивых неэвклидовых геометрий. Во всяком случае, уже к тому времени у меня все сильней стал проявляться интерес к методологии математики, к вопросам ее логико-философских основ, а также к методологическим вопросам физики и астрономии, равно как и истории всех этих наук. Но, конечно, наиболее сильное влияние в этом отношении оказали на меня лекции Эйнштейна.
О существовании теории относительности (равно как и квантовой теории) я узнал из научно-популярных журналов и, позднее, из курса Хвольсона. Но на одном из математических семинаров я завел знакомство со студентом физики старшего курса, очень даровитым, оригинально мыслившим Ружеком. По его просьбе я стал помогать ему в математическом обзорном реферате о Бернуллиевых числах, и вот однажды Ружек с восторгом сообщил мне, что в немецком университете сам основатель теории относительности, представляющей настоящую революцию в науке, Альберт Эйнштейн будет читать лекции. И он, Ружек, обязательно станет их посещать. Он уговорил меня сделать то же.
Хотя доступ на университетские лекции был вполне свободен, я не без некоторой опаски входил в аудиторию «чужого» немецкого университета. Она оказалась битком набитой, присутствовали не только студенты, немцы и чехи, но и многие профессора. Со времени опубликования первой работы Эйнштейна по теории относительности прошло шесть лет. За это время вокруг нее и ее автора создалась атмосфера жарких споров, восхищения и негодования, в те годы, правда, еще ограничиваясь сравнительно узкими научными кругами. Как-никак теория относительности представлялась многим чем-то заумным, а сам Эйнштейн, преемник здесь, в Праге, кафедры Маха, сенсацией.
Как это полагается на вступительной лекции нового профессора, Эйнштейна аудитории представил ректор. Эйнштейн оказался среднего роста, довольно плотным, совсем молодым еще мужчиной, с буйной курчавой шевелюрой, для профессора университета и этого торжественного момента несколько небрежно одетым. И без всякой торжественности он начал быстрым темпом излагать в сжатом виде основы специальной теории относительности. Это должно было служить лишь введением к его лекциям по общей теории относительности, которую он тогда, а также ее приложение к космологии, разрабатывал. Уже на этой первой лекции было ясно, что большинство слушателей не в состоянии понимать специальное «сухое» физико-математическое изложение лектора, и не услышали от него – по крайней мере на этот раз – тех обще-философских рассуждений, ради которых – если не просто ради того, чтобы увидеть знаменитость, или потому, что так «полагается» – они явились сюда.
Уже со второй лекции аудитория стала заметно редеть – мы с Ружеком установили, что в убывающей геометрической прогрессии – пока не стабилизировалась на каком-то десятке с лишним человек-энтузиастов. На Эйнштейна, однако, это не произвело заметного впечатления. Он придерживался такого же принципа, как и наш профессор Соботка, который говаривал: «Ничего, трое составляют общество – бог-отец, бог-сын и дух святой присутствуют всегда, а поэтому, если вас, господа, и никого не будет, я все-таки стану читать».
На следующие лекции Эйнштейн приходил одетым совсем по-домашнему, в свитере, часто без галстука, зато однажды, по рассеянности, явился сразу в двух. В то время носили кальсоны, завязывавшиеся внизу тесемками. Эти тесемки у него иногда болтались, испачканные осенней слякотью пражских улиц. Понятно, что мы, студенты, сразу же зачислили Эйнштейна в чудаки. Но чудно, и вместе с тем чудно было совсем другое – содержание его лекций, способ изложения и его отношение к слушателям. Почти каждая его лекция была творческой импровизацией, он просто рассказывал о том, над чем в данное время думал, зачастую спорил сам с собой, призывал нас участвовать в этом споре. Напишет на доске то крупными знаками, то мелким, почти бисерным почерком уравнение. А потом внезапно задумается и взволнованно говорит: «Что же вы, господа, молчите? Ведь все это неправильно, тут ошибка!» И стирает написанное, заменяет другим. А то откладывает продолжение, заявляя: «Надо нам это продумать». Какая разница между Эйнштейном и теми непогрешимыми, богоравными политиками, которые ни за что не признают допущенные ими ошибки!
Эйнштейн любил, чтобы его перебивали, – вещь немыслимая у других профессоров, – чтобы задавали «каверзные» вопросы, вел длинные беседы со слушателями. Часто – даже в дождливую погоду, на которую Прага не скупится, – небольшая группа студентов провожала его домой после лекции. И если интересная беседа не кончалась, то он – уже тогда мировая знаменитость – был в состоянии повернуть и сам проводить провожавших его до «менсы» – студенческой столовой. Да, Эйнштейн был подлинным, не показным демократом.
Но популярность Эйнштейна имела уже тогда и обратную сторону. Немецкие националистические, антисемитские студенты, «бурши» разных объединений, отличавшихся своими разноцветными фуражками, всячески старались отравить ему пребывание в Праге. Возможно, отчасти в виде внутреннего протеста, в Эйнштейне пробудилось сознание принадлежности к еврейской национальности, или, во всяком случае, усилилось в нем. Он стал общаться с пражской еврейско-националистической и сионистской интеллигенцией. И, не будучи правоверным сторонником иудаизма, он стал играть по большим еврейским праздникам в синагоге на своей любимой скрипке. Как известно, из Праги Эйнштейн уехал в Берлин, где ему были созданы исключительно благоприятные условия для работы, пока жуткая волна гитлеризма не захлестнула Германию.
Я без смущения сознаюсь, что мне было трудно понимать лекции Эйнштейна. Пришлось изучить новый созданный аппарат специального тензорного анализа. Но я выдержал, и вместе с Ружеком, которому обязан тем, что пришел в соприкосновение с величайшим физиком нашего времени, первым из тех многих замечательных людей, с которыми жизнь, не баловавшая меня в других отношениях, в виде компенсации дала мне возможность встретиться, до конца оставался одним из немногих слушателей. Пространство, время, материю и ее движение Эйнштейн толковал – как я сейчас понимаю – отнюдь не по-махистски, а как существующие объективно, независимо от познающего их субъекта, причем не в боге, не в каком-то абсолютном мировом духе, а в материальной природе. Его религиозные взгляды сводились, собственно, лишь к признанию некоего высшего морального принципа, к вере в человека, в гуманизм, в духовный исторический прогресс. Впоследствии, как я об этом расскажу в своем месте, мне вновь пришлось встретиться с Эйнштейном. А про Ружека я, после моего возвращения в Прагу в 1945 году, узнал, что он спился и преждевременно умер.
Окончание университета завершилось, как и положено, «промоцией» – торжественным вручением диплома. В большой «ауле», – актовом зале, – получала его сразу целая группа выпускников философского факультета. За длинным, покрытым красным сукном столом, на возвышении, сидели профессора, во главе с деканом, одетые в черные мантии и береты, с золотой цепью на шее. Был тут и «педель» – привратник в красной мантии, державший золотой жезл – знак достоинства университета, который впоследствии украли нацисты. Играла праздничная музыка, орган, звучали фанфары. Я, как и другие выпускники, должен был повторить латинскую формулу клятвенного обещания никогда не извращать науку ради посторонних, корыстных целей, применять ее исключительно только на пользу человека, а не во вред ему. Эта формула, как в основных чертах, а отчасти даже в буквальном тексте, и вся церемония, сохранились со средних веков, со времени основания Пражского университета Карелом IV в 1348 году.
В свои студенческие годы я соприкоснулся также с литературным миром. Для этого мне не приходилось ходить далеко, ведь трое моих родственников со стороны матери были писателями, причем даже известными: два двоюродных брата – Франтишек и Йиржи Лангеры и троюродный брат Макс Брод. Франтишек, старше меня на четыре года, в то время заканчивавший медицинский факультет, уже прославился не только лирическими стихами, но и рассказами, а главное – стихотворной драмой «Святой Вацлав», удостоившейся постановки на сцене национального театра. В ней молодой легендарный Вацлав, первый из чешских королей, став во главе народа, избавляет его в победной борьбе от нашествия чужеземцев, возможно тоже пришедших «освобождать» бедных чехов (ведь и Гитлер был в Чехии только «протектором», что значит «охранителем», а войска пяти «социалистических» стран, «вошедшие» в нее в 1968 году, тоже лишь «спасали» ее).
Франтишек Лангер получил звание национального художника Чехословакии. Пройдя сложный путь от неоформленных анархистских увлечений ранней молодости, затем симпатий к марксизму, Лангер, попав на русский фронт Первой мировой войны, тут же вместе со всем полком, состоящим преимущественно из чехов, сдается в плен, и как дивизионный врач в чехословацких легионах, принимает участие в национально-освободительной борьбе против Австро-Венгрии. А в дальнейшем, в Самаре и в Сибири, вместе с другими легионерами, Фирлингером и Свободой в том числе, обманутыми своим политическим руководством, он участвует в жестоких выступлениях против большевиков. Так получилось, что мы с Франтишеком тогда, собственно, воевали друг против друга.
История чехословацких легионеров так до сих пор и не появилась. Да возможна ли вообще объективная историография? Существовала ли она когда-либо? Не являются ли все исторические сочинения палимпсестами – папирусами, на которых всякий последующий древне-египетский храмовый писец тщательно выскабливал предыдущий текст, и заменял его угодным царствующему фараону?
Франтишек Лангер принадлежал по своему литературному профилю к кругу Карела Чапека, близким другом которого он был. Его произведения выделяются тонкой философской направленностью, поисками ответов на вечные «проклятые» вопросы, занимающие человека всю жизнь и во все века. Он давал читателю выпить чашу и сладости и горечи до дна.
Лангер участвовал и во Второй мировой войне, в рядах чехословацких войск во Франции, в чине генерала руководил их медицинской службой. Своей антивоенной, антифашистской тематикой (рассказ «Речь над колыбелью», драма «Бронзовая рапсодия», написанная в последние годы жизни) он продолжил те подлинные гуманистические и демократические мотивы своего богатого творчества, которые, как и у всех передовых чешских писателей, характеризуют его лучшие произведения.
Именно благодаря Франтишеку я впервые увидел Гашека. Еще до этой встречи я прочитал несколько фельетонов Гашека, которые этот богемствующий юморист, о чьих веселых похождениях ходили по Праге самые невероятные истории, помещал без разбора в любых газетах, кроме, разве, крайне правых, клерикальных. Но вот, в 1911 году, во время дополнительных выборов в Краевой сейм от нашего города Королевские Винограды, Франтишек предложил мне пойти с ним на одно собрание, обещав, что я там потешусь на славу. Мы отправились вечером в трактир «Кравин». Здесь проходило предвыборное собрание новой политической партии, «Партии умеренного прогресса в рамках закона», которую издевательски основал Гашек, выдвинув от нее кандидатом в Сейм самого себя.
В насквозь прокуренном и пропахшем пивными парами не очень большом зале, в сизом дыму которого, как говорится, можно было топор повесить, было битком набито. За столами, осушая одну кружку пива за другой, сидели собравшиеся сюда со всей Праги друзья Гашека и почитатели его юмора. Но было также и немало жителей Коронного проспекта (ныне проспект Вильгельма Пика), где располагался трактир, и прилегавших к нему улиц, привлеченные именем кандидата и странным названием его партии. Под импровизированным помостом, за длинным столом сидели с важным лицом основатели этой партии, члены ее Центрального комитета. И Франтишек, как один из них, уселся там, потащив и меня. А на возвышении за небольшим столиком восседал, строя еще более серьезное лицо, молодой председатель собрания, и там же полицейский комиссар, строгий, в полной форме, снявший лишь кепи. Здесь же стоя с увлечением, разойдясь, выступал со своей «кандидатской речью» сам Гашек.
Это был пухлый, розовощекий шатен с рыжеватым оттенком волос, с маленькими слезящимися сероватого цвета глазками, с неопределенной постоянной добродушной улыбкой, почти не сходившей с его, казалось, никогда не смеющегося лица, с какими-то в общем замедленными, но иногда не к месту порывистыми движениями. Он производил впечатление человека, находящегося постоянно «на взводе», а сейчас, вдобавок, изрядно уже хватившего. Так оно, должно быть, и было, потому что мы с Франтишеком сильно опоздали, а Гашек ораторствовал уже час или два, то и дело залпом осушая кружку, чтобы прочистить горло. Но как он говорил! Это были сплошь шедевры экспромтов, пародии на трескотню политиканов, на пустословие газетных передовиц, выпады против кандидатов-соперников, обещания реформ, которых он, Гашек, будучи избранным депутатом, добьется! И все это пересыпано анекдотами, неподражаемыми клоунадами, тут же разыгрываемыми им. Зал снова и снова грохотал от взрывов хохота. А полицейский комиссар, абсолютно не понимая, что здесь творится, растерянно ерзал на месте, не зная, следует ли ему вмешаться. На этом кончилось мое первое знакомство с Гашеком. Следующие встречи состоялись лишь через три года, а затем еще через шесть лет.
Литературное творчество младшего брата Франтишека, Йиржи (или Мордехай, как он своим еврейским именем стал позже называть себя), о близкой дружбе с которым в детские годы я уже рассказывал, принадлежит сразу трем литературам. Он писал одинаково свободно на чешском, немецком и древнееврейском языках. Правда, писательская известность пришла к нему уже тогда, когда меня давно не было в Праге.
Интерес ко всему таинственному, который Йиржи и прежде проявлял, как свойственно юному возрасту, но только более интенсивно, чем он выражался у других, в том числе и у меня, с годами стал у него все больше усиливаться, превращаться в увлечение религиозной мистикой, направление же моего ума вообще было естественно-научное, и поскольку – как я об этом тут же расскажу – я стал усваивать научное, материалистическое мировоззрение, непримиримое ни с какой мистикой. А Йиржи между тем сблизился с Альфредом Фуксом, парнем моего возраста, стройным, с пританцовывающей походкой, и они вместе стали изучать Талмуд, комментарии к нему, а главное – Каббалу. Для этого они освоили и родственный древнееврейскому, но все же сильно отличающийся от него, мертвый арамейский язык. В то время в Праге в церкви Змауэского монастыря, по воскресеньям вел свои пламенные фанатичные проповеди патер Альбан, гремевший ораторской славой Савонаролы. Под его влиянием многие холодные христиане «обращались» к вере, а Альфред Фукс сменил еврейскую мистику на католическую, углубился в средневековые латинские тексты, затем принял крещение, стал монахом и видным религиозным философом. После оккупации Чехословакии нацистами, гестапо извлекло Фукса из монастыря и замучило его в концлагере в Дахау.
Однако Йиржи Лангер практически превратился в хасида. В 1914 году Йиржи уехал в восточную Галицию, в местечко Бельц, где некоторое время подвизался при «дворе» тамошнего раввина-чудотворца, пожалуй, самого прославленного своим прямым «общением» с богом. Но с этой печальной унылой болотистой местностью, с этой дикой заброшенностью, отсталостью и грязью местечка, жившего как бы еще в XIV веке, Йиржи не мог свыкнуться. И он вернулся домой.
Он появился здесь в полном хасидском наряде, в длинном до пят кафтане, глубоко нахлобученной широкополой черной плюшевой шляпе, которую хасиды, вместе с языком идиш в век миннезингеров вывезли с собой из южной Германии и консервативно сохранили. Лицо, все заросшее рыжеватой бородой, длинные вьющиеся пейсы до плеч. Он так ходил по Праге, вызывая насмешки прохожих, смущение и возмущение домашних. Но вскоре он вновь уехал к своим хасидам – как он утверждал, ему так велел «явившийся» ему бельцский раби. Однако тут же началась война, и Йиржи мобилизовали. На военной службе, не желая осквернять себя пищей «трейфе», он питался одним только хлебом и луком, и наотрез отказывался носить в субботу винтовку. Его арестовали, угрожали военным трибуналом, но признали душевнобольным и от военной службы освободили. И Йиржи еще раз вернулся в восточную Галицию, где, однако, разгорелись самые бурные военные действия того времени. Тогда он, вместе с хасидами, эвакуировался в Венгрию, где и оставался до 1918 года, до распада Австро-Венгрии. Теперь уже гражданин Чехословакии, он снова возвратился в Прагу. Все эти приключения Йиржи, начиная с 1914 года, мне стали известны по воспоминаниям Франтишека Лангера.
Вернувшись, Йиржи, к удивлению всех, углубился в изучение сочинений Фрейда, опубликовал несколько статей в фрейдистском журнале «Имаго», и в 1923 году на немецком языке книжку «Эротика Каббалы», а на иврите – поэтический сборник «Пиютим веширей едидут» («Стихи и песни дружбы»). Он сдружился с писателем Францем Кафкой, который был старше его на 11 лет, и с писателем Максом Бродом, тот был старше на 10 лет. Йиржи издал на чешском научно-популярную книжку о Талмуде и его возникновении со ста отрывками, переведенными из него. В то время германские фашисты уже начали распространять свою человеконенавистническую «мораль» и антисемитскую пропаганду. И по замыслу Йиржи его книжка должна была дать этому отпор.
Конечно, Талмуд – это средневековое сочинение, содержащее, наряду с прекрасными, поэтичными народными легендами, которые высоко ценили Бялик и Горький, в своих узаконениях религиозного права и быта массу всякого суеверного вздора. Однако, в общем этика Талмуда гуманна, несравненно выше звериной аморальности не только таких пасквилей, как «Mein Kampf», но и тех, якобы антисионистских, на деле же антисемитских, писаний, в немалой мере сдутых с дореволюционных, черносотенных, которые в последние годы стали выходить массовыми тиражами в СССР, Чехословакии и Польше. В 1937 году появились «Песни обреченных» (в 1939 они были изданы вторично) – чешский перевод, сделанный Йиржи, избранных еврейских поэтов с XI по XVIII век, включая и элегию Авигдора Кара, одного из немногих, кто пережил кровавый погром пражского гетто в 1389 году. В том же 1937 году вышла чешская книга Йиржи, самый прекрасный его труд «Девять ворот» – рассказы и легенды о хасидах, принадлежащая, по общему мнению, к жемчужинам чешской художественной литературы. В 1959 году она была переведена на немецкий язык, а в 1961 вышла на английском в Лондоне и Нью-Йорке.
Осенью 1939 года, спасаясь от гитлеровцев, Йиржи перебрался в Словакию, откуда подкупленные гестаповцы за приличную мзду давали пока еще евреям бежать в Палестину. Плывя в невероятно тяжелых условиях при тридцатиградусном морозе на железной барже по Дунаю, Йиржи простудился и, прибыв в «обетованную землю» тяжело больным, после четырехлетних страданий скончался в 1943 году в Тель-Авиве от нефроза. Будучи больным, он продолжал писать, и, уже посмертно вышел сборник его стихов «Меат цори» («Немножко бальзама»), содержащий и стихотворение «На смерть поэта», посвященное Францу Кафке.
С Максом Бродом мы встречались редко. Я находился с ним лишь в отдаленном родстве, а, главное, он, как он сам называл себя, был «еврейским писателем немецкого языка», а, следовательно, мы вращались в разных кругах. Он был старше меня на восемь лет, что в молодом возрасте много. Кроме всего прочего, он был юристом, а у меня всегда – будь я суеверен, я сказал бы, в предчувствии моих будущих судеб – почему-то чувствовалась какая-то аверсия ко всем и ко всему, что связано с правосудием.
Наконец, Макс Брод уже тогда, когда я впервые прослышал о нем, славился как выдающийся автор романов и повестей, действия которых иногда развиваются в современной, а то и средневековой пражской среде, проникновенно воспроизведенной им. И я, естественно, чувствуя большое почтение к писателю, робел перед первой встречей с ним. Не помню уже по какому поводу, она состоялась у него на квартире, куда я с мамой пришел в гости. Но Макса Брода я представлял себе совсем другим. Ничего от великого, или хотя бы знаменитого человека. Простой человечек низенького роста, вдобавок горбатый. Осталось общее впечатление: гуманиста, ратующего за культурное сближение населения Чехии – чехов, немцев и евреев; еврейского националиста, но отнюдь не шовиниста, затем сиониста, а в философии – идеалиста.
Макс Брод был самым близким другом Франца Кафки, а после его смерти издателем и комментатором его сочинений. Этот необыкновенно своеобразный писатель сумел как никто другой в своих в большинстве не оконченных романах «Америка», «Процесс», «Замок» и в своих рассказах выразить не только страх, тоску, заброшенность, одиночество человека в обесчеловеченном мире империализма, а поразительно тонко почувствовать весь ужас бытия в любом тоталитарном государстве, где человек отдан на произвол безымянных сил. Несомненно, что тому, что Кафка смог столь остро ощутить весь тот надвигавшийся на человека кошмар, в котором мир, не только в Германии, но и в СССР, и в США, погрузился с тридцатых годов, содействовало то, что Франц Кафка был еврей, с сильным национальным самосознанием, пробудившемся в нем под ударами антисемитизма, чутко воспринимавший все положительное, как и отрицательное, что связано с еврейством. Вместе с Максом Бродом Кафка изучал иврит, их учителем был как раз Йиржи Лангер. Макс Брод повторял, что одна лишь толерантность, терпимость к другой нации, не только недостаточны, но и оскорбительны, что они сводятся к этакому похлопыванию по плечу. У нас, коммунистов, термин «националист» давно стал бранным словом, по крайней мере в применении ко всякой другой нации кроме русской, да еще и арабской. О великодержавном русском национализме стыдливо умалчивают. А также о том, что великий интернационалист Ленин написал статью «О национальной гордости великороссов». Если подлинный интернационалист имеет право гордиться тем, что он русский, почему интернационалисту-еврею нельзя гордиться тем, что он еврей? Почему он тогда становится сразу не то «космополитом» не то «сионистом»? Видите ли, еврею положено ассимилироваться. Но для ассимиляции нужны двое: тот, кто желает ассимилироваться, и тот, кто позволяет, чтобы к нему ассимилировались.
Мы должны признать, и отнюдь не только в связи с «еврейским вопросом», что Маркс, при всей своей гениальности, недооценил значение национального вопроса (в частности, доверившись предвзятым, пангерманистским источникам, он считал чехов нацией, обреченной на гибель). Национальный вопрос, как об этом свидетельствует вся новейшая история, будет еще не предвидимо долго играть огромную роль. Хотя и в меньшей мере, чем Маркс, Ленин тоже недооценил все значение национального самосознания.
Ведь не все ли, в конце концов, равно, нация или только национальность евреи, раз они сами, или какая-то часть их, ощущают свою самобытность, которую – не только в религиозной форме – они, вопреки всем жесточайшим преследованиям, через два тысячелетия сумели сохранить. И не требовала ли материалистическая диалектика признания Лениным того, что раз евреи, которые ведь когда-то несомненно были нацией, смогли, при определенных исторических условиях, потерять требуемые им для определения нации признаки, то может наступить также момент, когда они, при других исторических условиях снова приобретут их?
Ведь каким гигантским бы ни было определяющее значение классовой борьбы в развитии общества, она все же не ликвидирует, а только модифицирует национальную, а также и религиозную борьбу.
Что же касается сионизма, то я считаю, что мы, коммунисты, не имеем никаких причин возражать против того, чтобы евреи, если они этого желают, возродились как нация, со своим государством, языком, всей культурой. Однако мы решительно должны возражать против того, чтобы навязывать евреям эту идею, чтобы считать каждого еврея, гражданина любой страны, потенциально гражданином Израиля, чтобы осуждать его за то, что он желает ассимилироваться. Столь же решительно мы должны выступать против того, чтобы суверенитет евреев в Израиле осуществлялся за счет арабов, их экономической, политической и культурной дискриминации. Совершенно неприемлем так называемый «принцип исторических границ», согласно которому, раз вся Палестина в древности обиталась евреями (что, впрочем, сомнительно), то она и теперь должна принадлежать им. Ведь если руководствоваться этим порочным принципом, то, например, в Европе не осталось бы ни одной страны, границы которой не пришлось бы до неузнаваемости перекраивать. И мы должны настаивать на том, что гарантии безопасности любого государства это не столько отодвинутые и «удобные» в военном отношении границы (чего, к примеру, добился Сталин в войне против Финляндии, но что совершенно иллюзорно при современной технике), сколько дружеские, лишенные реваншистских настроений, взаимоотношения с соседями.
В беседе с руководителями Компартии Израиля, с Микунисом и ныне уже покойным Снээ (с Вильнером я тоже виделся и убедился, что он ничтожество, а его партия – просто платная экспозитура советских руководителей), я настойчиво высказывал мнение, что им нужно бороться не просто за дружбу евреев с арабами, а за братство, «гитахавут», с ними, что их газета «Кол-Гаам» должна регулярно печатать страницу о славной истории и культуре арабов, а в приложении – уроки арабского языка, который коммунисты-евреи должны изучать, что они должны изыскивать разнообразные формы совместной работы евреев и арабов, поощрять смешанные браки и т. д.
Наконец я, понятно, осуждаю реакционную политику правительства Голды Меир, ее аннексионизм, ее союз с раввинатом, ее помыкание сефардами, – евреями, выходцами из стран Азии и Африки, находящимися на более низком культурном уровне, чем ашкенази – евреи, выходцы из Европы и Америки, ее притеснение израильских арабов, ее антирабочую и антидемократическую внутреннюю политику.
Огульное заушательское отношение к сионизму тем более странно, что именно благодаря Советскому Союзу самая заветная мечта сионистов – создание еврейского государства в Палестине – реализована, и тем более неоправданно, что сионизм вовсе не представляет идеологически и организационно единого течения. Наоборот, ныне это целый спектр – от левых социалистов до анархистско-экстремистских террористов фашистской партии «хсрут» («свобода»), а также до религиозных изуверов включительно. Казалось бы, что советские руководители, называющие себя самыми последовательными марксистами, должны были бы подходить к сионизму исторически, учитывать происшедшие в нем изменения, и что разумная реалистическая, и вместе с тем принципиальная коммунистическая политика должна бы быть направлена на сближение с теми сионистами, которые, как и мы, выступают за права арабов, за свободу евреев определять свою национальную принадлежность, и против мракобесной политики израильского правительства.
Я знакомлюсь с марксизмом
Осенью 1910 года, в самую первую неделю первого семестра в политехникуме, подошел ко мне Ладя Кожешник. С ним вместе мы окончили «реалку» и, как и я, он теперь трудился над первым чертежом винтов, гаек и прочих машинных деталей. Он спросил, не пойду ли я с ним на устраиваемый «Свободной мыслью» вечер, посвященный памяти Франциско Феррера. Я охотно согласился. «Свободная мысль» – название журнала, издававшегося организацией свободомыслящих, и вечер состоялся в его редакции. Хотя эта организация рабочих, но главным образом интеллигентов, которую возглавлял Бартошек, и была легальной, австрийская полиция, поддерживая клерикализм, всячески ущемляла ее. Она то и дело конфисковывала выходящие номера журнала, с пристрастием цензурировала его, в нем тогда появлялись большие белые «плеши», на редактора Бартошека налагала крупные денежные штрафы, и всех, соприкасавшихся с этой организацией, держала под своим негласным надзором.
В 1909 году в Испании церковная и светская реакции затеяли процесс против Феррера, передового педагога, боровшегося за отделение церкви от школы, обвинив его облыжно в самых тяжелых преступлениях. Несмотря на кампанию протеста, развернувшуюся тогда во всем мире, – пражские свободомыслящие устроили демонстрацию, которую полиция разогнала – Феррера расстреляли. В нашем школьном журнале «Без названия» мы с Крупским поместили посвященную этому чудовищному событию страстную передовицу. Но мировая передовая общественность все-таки добилась того, что Феррер был посмертно реабилитирован. Этот процесс, эта казнь, эта «реабилитация посмертно», стали одним из первых звеньев той длинной мертвящей цепи, которой сковано наше XX столетие.