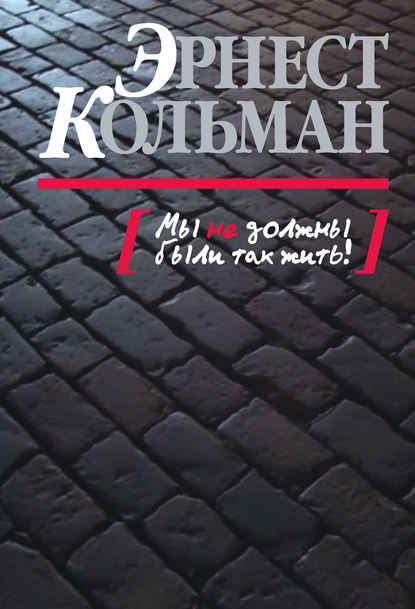По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мы не должны были так жить!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уже начинался 1916 год, и кончалась зима, первая наша зима в России, последняя ли? Когда же кончится эта проклятая война, конца-края ей не видно, а с ней и наш плен, когда же мы вернемся домой? Да мы, собственно, даже не знаем, что творится там, на фронтах. Откуда нам знать? В лагере газет нет, а у нас ведь ни одной копейки, чтобы купить их. Лишь изредка мне удается, когда прохожу мимо киоска, прочитать одним глазом какой-нибудь крупный заголовок в русской газете, вроде: «Германский цеппелин бомбит Париж!», и сделать отсюда вывод, что немцам не удалось победить на Марне и взять французскую столицу. Таким путем мы получаем хотя бы какие-то отрывочные сведения.
Из лагеря в лагерь
С самарским лагерем я расстался без сожаления. Там я подружился лишь с одним человеком, вольноопределяющимся Бруно Цукерманом, родом из Хеба в западной Чехии, который, как и я, попал в транспорт. Значит, снова теплушка, снова путешествие в неизвестном направлении, возможно, на этот раз я все-таки попаду в Сибирь. Но нет, мы едем недолго, всего трое-четверо суток, и не на восток, а все на юг, и нас выгружают в Царицыне (город, который переименовали сначала в Сталинград, а потом в Волгоград). Здесь, по недоразумению, меня, как и всех вольно-определяющихся, помещают не в солдатский, а в офицерский лагерь.
Он тоже в школьном здании, расположенном на склоне над Волгой, которой, однако, от нас не видно. Господам офицерам в плену живется недурно. Они получают месячное жалованье, 50 рублей, сами столуются на эти деньги, им готовят собственные повара, обслуживают их денщики. Обстановка в лагере весьма приличная, – не нары, а топчаны, соломенные тюфяки и подушки, простыни и одеяла. Шведский Красный крест усердно заботится о пленных офицерах, посылает им белье, продовольствие, курево, книги. У них здесь имеется небольшая библиотека, – в большинстве немецкие, а также несколько русских, французских, английских романов, но и несколько научных книг, из которых одна математическая по абстрактной алгебре. Но есть и Библия – Ветхий и Новый завет – на древнееврейском, издание British Bible Society.
Пополнение нашей небольшой горсткой не причинило никаких неудобств обитателям лагеря. Им не пришлось ни потесниться, ни делиться с нами питанием. Тем не менее, они, за исключением немногих, встретили нас неприязненно, а то и прямо враждебно. С наибольшей спесью отнеслись к нам даже не кадровые и высшие офицеры, а лишь недавно вылупившиеся из таких же вольноопределяющихся как мы, кадеты. Всех шокировал, конечно, наш вид – мы были небритые, заросшие густой щетиной, нестриженые, в грязных, потерявших всякий вид, мундирах. Но и когда мы постриглись и побрились, и кое-как привели свою одежду в порядок, и когда выяснилось, что мы как-никак цивилизованные люди, кастовая преграда этим не устранилась.
Не знаю, как в других местах, но здесь, в училище имени Чехова, жили эти офицеры в общем недружно, гораздо более вразброд, чем пленные в солдатских лагерях. Основная стена разделяла кадровых, профессиональных вояк от офицеров запаса, этих штатских штафирок. Затем существовала преграда между германским и австро-венгерским офицерьем. Но национальные водоразделы были также сильно ощутимы: пруссаки (из юнкеров) и баварцы относились свысока к саксонским и прирейнским германцам, австрийские немцы не очень ладили с поляками, а в особенности – с мадьярами. Все было достаточно обнажено, не требовалось большой наблюдательности, чтобы заметить это. В отличие от солдатских лагерей, где все было просто, здесь господствовал дух чинопочитания, строгого соблюдения рангов. И не успели мы попасть сюда, как какая-то добрая душа доверительно предупредила нас быть осторожными, тут имеются лица, которые тайно ведут «кондуит» – запись поведения, а главное политических настроений каждого, с тем, чтобы по возвращении на родину донести обо всем властям. Да, «стукачи» существовали везде и во все времена.
Тогда там, в Царицыне, мы втроем – Цукерман, Натан Фельзенбах (другой вольноопределяющийся) и я, без конца обсуждали военное положение, строили догадки о глубоких причинах войны, а главное – о ее окончании и последствиях. Здесь мы каждый день узнавали последние новости, конечно, в освещении русских газет, столь же одностороннем, лживом, как и в австрийских и германских, во французских или английских легальных газетах. А о существовании нелегальной прессы мы тогда и понятия не имели.
Я все-таки не забывал о своем не слишком крепком социализме и марксизме, развивал мысль, взятую на прокат у Штрассера, что национальное освобождение должно совпадать с социальным. А в полемике с Натаном я ссылался на библейское изречение «Сион будет освобожден правосудием и достигнет равноправия справедливостью». Но толковал его почти по-толстовски: средствами насилия нельзя добиться свободы, они непременно приводят к новому насилию, к порабощению.
Наша тройка в Царицыне оставалась недолго. Ее, как и всех вольноопределяющихся неофицеров, отправили отсюда с первым же транспортом. Этого добились у русского командования некоторые из «наших» пленных офицеров, возмущенные подобным нарушением священных кастовых законов. И вот мы поехали, но не поездом. Вскоре после открытия навигации по Волге, когда в нашем лагере слышались заманчивые гудки пароходов, нас вместе с конвоем погрузили на один из них – конечно, не в первый класс, а в трюм, и повезли «вниз по матушке, по Волге». Пароход был большой, вместительный, веселый, нарядный. Пароходное общество, которому он принадлежал, называлось «Самолет». Настроение у нас было, как и положено у «туристов», весеннее, приподнятое. Конвоиры – астраханские казаки с желтыми лампасами – относились к нам либерально.
Народ ехал самый разношерстный, – от немногих расфуфыренных богатых дамочек и щеголеватых военных, до толпы пассажиров третьего класса – смеси разных народностей, многие в каких-то бурых лохмотьях, хуже наших. Настоящий поперечный разрез классовой структуры российского общества. Были тут и восточное люди, как говорили, персидские купцы. Один из них, толстый-претолстый, в цветном халате, важно восседал один на верхней палубе и попивал чай из громадного самовара. А закусывал сливочным маслом с сахарным песком, поочередно набирая то и другое ложечкой. Я долго с любопытством наблюдал за ним из своей преисподней.
Так нас привезли в Астрахань, где вблизи от города, в песках, находился большой лагерь с несколькими рядами деревянных бараков, обнесенный, как и все лагеря, высокой стеной с колючей проволокой и с башнями-каланчами. Лагерь был солдатский, но в нем имелся и офицерский барак, где офицеры жили своей особой жизнью, почти совсем не общались с нами. Охрана была здесь смешанная, астраханские казаки и ратники, за небольшим исключением все калмыки. Порядки тут были вполне нормальные, то есть не донимали люди, но насекомые, конечно, да. Самыми страшными нашими врагами были комары и москиты, они не были безобидны, приносили малярию и желтую лихорадку. Болели многие, болели тяжело и умирали, несмотря на уход русских, и своих, пленных врачей.
Особенно много болели пленные турецкие солдаты, и смертность среди них была очень высокая. Помню жуткое зрелище – прибыл новый транспорт – одни турки (тогда я впервые увидел турок), и почти все безногие, на костылях. Это были в большинстве анатолийские крестьяне, попавшие в плен под Эрзерумом. Русские послали их на север, строить Мурманскую железную дорогу, которую они устлали своими костьми, по Некрасову. Непривычные к крутой зиме Заполярья, к питанию без витаминов, они быстро отмораживали ноги, болели цингой, появилась гангрена, им пришлось ампутировать конечности. И тех, кто выжил, таких калек, послали «на поправку» в «теплые края», сюда в Астрахань, где их ослабевший организм легко поддавался микробам.
Я дружил с ними, выучил от них несколько самых необходимых для общения турецких слов и фраз. Конечно, мое знание арабского шрифта и тут сыграло свою роль. Я им читал и под диктовку писал их письма, не понимая языка, подобно тому, как в Самаре татарам.
В астраханском лагере, где я пробыл от весны до конца лета 1916 года, среди пленных образовались кружки занимавшихся самообразованием. Не все проводили время в пустом безделье. Существовал и небольшой кружок любителей математики. Я занимался с ними, прочитал им целый курс дифференциального исчисления. Но когда мы должны были приступить к интегральному, очередной транспорт разрушил наши занятия. Из-за отсутствия бумаги (ее, правда, можно было купить, но нами ценилась в буквальном смысле каждая копейка) и, конечно, классной доски, все излагалось на песке, том самом, на котором Архимед чертил свои круги. И разумеется, все примеры и задачи пришлось придумывать самому. Провел я и несколько бесед по астрономии.
Некоторые из нас, в том числе и я, отваживались и на художественное творчество. На одну копейку (как я приобрел деньги, скажу дальше) я купил ученическую тетрадь для чистописания, с косыми линейками и вписал туда, именно косо, – так экономней, – печатными буквами сочиненный мной фантастический роман-шарж «Артаскоп». Написал я его по-немецки, на языке, на котором мы общались, и телеграфным, крайне сжатым, стилем.
Но в лагере пришлось заниматься и самообслуживанием. Я научился кое-как чинить свою одежду и даже обувь, а также и брить – не очень первоклассно, «опасной» бритвой головы. Не скажу, что я это делал по законам искусства, но во всяком случае за эти мои достижения меня ни разу не побили. Очень большой интерес у меня вызывали ратники-калмыки. Хотя это было не легко, – запас русских слов, которыми они располагали, был невелик, – я все же сумел войти в доверие к некоторым из них, и мы часто подолгу беседовали. А с одним стариком, как все они, с безбородым «бабьим» лицом, как говорили недолюбливавшие калмыков русские, мы настолько сблизились, что он однажды показал мне амулет против «злых духов», который он носил в кожаном футлярчике, подвязанном в подколенной ямке левой ноги. Но показать содержание амулета он отказывался, ведь талисман потерял бы тогда свою магическую силу! Были у него и деревянные четки, которые он перебирал, произнося при этом несколько слов, как мне казалось в стихах.
С этим же ратником я несколько раз побывал в городе, где было что посмотреть. Я уже не говорю про астраханский кремль и разные церкви – памятники старорусской и византийской архитектуры, – но весь облик этого портового города производил на меня крайне необычное впечатление.
Мне казалось, что одной ногой я уже нахожусь где-то в сказочной Персии. Один раз я увидел настоящее чудо – громадную рыбину, белугу, которую везли одну на телеге! «Мой» калмык как-то взял меня с собой в свою кумирню – стоящее на одной из окраин, среди других жалких калмыцких хибарок, глиняное строение в форме кибитки, в глубине которого находилась нескладная статуя сидящего Будды. Никаких служителей культа – не знаю, буддистского или ламаистского – здесь не было, в полумраке этого «храма» мы находились с божеством одни. Калмык вынул из глубокого кармана шинели бутылку крепкого, пьянящего кумыса, раскупорил ее и осторожно вылил несколько капель к ногам идола, бормоча при этом что-то вроде заклинания. А потом допил сам все, что оставалось в бутылке, блаженно причмокивая. Таким образом, я один раз в жизни присутствовал при обряде жертвоприношения.
Вот так я познакомился с калмыками, национальностью, которая, если верить 19 тому второго издания Большой Советской Энциклопедии, вообще никогда и не существовала. В БСЭ заглавное слово «КАЛМЫКИ» помещено лишь в дополнительном, 51 томе, вышедшем в 1958 году. По милости «отца родного», калмыков, как и крымских татар, немцев Поволжья, как ряд кавказских племен, а также и корейцев, не только изгнали из родных мест туда, где они страдали и гибли, женщины, старики и дети в том числе, всех поголовно, за действительные или мнимые грехи небольшой группы своих сородичей, но и вычеркнули их имя из истории и географии.
Завязать задушевные разговоры я неоднократно пытался и с русскими – астраханскими казаками. Почти все они, служившие караульными лагеря, были сынками зажиточных, «крепких» крестьян, сумев устроиться за взятки здесь в тылу, чтобы не попасть на фронт. И хотя они и не обращались с нами как-нибудь особенно грубо, в то же время они не были склонны к какому-либо панибратству. Все же мне удалось несколько раз побеседовать то с одним, то с другим, на так сильно интересовавшие меня темы о войне, о жизни, о смерти, о том, в чем, собственно, счастье человека.
Сюда, в астраханский лагерь, я стал, наконец, получать, довольно регулярно, весточки из дома. По этим открыткам я узнал, что мама, брат и сестра, а также бабушка живы и здоровы, что послали мне очередную посылку (которую я, однако, не получил), и только. Но как ни старались цензоры, вымарывая все остальное, они все же не догадались и пропустили одно сообщение, осветившее то, что там у нас делается. Оказывается, Рудольфа призвали в армию, значит, положение Австро-Венгрии незавидное, раз стали призывать восемнадцатилетних! При таком истощении людских резервов, война уже долго продолжаться не сможет. И, по-видимому, русские газеты, по меньшей мере в этом отношении, не врут, когда они описывают, как плохо там в Австрии и Германии с продовольствием, как там чуть ли не совсем перешли на «эрзацы», какие ничтожные пайки выдают по карточкам бедному населению, как это особенно гибельно отражается на питании русских пленных, которых, вдобавок, заставляют тяжело трудиться. Впрочем, это ухудшение положения центральных держав рикошетом отразилось и на нас здесь. Примерно со второй половины 1916 года нам сократили пайки, заметно понизилось и качество питания, постепенно стали гонять и на работу. Все это не было вызвано ухудшением экономического положения самой России, – в то время оно еще не давало себя знать заметно – а являлось ответной мерой за ухудшение обращения с русскими пленными. Играло роль и то, что повсюду все больше усиливались хищения, воровство, казнокрадство; нас, пленных, обирали все, начиная с каптенармуса, и кончая начальником лагеря, да, вероятно, и чинами повыше, в военном министерстве, наживавшимся на «экономии».
Нас, вольноопределяющихся со званием кадет-аспирантов и даже унтер-офицерских чинов пониже, сперва принудительно работать не заставляли. Однако томиться все время в лагере было скучно, тоскливо. И когда мы узнали, что посылают работать в астраханский торговый порт и, к тому же, выведали о характере этой работы, то многие из нас добровольно попросились поработать. Попросился и я.
Это значило очутиться в ином, сказочном мире, почти на воле, несмотря на присутствие казачьей охраны. Хотя порт был речной, – до Каспия все еще далеко, чуть ли не целых 100 км, – мне казалось, что я чувствую море, вижу его дали. Запахи рыбы, дегтя, канатов, весь этот шум, гудки, свистки, крики, уханье – все вместе создавало эту приятную иллюзию. И в самой работе, которая предстояла нам, было что-то романтическое. В помощь русским и персидским грузчикам-профессионалам, сплошь этаким дюжим молодцам, мы должны были разгружать баржи, прибывшие оттуда, из Персии, из Энзели (ныне Пехлеви).
Но зато, что это были за тюки! Там оказался кишмиш, изюм, сабза, урюк, курага. Нечего и говорить, что мы усердно дегустировали эти сухофрукты. И так делали все, рабочие-грузчики и караульные тоже.
Зреет протест
Лето подходило к концу, и из лагеря уходил транспорт, в который были включены Натан и я. Так мы расстались с Бруно, и я никогда больше не слышал о его судьбе. Повезли нас поездом на север, в район Богородска Нижне-Новгородской губернии, на работы в имении графа Бобрынского. Теперь уже всех, кроме офицеров, без разбора. Здесь нам предложили рубить лес и самим строить себе бараки. А временно мы жили в шалашах, разумеется, тоже самодельных. Здесь мы впервые увидели необыкновенное для нас явление – белые ночи. Пока было еще сравнительно тепло – это был, кажется, август месяц – жить в шалашах было сносно. Но как будет дальше? Успеем ли мы со строительством бараков? Мы валили лес, – смешанный, высокие мощные деревья, а затем пилили его. Мне как «слабосильному», из-за моей травмы, досталась более легкая работа пилки.
Но вот, в один прекрасный день нас выстроили, и русский офицер в сопровождении каких-то штатских господ произнес, обращаясь к нам, речь. Затем переводчик воспроизвел ее по-немецки. Здесь, на этой вырубке, мы построим текстильную фабрику бельгийской акционерной компании. Каждый из нас должен указать, чему он выучен, и каменщики, плотники, кровельщики, слесари и другие мастера станут работать по своей профессии, а остальные – чернорабочими. Труд будет оплачиваться.
После этого, один из штатских, назвавший себя главным инженером, предложил по-французски, чтобы те, кто знает французский, выступили вперед. Таких нас оказалось человек пятнадцать. Тогда он спросил, имеет ли кто-либо из нас инженерную подготовку, умеет ли разбираться в чертежах. Четверо – и я в том числе – соответствовали и этому требованию. Он наобещал нам золотые горы: особое питание, новую одежду, хорошую зарплату, отдельное жилье вместе с бельгийским персоналом, который, дескать, вот-вот прибудет. С этими радужными перспективами я лег спать. Но уже на следующий день все это оказалось химерой. По недосмотру бельгийцев, в наши руки попали именно чертежи цехов, и на них было недвусмысленно указано, что этот будущий завод будет производить не какую-нибудь миткаль, а артиллерийские снаряды. Мы, конечно, постарались, чтобы эту новость узнали все пленные, причем с соответствующим комментарием: заставлять нас работать на войну русские не имеют права, это запрещено международной Гаагской конвенцией. И некоторые из нас (но далеко не все: из четверых, знавших язык и имевших инженерные звания, только я один) твердо решили отказаться от этой работы, что бы там с нами ни было. Так мы и заявили об этом вежливому бельгийцу. Ответ мы получили от русского начальника, который велел всех, отказавшихся от работы – таких, в конце концов насчитывалось немногим более двух десятков из общего числа в 500 человек – отделить, как паршивых овец, «анархистов», от остального чистого стада. А милые чеченцы этот приказ тут же выполнили в сопровождении дикого гика и свиста нагаек по нашим спинам. Они окружили эту небольшую нашу кучку, в которой находились и мы с Натаном, и погнали куда-то по проселочной дороге.
Не расстреливать ли повели нас, «мятежников»? Но нет. После нескольких часов ходьбы, мы попали в село Махры и очутились перед воротами в каменной стене мужского монастыря. И в этом монастыре, под охраной одних лишь монахов, пробыли мы целый десяток дней. Это оказалось очень своеобразным наказанием. Лучший санаторий было трудно придумать. Монахи относились к нам, иноверцам и «антихристам», ласково, не принуждали трудиться. Но большинство из нас, как умели, помогали им. Мы вместе с ними ели их обильную добротную еду. Купались, грелись на солнце. За трапезой они не заставляли нас молиться, а некоторые с охотой затевали беседы на щекотливые религиозные темы, даже на такую, есть ли бог, не обижаясь, когда мы спорили с ними, противоречили им, а только сострадательно покачивали головами.
Но нашему счастью вскоре пришел конец. В монастыре появился конвой из строевых солдат-пехотинцев, которые отвели нас на станцию и отвезли – в пассажирском вагоне! – в лагерь, в город Иваново-Вознесенск (теперь просто Иваново). Лагерь этот был с нормальными, более или менее сносными порядками. Здесь отыскались и книги и русские газеты, мы читали, занимались. Из газет мы предпочитали кадетское «Русское слово», а в нем фельетоны Дорошевича. На манер восточных сказок, подражая «Тысяче и одной ночи», он резко критически изображал порядки царского двора, с развратом Распутина, царицы Марии Федоровны, продажных министров. Намеки были прозрачны. И мы с Натаном удивлялись, как же это царская цензура допускает такую крамолу.
Мы тогда не понимали двух вещей: что даже среди таких царских чиновников, как цензоры, могут встретиться отдельные, либерально настроенные, люди, и что иные считают такую критику безвредным «зубоскальством», отдушиной, которая неспособна повредить режиму, поскольку она не доходит до широких масс. Ведь даже при тоталитарном режиме, когда цензура бесчинствует намного развязнее, чем при царском самовластие, по тем же причинам иногда удается проскочить в журнал, на театральную сцену или в фильм, радио и телевидение критическому сочинению.
Нам не было суждено долго пробыть в этом лагере. Вскоре нам объявили, что мы должны работать. Многие обрадовались, полагая, что нас направят на сельскохозяйственные работы к помещикам или в крестьянские хозяйства, где пленным жилось в общем неплохо, а иногда даже отлично. Но нас послали за город, в поле, рыть учебные окопы для новобранцев. «Но это ведь опять работа на войну, и вы не имеете права заставлять нас выполнять ее», заявили некоторые из нас.
Последствия нашего отказа сказались немедленно. Нас, правда, на этот раз не побили, но чтобы мы не заразили других, тут же перевели в штрафной лагерь, благо такой имелся в городе, в помещении близкого кинотеатра, в так называемом «доме Бегина». Условия в этом лагере были крайне тяжелые. Нары не в два, а в три этажа, причем одни голые доски. Личные одеяла, которые были теперь уже у многих из нас, полученные через Шведский Красный крест или из дома, у нас отобрали. Мы были здесь напиханы, как сельди в бочке, в помещении духота, вонь, дворик маленький, в него пускали «на прогулку» партиями, редко, одним словом – тюрьма, да и только. Кормили прескверно, лишили сахара, последней порции мяса. Щи – препостные, одна вода, все чаще заменялись еще более постным жидким рыбным супом. Охрана обращалась с нами сурово, за малейший проступок наказывали, сажали в карцер, на один хлеб и воду, о каких-либо умственных занятиях в этих условиях нечего было и думать.
Не знаю, долго бы я выдержал этот режим. Меня выручило то, что, по-видимому, вследствие всей негигиенической обстановки, моя рана на животе снова начала гноиться, и возобновились сильные боли в спине. Вдобавок у меня началась цинга, расшатывались и кровоточили зубы, на ногах стали появляться черные пятна. В лагерном околотке пленному врачу удалось уговорить своего начальника русского фельдшера, что я крайне нуждаюсь в стационарном больничном уходе и, вероятно, чтобы не возиться здесь со мной, меня отправили в городскую больницу. На ее фронтоне было выведено золотыми буквами: «Больница мастеровых и чернорабочих фабрики Ивана Гарелина».
В больнице после нескольких перевязок рана перестала гноиться. Цинга не прогрессировала – мне давали лук и селедку. Меня можно было отправить обратно в лагерь. Но старший врач Мирон Миронович не отпускал меня. Ему нужен был переводчик, так как в больницу, заполненную в основном русскими рабочими и работницами, текстильщиками, теперь попадали и пленные. Переводить требовалось на русский и с русского, не только со всех языков национальностей Австро-Венгрии, но и с турецкого – среди больных пленных встречались и турки. Большого запаса слов не требовалось: всего лишь простейшие вопросы анкеты о состоянии здоровья. С немецким и всеми славянскими языками у меня не было трудностей, с мадьярским и румынским я кое-как справлялся, так как за полтора года пребывания в плену я приобрел небольшой запас их слов. Но как быть с турецким? Однако удачно в больнице лежал и один младший турецкий офицер, который знал сносно по-французски. С его помощью я составил себе разговорник самых необходимых вопросов и ответов, и тогда все обходилось более или менее хорошо. Так я совершал вместе с врачом или фельдшером обход больных пленных, а если нужно было, меня будили ночью, и я переводил для сестры, сиделки или санитара.
А в остальное время я читал книги, которые одалживал мне фельдшер, Федор Федорович. Все это были русские классики, в большей части в приложениях к «Ниве»; именно благодаря этому чтению я быстро пополнил свой словарный состав, и хотя я не избавился от неправильного ударения и произношения, а также от трудностей русского правописания, я стал и писать довольно грамотно.
Бури революции
Кончился 1916 и начался 1917 год, в феврале пало самодержавие. Поражения русской армии, разруха, голод, вся эта ненавистная, несправедливая война, вся реакционная политика царского правительства переполнили, как говорится, чашу терпения народа. По стране прокатились все усиливающиеся волны забастовок, демонстраций, бунты крестьян, и, наконец, и солдат, приведшие к победе буржуазно-демократической революции.
В нашей больнице революция отозвалась слабо. Собственно лишь тем, что санитары и сиделки организовались, вступили в профессиональный союз и захотели ликвидировать свою неграмотность или малограмотность. Тут сказалась особенность города Иванова-Вознесенска. Его рабочим классом были преимущественно текстильщики, о классовой сознательности и революционности которых принято полагать, что они уступают в ней рабочим тяжелой промышленности. Но именно здесь-то, а не в Петрограде с его Путиловским заводом, где тем не менее установилось двоевластие, и где советами заправляли меньшевики и эсеры, – здесь вся фактическая власть перешла в руки Советов, в которых большевики имели перевес.
Этот небольшой общеобразовательный кружок низших больничных служащих – собирались человек десять-пятнадцать, не больше – и попросил меня заниматься с ними. Разумеется, я стал обучать их арифметике и сообщал им также сведения из естествознания, географии и истории, стараясь создать у них нечто вроде основы материалистического, атеистического мировоззрения и хотя бы примитивного понимания классовой природы общества. Все это имело особое значение, так как в больнице имелась своя домашняя церковь или часовня, где происходили богослужения с проповедями. Я сам раз или два побывал на них, должен сказать, что церковное пение, эти вновь и вновь повторяющиеся «Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй нас!», весь этот минорный, заунывный тон производили удручающее впечатление.
Однако мое учительствование длилось недолго. Без всякой мотивировки, без малейшего предупреждения, мне одним апрельским утром выдали на цейхгаузе мой австрийский мундир (в больнице я, как больные, ходил в халате и тапочках), за мной явился солдат с винтовкой, и, не дав ни с кем проститься, отвел меня обратно в штрафной лагерь, в дом Бегина. Но объяснений и не требовалось. Мне было совершенно ясно, что старшему врачу Мирону Мироновичу не нравилось мое общение с этими «плебеями», да и просветительская деятельность «врага» претила этому холеному барину, кадету, стоявшему за войну «до победного конца».
В лагере я застал еще более ужасные условия, чем те, прежние. Правительство Керенского приставило к нам охрану из Союза солдат, бежавших из плена. Понятно, что эти люди, вытерпевшие столько мучений в австро-венгерских и особенно германских лагерях, а также на работах у прусских помещиков-юнкеров, и по возвращении на родину еще натравляемые шовинистической пропагандой, относились к нам зачастую зверски, мстили, вымещали на нас, ни в чем неповинных, свои обиды. Режим стал просто тюремным.
И все же какой-то крохотный просвет свободы для меня существовал: возможность читать газеты, узнавать, пусть в препарированном виде о том, что происходит в мире, и таким образом не быть все же полностью отрезанным от него. Мы покупали «Русское слово», и по вечерам я читал вслух – переводя на немецкий тут же с листа – при тусклом свете маломощной лампочки, интересовавшие всех сообщения, прежде всего, «С театра военных действий» (хорош «театр», нечего сказать), а также о событиях, происходивших в России. Из сообщений о борьбе политических партий, мы получили некоторое представление о большевиках, познакомились с именем Ленина, и кривое зеркало кадетской газеты не могло помешать тому, что большевистские лозунги «Долой войну!», «Да здравствует пролетарская революция во всем мире!», стали нам близки, особенно теперь, когда и здесь в плену, далеко от фронта, условия нашей жизни стали невыносимыми.
В этом положении было для нас настоящим приятным большим сюрпризом, когда нам объявили, что Иваново-Вознесенский Союз рабочих, крестьянских и солдатских депутатов добился у военных властей того, чтобы мы, под честное слово, что будем соблюдать порядок, и что не будет попыток к бегству, приняли участие в первомайской манифестации. И действительно, сомкнутыми рядами, весь наш лагерь, как и другие лагеря пленных, имевшихся в городе, вышел, вместе с русскими рабочими и работницами, с русскими военными частями, на просторную городскую площадь. Я посмотрел на блестевшие на солнце трехгранные штыки наших конвойных, прислушался к страстным речам чередующихся на импровизированной трибуне ораторов. Шел митинг. Выступали представители всех партий, прерываемые шумными возгласами демонстрантов. Наряду с призывами немедленно кончить войну, дать крестьянам землю, рабочим хлеб, трудящемуся народу полноту власти и свободы, слышались и заклинания продолжать войну до победы, остаться верными союзникам, разгромить Вильгельма, бороться за «порядок», против анархии большевиков, против продавшихся немцам.
И тут я не выдержал. Я вырвался вперед, не обращая внимание на окрик караульных, вскочил на эту самодельную трибуну, и обратился к своим. Я сказал – по-немецки – что мы, военнопленные, должны взять пример с русских, и, вернувшись домой, поднять у себя революцию, и что мы уже сейчас, как это сделали русские солдаты, должны перестать рабски повиноваться своим офицерам. Я перевел эту краткую речь на свой корявый русский язык, закончил по-русски возгласом: «Да здравствует мировая революция!», и по-немецки, и по-мадьярски, «Es lebe die Wiltrevolution!», «Eljen a vilag forradalom!» и под оглушительные крики, в большинстве восторженные, – но были, конечно, и негодующие, – всей многотысячной толпы, заполнившей площадь, спрыгнул с трибуны и втиснулся обратно в наши ряды.
Возмездие не замедлило себя ждать. На следующий же день делегация пленных офицеров пришла из лагеря к прапорщику Рябцеву, начальнику лагеря, с просьбой наказать меня, изолировать за разлагающее политическое влияние. И в тот же день вечером, когда мы, как всегда, читали газету, появился этот начальник в сопровождении двух солдат и старшины и протиснувшись через тесный проход между нарами, подошел вплотную ко мне. «Встать!» – рявкнул прапорщик. Мы, конечно, все вскочили и стали навытяжку. «Давай сюда германскую газету! Откуда достал ее, шпион!» Я объяснил, что германской газеты у нас нет, что, вот, я просто читал «Русское слово», переводя на немецкий. Но прапорщик заревел: «Молчать!», с добавлением непечатной брани, и ударил меня своим большим кулаком – у него была волосатая медвежья рука, с большим перстнем, – я ее и сейчас вижу, – причем так сильно, что выбил мне сразу два передних зуба, шатких после цинги. Тут же два конвоира «нежно» подхватили меня и повели. При этом произошла маленькая задержка, даже в этих обстоятельствах – я плевался кровью – показавшаяся мне комичной. Когда мы уже вышли из лагеря, прапорщик почему-то спохватился, что одет я не по форме – без кепи и шинели – и мы всей процессией вернулись, я оделся, и мы снова пошли на окраину города, в пересыльную тюрьму.
Здесь меня уже ждали, без лишних церемоний записали в книгу и отвели в камеру-одиночку, в которой я без предъявления обвинений и без каких бы то ни было допросов пробыл целых полгода. Но как это ни странно, эта перемена, задуманная как кара, во многих отношениях улучшила мое положение. Конечно, я лишился общения с людьми, но и то не полностью. Были все же тюремные надзиратели – их было двое, они чередовались – и у меня с ними вскоре установились вполне сносные отношения. Они были уже пожилые. Один из них в первое время был груб и зол, но я сумел сагитировать его, и он стал, как и второй, подолгу мирно беседовать со мной о войне и жизни вообще, охотно рассказывать ужасы о заключенных, убийцах и ворах, а также о политических. Да и баня была, и на прогулку выводили изредка в тюремный двор, и питание лучше, чем в лагере.
Конечно, одиночка была с непривычки тягостна, порой находило отчаянье. Но я находил способ отгонять мрачные мысли. В камере была полукруглая, черная, высокая до потолка, жестяная печка, а со стен камеры легко было сколупнуть кусок белой штукатурки. Вот я и придумывал себе математические задачки, а при экономнейшем пользовании этой «доской» и этим «мелом», затем пытался решить их. Мои старания наблюдали через «волчок» мои сторожа, удивлялись, а я объяснил им, что я учитель, и вот упражняюсь, чтобы не забыть свою профессию, и они успокоились. Но ведь здесь были даже передачи, целых три за эти шесть месяцев. Товарищи из лагеря послали мне белье – по меткам на нем я понял, что оно было из посылки шведского Красного креста – непременно завернутое в свежий номер «Русского слова». Оттуда я всякий раз узнавал о все более бурных событиях в стране.
Однако наступил, наконец, один из самых счастливых дней моей жизни. Но так как у меня не было календаря, не ручаюсь, было ли это 27 или 28 октября (9 или 10 ноября). Во всяком случае, этот столь памятный для меня день начался с того, что не было утреннего чая с раздачей пайка хлеба, хотелось есть. Я стучался в дверь, но в коридоре не было стражи, никто не подошел. Слышался доходивший откуда-то гул, – не бунт ли это в тюрьме? Я страшно волновался. И вдруг с грохотом открывается дверь моей камеры, и входит штатский в сопровождении одного надзирателя. Я сразу заметил, что мой «приятель»-надзиратель без пояса и револьвера, что он расстроен, и что у него та самая книга, вроде гроссбуха, в которую, при приеме в тюрьму, меня записали.
А штатский, высокий худющий брюнет, с впалыми щеками и горящими глазами, как раз и был вооружен. Удостоверившись по книге, кто я таков, он переспросил меня еще раз, для верности, за что меня посадили, и не дождавшись, когда я, взволнованный, окончу свой рассказ, тут же обнял меня, в нескольких словах сообщил, что в Петрограде победила пролетарская революция, правительство капиталистов и помещиков арестовано, Керенский бежал, что власть в руках Советов рабочих, крестьян и солдат, с большевиками и левыми эсерами во главе, и что я, как и другие политические заключенные, теперь свободен, и сейчас пойду с ним к нему домой. Он назвался Самойловым, руководителем Иваново-Вознесенской большевистской партийной организации. И мы пошли с ним, с трудом продираясь сквозь группки рабочих с винтовками за плечом, то и дело обращавшихся к товарищу Самойлову с каким-нибудь вопросом. Да, и я теперь товарищ, какое это замечательное слово (и как оно ныне опошлено!) – тюрьма, надзиратель, с его книгой и связкой ключей, остались навсегда позади… Но навсегда ли?
Из лагеря в лагерь
С самарским лагерем я расстался без сожаления. Там я подружился лишь с одним человеком, вольноопределяющимся Бруно Цукерманом, родом из Хеба в западной Чехии, который, как и я, попал в транспорт. Значит, снова теплушка, снова путешествие в неизвестном направлении, возможно, на этот раз я все-таки попаду в Сибирь. Но нет, мы едем недолго, всего трое-четверо суток, и не на восток, а все на юг, и нас выгружают в Царицыне (город, который переименовали сначала в Сталинград, а потом в Волгоград). Здесь, по недоразумению, меня, как и всех вольно-определяющихся, помещают не в солдатский, а в офицерский лагерь.
Он тоже в школьном здании, расположенном на склоне над Волгой, которой, однако, от нас не видно. Господам офицерам в плену живется недурно. Они получают месячное жалованье, 50 рублей, сами столуются на эти деньги, им готовят собственные повара, обслуживают их денщики. Обстановка в лагере весьма приличная, – не нары, а топчаны, соломенные тюфяки и подушки, простыни и одеяла. Шведский Красный крест усердно заботится о пленных офицерах, посылает им белье, продовольствие, курево, книги. У них здесь имеется небольшая библиотека, – в большинстве немецкие, а также несколько русских, французских, английских романов, но и несколько научных книг, из которых одна математическая по абстрактной алгебре. Но есть и Библия – Ветхий и Новый завет – на древнееврейском, издание British Bible Society.
Пополнение нашей небольшой горсткой не причинило никаких неудобств обитателям лагеря. Им не пришлось ни потесниться, ни делиться с нами питанием. Тем не менее, они, за исключением немногих, встретили нас неприязненно, а то и прямо враждебно. С наибольшей спесью отнеслись к нам даже не кадровые и высшие офицеры, а лишь недавно вылупившиеся из таких же вольноопределяющихся как мы, кадеты. Всех шокировал, конечно, наш вид – мы были небритые, заросшие густой щетиной, нестриженые, в грязных, потерявших всякий вид, мундирах. Но и когда мы постриглись и побрились, и кое-как привели свою одежду в порядок, и когда выяснилось, что мы как-никак цивилизованные люди, кастовая преграда этим не устранилась.
Не знаю, как в других местах, но здесь, в училище имени Чехова, жили эти офицеры в общем недружно, гораздо более вразброд, чем пленные в солдатских лагерях. Основная стена разделяла кадровых, профессиональных вояк от офицеров запаса, этих штатских штафирок. Затем существовала преграда между германским и австро-венгерским офицерьем. Но национальные водоразделы были также сильно ощутимы: пруссаки (из юнкеров) и баварцы относились свысока к саксонским и прирейнским германцам, австрийские немцы не очень ладили с поляками, а в особенности – с мадьярами. Все было достаточно обнажено, не требовалось большой наблюдательности, чтобы заметить это. В отличие от солдатских лагерей, где все было просто, здесь господствовал дух чинопочитания, строгого соблюдения рангов. И не успели мы попасть сюда, как какая-то добрая душа доверительно предупредила нас быть осторожными, тут имеются лица, которые тайно ведут «кондуит» – запись поведения, а главное политических настроений каждого, с тем, чтобы по возвращении на родину донести обо всем властям. Да, «стукачи» существовали везде и во все времена.
Тогда там, в Царицыне, мы втроем – Цукерман, Натан Фельзенбах (другой вольноопределяющийся) и я, без конца обсуждали военное положение, строили догадки о глубоких причинах войны, а главное – о ее окончании и последствиях. Здесь мы каждый день узнавали последние новости, конечно, в освещении русских газет, столь же одностороннем, лживом, как и в австрийских и германских, во французских или английских легальных газетах. А о существовании нелегальной прессы мы тогда и понятия не имели.
Я все-таки не забывал о своем не слишком крепком социализме и марксизме, развивал мысль, взятую на прокат у Штрассера, что национальное освобождение должно совпадать с социальным. А в полемике с Натаном я ссылался на библейское изречение «Сион будет освобожден правосудием и достигнет равноправия справедливостью». Но толковал его почти по-толстовски: средствами насилия нельзя добиться свободы, они непременно приводят к новому насилию, к порабощению.
Наша тройка в Царицыне оставалась недолго. Ее, как и всех вольноопределяющихся неофицеров, отправили отсюда с первым же транспортом. Этого добились у русского командования некоторые из «наших» пленных офицеров, возмущенные подобным нарушением священных кастовых законов. И вот мы поехали, но не поездом. Вскоре после открытия навигации по Волге, когда в нашем лагере слышались заманчивые гудки пароходов, нас вместе с конвоем погрузили на один из них – конечно, не в первый класс, а в трюм, и повезли «вниз по матушке, по Волге». Пароход был большой, вместительный, веселый, нарядный. Пароходное общество, которому он принадлежал, называлось «Самолет». Настроение у нас было, как и положено у «туристов», весеннее, приподнятое. Конвоиры – астраханские казаки с желтыми лампасами – относились к нам либерально.
Народ ехал самый разношерстный, – от немногих расфуфыренных богатых дамочек и щеголеватых военных, до толпы пассажиров третьего класса – смеси разных народностей, многие в каких-то бурых лохмотьях, хуже наших. Настоящий поперечный разрез классовой структуры российского общества. Были тут и восточное люди, как говорили, персидские купцы. Один из них, толстый-претолстый, в цветном халате, важно восседал один на верхней палубе и попивал чай из громадного самовара. А закусывал сливочным маслом с сахарным песком, поочередно набирая то и другое ложечкой. Я долго с любопытством наблюдал за ним из своей преисподней.
Так нас привезли в Астрахань, где вблизи от города, в песках, находился большой лагерь с несколькими рядами деревянных бараков, обнесенный, как и все лагеря, высокой стеной с колючей проволокой и с башнями-каланчами. Лагерь был солдатский, но в нем имелся и офицерский барак, где офицеры жили своей особой жизнью, почти совсем не общались с нами. Охрана была здесь смешанная, астраханские казаки и ратники, за небольшим исключением все калмыки. Порядки тут были вполне нормальные, то есть не донимали люди, но насекомые, конечно, да. Самыми страшными нашими врагами были комары и москиты, они не были безобидны, приносили малярию и желтую лихорадку. Болели многие, болели тяжело и умирали, несмотря на уход русских, и своих, пленных врачей.
Особенно много болели пленные турецкие солдаты, и смертность среди них была очень высокая. Помню жуткое зрелище – прибыл новый транспорт – одни турки (тогда я впервые увидел турок), и почти все безногие, на костылях. Это были в большинстве анатолийские крестьяне, попавшие в плен под Эрзерумом. Русские послали их на север, строить Мурманскую железную дорогу, которую они устлали своими костьми, по Некрасову. Непривычные к крутой зиме Заполярья, к питанию без витаминов, они быстро отмораживали ноги, болели цингой, появилась гангрена, им пришлось ампутировать конечности. И тех, кто выжил, таких калек, послали «на поправку» в «теплые края», сюда в Астрахань, где их ослабевший организм легко поддавался микробам.
Я дружил с ними, выучил от них несколько самых необходимых для общения турецких слов и фраз. Конечно, мое знание арабского шрифта и тут сыграло свою роль. Я им читал и под диктовку писал их письма, не понимая языка, подобно тому, как в Самаре татарам.
В астраханском лагере, где я пробыл от весны до конца лета 1916 года, среди пленных образовались кружки занимавшихся самообразованием. Не все проводили время в пустом безделье. Существовал и небольшой кружок любителей математики. Я занимался с ними, прочитал им целый курс дифференциального исчисления. Но когда мы должны были приступить к интегральному, очередной транспорт разрушил наши занятия. Из-за отсутствия бумаги (ее, правда, можно было купить, но нами ценилась в буквальном смысле каждая копейка) и, конечно, классной доски, все излагалось на песке, том самом, на котором Архимед чертил свои круги. И разумеется, все примеры и задачи пришлось придумывать самому. Провел я и несколько бесед по астрономии.
Некоторые из нас, в том числе и я, отваживались и на художественное творчество. На одну копейку (как я приобрел деньги, скажу дальше) я купил ученическую тетрадь для чистописания, с косыми линейками и вписал туда, именно косо, – так экономней, – печатными буквами сочиненный мной фантастический роман-шарж «Артаскоп». Написал я его по-немецки, на языке, на котором мы общались, и телеграфным, крайне сжатым, стилем.
Но в лагере пришлось заниматься и самообслуживанием. Я научился кое-как чинить свою одежду и даже обувь, а также и брить – не очень первоклассно, «опасной» бритвой головы. Не скажу, что я это делал по законам искусства, но во всяком случае за эти мои достижения меня ни разу не побили. Очень большой интерес у меня вызывали ратники-калмыки. Хотя это было не легко, – запас русских слов, которыми они располагали, был невелик, – я все же сумел войти в доверие к некоторым из них, и мы часто подолгу беседовали. А с одним стариком, как все они, с безбородым «бабьим» лицом, как говорили недолюбливавшие калмыков русские, мы настолько сблизились, что он однажды показал мне амулет против «злых духов», который он носил в кожаном футлярчике, подвязанном в подколенной ямке левой ноги. Но показать содержание амулета он отказывался, ведь талисман потерял бы тогда свою магическую силу! Были у него и деревянные четки, которые он перебирал, произнося при этом несколько слов, как мне казалось в стихах.
С этим же ратником я несколько раз побывал в городе, где было что посмотреть. Я уже не говорю про астраханский кремль и разные церкви – памятники старорусской и византийской архитектуры, – но весь облик этого портового города производил на меня крайне необычное впечатление.
Мне казалось, что одной ногой я уже нахожусь где-то в сказочной Персии. Один раз я увидел настоящее чудо – громадную рыбину, белугу, которую везли одну на телеге! «Мой» калмык как-то взял меня с собой в свою кумирню – стоящее на одной из окраин, среди других жалких калмыцких хибарок, глиняное строение в форме кибитки, в глубине которого находилась нескладная статуя сидящего Будды. Никаких служителей культа – не знаю, буддистского или ламаистского – здесь не было, в полумраке этого «храма» мы находились с божеством одни. Калмык вынул из глубокого кармана шинели бутылку крепкого, пьянящего кумыса, раскупорил ее и осторожно вылил несколько капель к ногам идола, бормоча при этом что-то вроде заклинания. А потом допил сам все, что оставалось в бутылке, блаженно причмокивая. Таким образом, я один раз в жизни присутствовал при обряде жертвоприношения.
Вот так я познакомился с калмыками, национальностью, которая, если верить 19 тому второго издания Большой Советской Энциклопедии, вообще никогда и не существовала. В БСЭ заглавное слово «КАЛМЫКИ» помещено лишь в дополнительном, 51 томе, вышедшем в 1958 году. По милости «отца родного», калмыков, как и крымских татар, немцев Поволжья, как ряд кавказских племен, а также и корейцев, не только изгнали из родных мест туда, где они страдали и гибли, женщины, старики и дети в том числе, всех поголовно, за действительные или мнимые грехи небольшой группы своих сородичей, но и вычеркнули их имя из истории и географии.
Завязать задушевные разговоры я неоднократно пытался и с русскими – астраханскими казаками. Почти все они, служившие караульными лагеря, были сынками зажиточных, «крепких» крестьян, сумев устроиться за взятки здесь в тылу, чтобы не попасть на фронт. И хотя они и не обращались с нами как-нибудь особенно грубо, в то же время они не были склонны к какому-либо панибратству. Все же мне удалось несколько раз побеседовать то с одним, то с другим, на так сильно интересовавшие меня темы о войне, о жизни, о смерти, о том, в чем, собственно, счастье человека.
Сюда, в астраханский лагерь, я стал, наконец, получать, довольно регулярно, весточки из дома. По этим открыткам я узнал, что мама, брат и сестра, а также бабушка живы и здоровы, что послали мне очередную посылку (которую я, однако, не получил), и только. Но как ни старались цензоры, вымарывая все остальное, они все же не догадались и пропустили одно сообщение, осветившее то, что там у нас делается. Оказывается, Рудольфа призвали в армию, значит, положение Австро-Венгрии незавидное, раз стали призывать восемнадцатилетних! При таком истощении людских резервов, война уже долго продолжаться не сможет. И, по-видимому, русские газеты, по меньшей мере в этом отношении, не врут, когда они описывают, как плохо там в Австрии и Германии с продовольствием, как там чуть ли не совсем перешли на «эрзацы», какие ничтожные пайки выдают по карточкам бедному населению, как это особенно гибельно отражается на питании русских пленных, которых, вдобавок, заставляют тяжело трудиться. Впрочем, это ухудшение положения центральных держав рикошетом отразилось и на нас здесь. Примерно со второй половины 1916 года нам сократили пайки, заметно понизилось и качество питания, постепенно стали гонять и на работу. Все это не было вызвано ухудшением экономического положения самой России, – в то время оно еще не давало себя знать заметно – а являлось ответной мерой за ухудшение обращения с русскими пленными. Играло роль и то, что повсюду все больше усиливались хищения, воровство, казнокрадство; нас, пленных, обирали все, начиная с каптенармуса, и кончая начальником лагеря, да, вероятно, и чинами повыше, в военном министерстве, наживавшимся на «экономии».
Нас, вольноопределяющихся со званием кадет-аспирантов и даже унтер-офицерских чинов пониже, сперва принудительно работать не заставляли. Однако томиться все время в лагере было скучно, тоскливо. И когда мы узнали, что посылают работать в астраханский торговый порт и, к тому же, выведали о характере этой работы, то многие из нас добровольно попросились поработать. Попросился и я.
Это значило очутиться в ином, сказочном мире, почти на воле, несмотря на присутствие казачьей охраны. Хотя порт был речной, – до Каспия все еще далеко, чуть ли не целых 100 км, – мне казалось, что я чувствую море, вижу его дали. Запахи рыбы, дегтя, канатов, весь этот шум, гудки, свистки, крики, уханье – все вместе создавало эту приятную иллюзию. И в самой работе, которая предстояла нам, было что-то романтическое. В помощь русским и персидским грузчикам-профессионалам, сплошь этаким дюжим молодцам, мы должны были разгружать баржи, прибывшие оттуда, из Персии, из Энзели (ныне Пехлеви).
Но зато, что это были за тюки! Там оказался кишмиш, изюм, сабза, урюк, курага. Нечего и говорить, что мы усердно дегустировали эти сухофрукты. И так делали все, рабочие-грузчики и караульные тоже.
Зреет протест
Лето подходило к концу, и из лагеря уходил транспорт, в который были включены Натан и я. Так мы расстались с Бруно, и я никогда больше не слышал о его судьбе. Повезли нас поездом на север, в район Богородска Нижне-Новгородской губернии, на работы в имении графа Бобрынского. Теперь уже всех, кроме офицеров, без разбора. Здесь нам предложили рубить лес и самим строить себе бараки. А временно мы жили в шалашах, разумеется, тоже самодельных. Здесь мы впервые увидели необыкновенное для нас явление – белые ночи. Пока было еще сравнительно тепло – это был, кажется, август месяц – жить в шалашах было сносно. Но как будет дальше? Успеем ли мы со строительством бараков? Мы валили лес, – смешанный, высокие мощные деревья, а затем пилили его. Мне как «слабосильному», из-за моей травмы, досталась более легкая работа пилки.
Но вот, в один прекрасный день нас выстроили, и русский офицер в сопровождении каких-то штатских господ произнес, обращаясь к нам, речь. Затем переводчик воспроизвел ее по-немецки. Здесь, на этой вырубке, мы построим текстильную фабрику бельгийской акционерной компании. Каждый из нас должен указать, чему он выучен, и каменщики, плотники, кровельщики, слесари и другие мастера станут работать по своей профессии, а остальные – чернорабочими. Труд будет оплачиваться.
После этого, один из штатских, назвавший себя главным инженером, предложил по-французски, чтобы те, кто знает французский, выступили вперед. Таких нас оказалось человек пятнадцать. Тогда он спросил, имеет ли кто-либо из нас инженерную подготовку, умеет ли разбираться в чертежах. Четверо – и я в том числе – соответствовали и этому требованию. Он наобещал нам золотые горы: особое питание, новую одежду, хорошую зарплату, отдельное жилье вместе с бельгийским персоналом, который, дескать, вот-вот прибудет. С этими радужными перспективами я лег спать. Но уже на следующий день все это оказалось химерой. По недосмотру бельгийцев, в наши руки попали именно чертежи цехов, и на них было недвусмысленно указано, что этот будущий завод будет производить не какую-нибудь миткаль, а артиллерийские снаряды. Мы, конечно, постарались, чтобы эту новость узнали все пленные, причем с соответствующим комментарием: заставлять нас работать на войну русские не имеют права, это запрещено международной Гаагской конвенцией. И некоторые из нас (но далеко не все: из четверых, знавших язык и имевших инженерные звания, только я один) твердо решили отказаться от этой работы, что бы там с нами ни было. Так мы и заявили об этом вежливому бельгийцу. Ответ мы получили от русского начальника, который велел всех, отказавшихся от работы – таких, в конце концов насчитывалось немногим более двух десятков из общего числа в 500 человек – отделить, как паршивых овец, «анархистов», от остального чистого стада. А милые чеченцы этот приказ тут же выполнили в сопровождении дикого гика и свиста нагаек по нашим спинам. Они окружили эту небольшую нашу кучку, в которой находились и мы с Натаном, и погнали куда-то по проселочной дороге.
Не расстреливать ли повели нас, «мятежников»? Но нет. После нескольких часов ходьбы, мы попали в село Махры и очутились перед воротами в каменной стене мужского монастыря. И в этом монастыре, под охраной одних лишь монахов, пробыли мы целый десяток дней. Это оказалось очень своеобразным наказанием. Лучший санаторий было трудно придумать. Монахи относились к нам, иноверцам и «антихристам», ласково, не принуждали трудиться. Но большинство из нас, как умели, помогали им. Мы вместе с ними ели их обильную добротную еду. Купались, грелись на солнце. За трапезой они не заставляли нас молиться, а некоторые с охотой затевали беседы на щекотливые религиозные темы, даже на такую, есть ли бог, не обижаясь, когда мы спорили с ними, противоречили им, а только сострадательно покачивали головами.
Но нашему счастью вскоре пришел конец. В монастыре появился конвой из строевых солдат-пехотинцев, которые отвели нас на станцию и отвезли – в пассажирском вагоне! – в лагерь, в город Иваново-Вознесенск (теперь просто Иваново). Лагерь этот был с нормальными, более или менее сносными порядками. Здесь отыскались и книги и русские газеты, мы читали, занимались. Из газет мы предпочитали кадетское «Русское слово», а в нем фельетоны Дорошевича. На манер восточных сказок, подражая «Тысяче и одной ночи», он резко критически изображал порядки царского двора, с развратом Распутина, царицы Марии Федоровны, продажных министров. Намеки были прозрачны. И мы с Натаном удивлялись, как же это царская цензура допускает такую крамолу.
Мы тогда не понимали двух вещей: что даже среди таких царских чиновников, как цензоры, могут встретиться отдельные, либерально настроенные, люди, и что иные считают такую критику безвредным «зубоскальством», отдушиной, которая неспособна повредить режиму, поскольку она не доходит до широких масс. Ведь даже при тоталитарном режиме, когда цензура бесчинствует намного развязнее, чем при царском самовластие, по тем же причинам иногда удается проскочить в журнал, на театральную сцену или в фильм, радио и телевидение критическому сочинению.
Нам не было суждено долго пробыть в этом лагере. Вскоре нам объявили, что мы должны работать. Многие обрадовались, полагая, что нас направят на сельскохозяйственные работы к помещикам или в крестьянские хозяйства, где пленным жилось в общем неплохо, а иногда даже отлично. Но нас послали за город, в поле, рыть учебные окопы для новобранцев. «Но это ведь опять работа на войну, и вы не имеете права заставлять нас выполнять ее», заявили некоторые из нас.
Последствия нашего отказа сказались немедленно. Нас, правда, на этот раз не побили, но чтобы мы не заразили других, тут же перевели в штрафной лагерь, благо такой имелся в городе, в помещении близкого кинотеатра, в так называемом «доме Бегина». Условия в этом лагере были крайне тяжелые. Нары не в два, а в три этажа, причем одни голые доски. Личные одеяла, которые были теперь уже у многих из нас, полученные через Шведский Красный крест или из дома, у нас отобрали. Мы были здесь напиханы, как сельди в бочке, в помещении духота, вонь, дворик маленький, в него пускали «на прогулку» партиями, редко, одним словом – тюрьма, да и только. Кормили прескверно, лишили сахара, последней порции мяса. Щи – препостные, одна вода, все чаще заменялись еще более постным жидким рыбным супом. Охрана обращалась с нами сурово, за малейший проступок наказывали, сажали в карцер, на один хлеб и воду, о каких-либо умственных занятиях в этих условиях нечего было и думать.
Не знаю, долго бы я выдержал этот режим. Меня выручило то, что, по-видимому, вследствие всей негигиенической обстановки, моя рана на животе снова начала гноиться, и возобновились сильные боли в спине. Вдобавок у меня началась цинга, расшатывались и кровоточили зубы, на ногах стали появляться черные пятна. В лагерном околотке пленному врачу удалось уговорить своего начальника русского фельдшера, что я крайне нуждаюсь в стационарном больничном уходе и, вероятно, чтобы не возиться здесь со мной, меня отправили в городскую больницу. На ее фронтоне было выведено золотыми буквами: «Больница мастеровых и чернорабочих фабрики Ивана Гарелина».
В больнице после нескольких перевязок рана перестала гноиться. Цинга не прогрессировала – мне давали лук и селедку. Меня можно было отправить обратно в лагерь. Но старший врач Мирон Миронович не отпускал меня. Ему нужен был переводчик, так как в больницу, заполненную в основном русскими рабочими и работницами, текстильщиками, теперь попадали и пленные. Переводить требовалось на русский и с русского, не только со всех языков национальностей Австро-Венгрии, но и с турецкого – среди больных пленных встречались и турки. Большого запаса слов не требовалось: всего лишь простейшие вопросы анкеты о состоянии здоровья. С немецким и всеми славянскими языками у меня не было трудностей, с мадьярским и румынским я кое-как справлялся, так как за полтора года пребывания в плену я приобрел небольшой запас их слов. Но как быть с турецким? Однако удачно в больнице лежал и один младший турецкий офицер, который знал сносно по-французски. С его помощью я составил себе разговорник самых необходимых вопросов и ответов, и тогда все обходилось более или менее хорошо. Так я совершал вместе с врачом или фельдшером обход больных пленных, а если нужно было, меня будили ночью, и я переводил для сестры, сиделки или санитара.
А в остальное время я читал книги, которые одалживал мне фельдшер, Федор Федорович. Все это были русские классики, в большей части в приложениях к «Ниве»; именно благодаря этому чтению я быстро пополнил свой словарный состав, и хотя я не избавился от неправильного ударения и произношения, а также от трудностей русского правописания, я стал и писать довольно грамотно.
Бури революции
Кончился 1916 и начался 1917 год, в феврале пало самодержавие. Поражения русской армии, разруха, голод, вся эта ненавистная, несправедливая война, вся реакционная политика царского правительства переполнили, как говорится, чашу терпения народа. По стране прокатились все усиливающиеся волны забастовок, демонстраций, бунты крестьян, и, наконец, и солдат, приведшие к победе буржуазно-демократической революции.
В нашей больнице революция отозвалась слабо. Собственно лишь тем, что санитары и сиделки организовались, вступили в профессиональный союз и захотели ликвидировать свою неграмотность или малограмотность. Тут сказалась особенность города Иванова-Вознесенска. Его рабочим классом были преимущественно текстильщики, о классовой сознательности и революционности которых принято полагать, что они уступают в ней рабочим тяжелой промышленности. Но именно здесь-то, а не в Петрограде с его Путиловским заводом, где тем не менее установилось двоевластие, и где советами заправляли меньшевики и эсеры, – здесь вся фактическая власть перешла в руки Советов, в которых большевики имели перевес.
Этот небольшой общеобразовательный кружок низших больничных служащих – собирались человек десять-пятнадцать, не больше – и попросил меня заниматься с ними. Разумеется, я стал обучать их арифметике и сообщал им также сведения из естествознания, географии и истории, стараясь создать у них нечто вроде основы материалистического, атеистического мировоззрения и хотя бы примитивного понимания классовой природы общества. Все это имело особое значение, так как в больнице имелась своя домашняя церковь или часовня, где происходили богослужения с проповедями. Я сам раз или два побывал на них, должен сказать, что церковное пение, эти вновь и вновь повторяющиеся «Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй нас!», весь этот минорный, заунывный тон производили удручающее впечатление.
Однако мое учительствование длилось недолго. Без всякой мотивировки, без малейшего предупреждения, мне одним апрельским утром выдали на цейхгаузе мой австрийский мундир (в больнице я, как больные, ходил в халате и тапочках), за мной явился солдат с винтовкой, и, не дав ни с кем проститься, отвел меня обратно в штрафной лагерь, в дом Бегина. Но объяснений и не требовалось. Мне было совершенно ясно, что старшему врачу Мирону Мироновичу не нравилось мое общение с этими «плебеями», да и просветительская деятельность «врага» претила этому холеному барину, кадету, стоявшему за войну «до победного конца».
В лагере я застал еще более ужасные условия, чем те, прежние. Правительство Керенского приставило к нам охрану из Союза солдат, бежавших из плена. Понятно, что эти люди, вытерпевшие столько мучений в австро-венгерских и особенно германских лагерях, а также на работах у прусских помещиков-юнкеров, и по возвращении на родину еще натравляемые шовинистической пропагандой, относились к нам зачастую зверски, мстили, вымещали на нас, ни в чем неповинных, свои обиды. Режим стал просто тюремным.
И все же какой-то крохотный просвет свободы для меня существовал: возможность читать газеты, узнавать, пусть в препарированном виде о том, что происходит в мире, и таким образом не быть все же полностью отрезанным от него. Мы покупали «Русское слово», и по вечерам я читал вслух – переводя на немецкий тут же с листа – при тусклом свете маломощной лампочки, интересовавшие всех сообщения, прежде всего, «С театра военных действий» (хорош «театр», нечего сказать), а также о событиях, происходивших в России. Из сообщений о борьбе политических партий, мы получили некоторое представление о большевиках, познакомились с именем Ленина, и кривое зеркало кадетской газеты не могло помешать тому, что большевистские лозунги «Долой войну!», «Да здравствует пролетарская революция во всем мире!», стали нам близки, особенно теперь, когда и здесь в плену, далеко от фронта, условия нашей жизни стали невыносимыми.
В этом положении было для нас настоящим приятным большим сюрпризом, когда нам объявили, что Иваново-Вознесенский Союз рабочих, крестьянских и солдатских депутатов добился у военных властей того, чтобы мы, под честное слово, что будем соблюдать порядок, и что не будет попыток к бегству, приняли участие в первомайской манифестации. И действительно, сомкнутыми рядами, весь наш лагерь, как и другие лагеря пленных, имевшихся в городе, вышел, вместе с русскими рабочими и работницами, с русскими военными частями, на просторную городскую площадь. Я посмотрел на блестевшие на солнце трехгранные штыки наших конвойных, прислушался к страстным речам чередующихся на импровизированной трибуне ораторов. Шел митинг. Выступали представители всех партий, прерываемые шумными возгласами демонстрантов. Наряду с призывами немедленно кончить войну, дать крестьянам землю, рабочим хлеб, трудящемуся народу полноту власти и свободы, слышались и заклинания продолжать войну до победы, остаться верными союзникам, разгромить Вильгельма, бороться за «порядок», против анархии большевиков, против продавшихся немцам.
И тут я не выдержал. Я вырвался вперед, не обращая внимание на окрик караульных, вскочил на эту самодельную трибуну, и обратился к своим. Я сказал – по-немецки – что мы, военнопленные, должны взять пример с русских, и, вернувшись домой, поднять у себя революцию, и что мы уже сейчас, как это сделали русские солдаты, должны перестать рабски повиноваться своим офицерам. Я перевел эту краткую речь на свой корявый русский язык, закончил по-русски возгласом: «Да здравствует мировая революция!», и по-немецки, и по-мадьярски, «Es lebe die Wiltrevolution!», «Eljen a vilag forradalom!» и под оглушительные крики, в большинстве восторженные, – но были, конечно, и негодующие, – всей многотысячной толпы, заполнившей площадь, спрыгнул с трибуны и втиснулся обратно в наши ряды.
Возмездие не замедлило себя ждать. На следующий же день делегация пленных офицеров пришла из лагеря к прапорщику Рябцеву, начальнику лагеря, с просьбой наказать меня, изолировать за разлагающее политическое влияние. И в тот же день вечером, когда мы, как всегда, читали газету, появился этот начальник в сопровождении двух солдат и старшины и протиснувшись через тесный проход между нарами, подошел вплотную ко мне. «Встать!» – рявкнул прапорщик. Мы, конечно, все вскочили и стали навытяжку. «Давай сюда германскую газету! Откуда достал ее, шпион!» Я объяснил, что германской газеты у нас нет, что, вот, я просто читал «Русское слово», переводя на немецкий. Но прапорщик заревел: «Молчать!», с добавлением непечатной брани, и ударил меня своим большим кулаком – у него была волосатая медвежья рука, с большим перстнем, – я ее и сейчас вижу, – причем так сильно, что выбил мне сразу два передних зуба, шатких после цинги. Тут же два конвоира «нежно» подхватили меня и повели. При этом произошла маленькая задержка, даже в этих обстоятельствах – я плевался кровью – показавшаяся мне комичной. Когда мы уже вышли из лагеря, прапорщик почему-то спохватился, что одет я не по форме – без кепи и шинели – и мы всей процессией вернулись, я оделся, и мы снова пошли на окраину города, в пересыльную тюрьму.
Здесь меня уже ждали, без лишних церемоний записали в книгу и отвели в камеру-одиночку, в которой я без предъявления обвинений и без каких бы то ни было допросов пробыл целых полгода. Но как это ни странно, эта перемена, задуманная как кара, во многих отношениях улучшила мое положение. Конечно, я лишился общения с людьми, но и то не полностью. Были все же тюремные надзиратели – их было двое, они чередовались – и у меня с ними вскоре установились вполне сносные отношения. Они были уже пожилые. Один из них в первое время был груб и зол, но я сумел сагитировать его, и он стал, как и второй, подолгу мирно беседовать со мной о войне и жизни вообще, охотно рассказывать ужасы о заключенных, убийцах и ворах, а также о политических. Да и баня была, и на прогулку выводили изредка в тюремный двор, и питание лучше, чем в лагере.
Конечно, одиночка была с непривычки тягостна, порой находило отчаянье. Но я находил способ отгонять мрачные мысли. В камере была полукруглая, черная, высокая до потолка, жестяная печка, а со стен камеры легко было сколупнуть кусок белой штукатурки. Вот я и придумывал себе математические задачки, а при экономнейшем пользовании этой «доской» и этим «мелом», затем пытался решить их. Мои старания наблюдали через «волчок» мои сторожа, удивлялись, а я объяснил им, что я учитель, и вот упражняюсь, чтобы не забыть свою профессию, и они успокоились. Но ведь здесь были даже передачи, целых три за эти шесть месяцев. Товарищи из лагеря послали мне белье – по меткам на нем я понял, что оно было из посылки шведского Красного креста – непременно завернутое в свежий номер «Русского слова». Оттуда я всякий раз узнавал о все более бурных событиях в стране.
Однако наступил, наконец, один из самых счастливых дней моей жизни. Но так как у меня не было календаря, не ручаюсь, было ли это 27 или 28 октября (9 или 10 ноября). Во всяком случае, этот столь памятный для меня день начался с того, что не было утреннего чая с раздачей пайка хлеба, хотелось есть. Я стучался в дверь, но в коридоре не было стражи, никто не подошел. Слышался доходивший откуда-то гул, – не бунт ли это в тюрьме? Я страшно волновался. И вдруг с грохотом открывается дверь моей камеры, и входит штатский в сопровождении одного надзирателя. Я сразу заметил, что мой «приятель»-надзиратель без пояса и револьвера, что он расстроен, и что у него та самая книга, вроде гроссбуха, в которую, при приеме в тюрьму, меня записали.
А штатский, высокий худющий брюнет, с впалыми щеками и горящими глазами, как раз и был вооружен. Удостоверившись по книге, кто я таков, он переспросил меня еще раз, для верности, за что меня посадили, и не дождавшись, когда я, взволнованный, окончу свой рассказ, тут же обнял меня, в нескольких словах сообщил, что в Петрограде победила пролетарская революция, правительство капиталистов и помещиков арестовано, Керенский бежал, что власть в руках Советов рабочих, крестьян и солдат, с большевиками и левыми эсерами во главе, и что я, как и другие политические заключенные, теперь свободен, и сейчас пойду с ним к нему домой. Он назвался Самойловым, руководителем Иваново-Вознесенской большевистской партийной организации. И мы пошли с ним, с трудом продираясь сквозь группки рабочих с винтовками за плечом, то и дело обращавшихся к товарищу Самойлову с каким-нибудь вопросом. Да, и я теперь товарищ, какое это замечательное слово (и как оно ныне опошлено!) – тюрьма, надзиратель, с его книгой и связкой ключей, остались навсегда позади… Но навсегда ли?