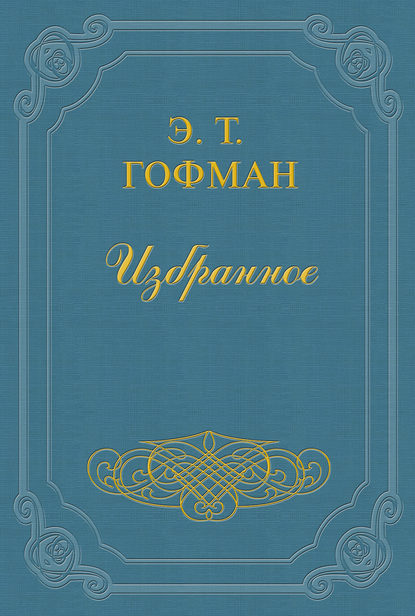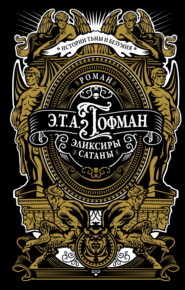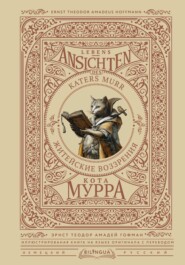По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мастер Иоганн Вахт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, души и сердца этих молодых людей слились в одно чистое, неугасимое, возвышенное пламя. Мастер Вахт не имел ни малейшего подозрения насчет сердечных дел своей дочери; вскоре, однако же, ему суждено было узнать все.
Неустанным прилежанием и выдающимися способностями Ионатан добился того, что годы его учения тянулись очень недолго: он был допущен к соисканию на степень адвоката и получил ее.
С этим радостным известием, обеспечившим ему твердую опору на жизненном пути, отправился он в первое же воскресенье к мастеру Вахту, надеясь устроить ему приятный сюрприз. Каково же было его изумление и ужас, когда Вахт пронизал его горящим от гнева взором, какого он никогда у него не видывал, и воскликнул громовым голосом, от которого дрогнули стены:
– Как, презренный негодяй, тебя природа обидела телесной силой, но зато богато одарила умственными способностями, а ты, как лукавый изверг, хочешь злоупотреблять ими самым позорным образом и обращаешь нож против своей родной матери? Намереваешься торговать правом, тащить его на публичный рынок, как какой-нибудь дрянной товар, да еще будешь обмеривать и обвешивать бедных земледельцев и притесненных бюргеров, которые тщетно взывают и униженно кланяются перед бездушным судейским креслом, а ты еще будешь тянуть с них за это последние гроши, потом и кровью добытые бедняками? Бессовестные врали выдумали кучу всякого вздора, а ты этим вздором набил себе голову и воображаешь, что это прибыльное ремесло и можно им кормиться? Да неужели в твоем сердце не осталось никаких следов добродетели отца твоего? Твой отец… ведь ты прозываешься Энгельбрехт?.. Да нет, не может быть. Мой старый товарищ, Энгельбрехт, был воплощением добра и чести, и когда я слышу, что твои товарищи зовут тебя тем же именем, мне кажется, что это адская насмешка, что сам сатана выкрикивает имя этого превосходного человека, применяя его к негодному мальчишке-юристу и заставляя добрых людей ошибочно думать, что ты можешь быть сыном честного плотника Готфрида Энгельбрехта… Прочь!.. Ты больше не мой питомец… ты змея, которую вскормил я на своей груди и теперь отрываю прочь! Вон отсюда!.. Отрекаюсь от тебя…
Тут Нанни вскрикнула пронзительным, раздирающим душу голосом и упала в ноги мастеру Вахту.
– Батюшка, – воскликнула она, растерявшись от горя и безнадежного отчаяния, – если ты от него отрекаешься, то отрекись и от меня, твоей любимой дочери… Потому что он мой… мой Ионатан; без него не могу я жить на свете!
Бедняжка лишилась чувств и, падая, ударилась головой об угол шкафа, так что кровь полилась по ее нежному, белому лбу. Барбара и Реттель бросились к ней и перенесли ее в обмороке на диван. – Ионатан стоял, будто пораженный молнией, и не в силах был двинуться с места.
Трудно передать словами, какие чувства отразились на лице Вахта. Сначала он вспыхнул багровым румянцем, потом мертвенная бледность разлилась по его лицу, в остановившихся глазах еще горело мрачное пламя, а на челе проступали капли холодного пота; несколько секунд он молча смотрел в пространство, потом стесненная грудь его облегчилась глубоким вздохом, и он произнес странным тоном:
– Так вот что! – затем медленно пошел к двери, еще раз постоял немного у притолоки, слегка обернулся и крикнул женщинам через плечо: – Только не жалейте одеколона, и вся эта дурь скоро пройдет!
Вскоре вслед за тем увидели, что мастер Вахт вышел из дому и скорым шагом пошел в горы.
Можно себе представить, в какое глубокое горе была повержена вся семья. Реттель и Барбара, собственно, не поняли, что именно случилось, и только тогда догадались, что было нечто ужасное, когда настал час обеда, а хозяин не возвращался, чего с ним еще никогда не бывало. Пришел он домой только поздно ночью.
Тогда они услышали, что он распахнул входную дверь, сердито захлопнул ее, тяжелой поступью поднялся наверх в свою комнату и там заперся.
Бедная Нанни скоро опамятовалась и проливала тихие слезы. Зато Ионатан предавался порывам самого дикого отчаяния и даже неоднократно говорил, что застрелится. Хорошо, что пистолеты не принадлежат к числу обиходной утвари молодых и чувствительных адвокатов, а если случаются, то без курка и вообще в негодном виде.
Пробежав несколько улиц в состоянии полной невменяемости, Ионатан инстинктивно направил свой бег к дому своего высокого покровителя и в самых пылких выражениях излил перед ним свои лютые страдания и неслыханную обиду, нанесенную его любящему сердцу. Нечего прибавлять (это уж само собой разумеется), что юный адвокат был твердо убежден, будто он единственный в мире человек, испытавший столь необычайное несчастие, а потому, не стесняясь, проклинал судьбу и жаловался на восставшие против него адские силы.
Аббат выслушал его спокойно и довольно участливо, хотя видно было, что он не придает страданиям адвоката того важного значения, какое придавал им сам пострадавший.
– Юный друг мой, – сказал аббат, ласково взяв за руку адвоката и подводя его к креслу, – до сих пор я считал почтенного плотника Иоганна Вахта за великого человека в своем роде, теперь же вижу, что и он изрядный дурак. А великие дураки все равно что упрямые лошади, их не скоро приучишь ходить в упряжке; но как только они пойдут, то и повезут отлично. Из-за сегодняшнего неприятного случая, то есть из-за бессмысленного гнева старого отца, вам никоим образом не следует отказываться от прелестной Нанни. Но прежде чем мы с вами поговорим о вашем интересном и действительно очень милом романе, присядем-ка за стол и слегка позавтракаем. Вы побывали у старого Вахта около полудня, а я обедаю не раньше четырех часов.
Оба они, аббат и адвокат, сели за небольшой стол, на котором был приготовлен очень аппетитный завтрак: байонская ветчина, приправленная португальским луком, холодная куропатка, нашпигованная свиным салом, тоже иноземного происхождения, трюфели, отваренные в красном вине, страсбургский паштет из гусиных печенок, одна тарелка с настоящим итальянским сыром стракино, а другая со свежим сливочным маслом, желтым и блестящим, как полевой лютик.
(Благосклонный читатель, приезжающий в Бамберг и любящий такое аппетитное масло, с удовольствием узнает, что можно получить его в самом чистом и наилучшем виде, но в то же время ему неприятно будет узнать, что местные жители, из чрезмерной экономии, перетапливают его, как жир, и, превращая в горьковатое топленое масло, аккуратно портят им вкус каждого кушанья.)
Наряду с этими прелестями, в хрустальном граненом кувшине блистало благородное шампанское, только не шипучего сорта. Аббат, встретивший адвоката с подвязанной у горла салфеткой, так и не снимал ее, и как только лакей проворно поставил на стол второй прибор, хозяин сел и принялся накладывать безнадежно влюбленному юноше самые лакомые кусочки, налил ему вина, а потом и сам усердно приналег на завтрак. Кто-то утверждал однажды, будто желудок состоит у нас на равных правах со всеми остальными физическими и духовными функциями человеческого организма; это, конечно, наглая ложь, безбожная и отвратительная выдумка. Однако нередко случается, что именно желудок играет роль всесильного тирана, злорадно насмехаясь над прочими нашими органами, распоряжается ими по своему усмотрению.
То же случилось и теперь.
Адвокат машинально, и вовсе об этом не думая, в несколько минут уничтожил большущий ломоть байонской ветчины, произвел значительные опустошения в португальском гарнире, проглотил половину куропатки, множество трюфелей и такую огромную порцию страсбургского паштета, какая казалась бы несовместной с пылкою горестью влюбленного молодого адвоката. При этом и аббат и адвокат так прилежно занялись шампанским, что камердинер вскоре принужден был во второй раз наполнить хрустальный кувшин.
Адвокат чувствовал, как по всему его телу разливалась благотворная теплота, а сердечное страдание перешло в легкий озноб, время от времени пробегавший по телу подобно электрическим искрам, что доставляет хотя и болезненное, но приятное ощущение. Он был особенно восприимчив к утешительным речам своего высокого покровителя, а этот последний, с наслаждением проглотив последнюю рюмку вина и аккуратно отерев себе губы, уселся поудобнее и повел такую речь:
– Во-первых, мой любезный и добрый друг, с вашей стороны было бы очень глупо предполагать, что вы единственный на земном шаре человек, которому отец отказывает в руке своей дочери. Но не в этом дело. Как я уже говорил вам, самая причина, почему старый дурак вас возненавидел, до такой степени нелепа, что не выдерживает никакой критики; и, хотя я рискую в настоящую минуту показаться вам непоследовательным, все-таки я скажу, что для меня очень досадна мысль, что все это кончится ничем, и в заключение сыграется самая обыкновенная свадьба, как поется в песне: «Полюбилась Грета Пете, и женился он на Грете».
Между тем на самом деле положение ваше ново и необычайно: приемный сын и любимец старика посвящает себя такой профессии, которая возбуждает его ненависть, и это служит единственным препятствием к браку… Как хотите, это такой небывалый мотив, которым можно бы воспользоваться для настоящей трагедии… Впрочем, перейдем к делу, любезный друг; вы – поэт, и это существенно меняет все. Ваша любовь, ваши страдания должны предстать перед вами, как поэтический сюжет, во всем блеске святого искусства; вы слышите, как близкая вам муза берет первые аккорды на лире, и в божественном вдохновении хватаете на лету крылатые слова, в которых изливаются ваша любовь, ваше страдание. Как поэт вы в настоящее время счастливейший в мире человек, потому что действительно уязвлены до глубины души и сердце ваше источает кровь, следовательно, вы не нуждаетесь ни в каком искусственном возбуждении, чтобы настроиться поэтически; спешите же воспользоваться этим периодом глубокой тоски, она вам поможет создать нечто великое и превосходное.
При этом я должен вам заметить, что в эти первые моменты вашего любовного страдания к ним примешивается довольно странное и очень неприятное ощущение, которое ни в какую поэзию не вложить, но это ощущение скоро проходит. Вы меня, надеюсь, понимаете?.. Если, например, злополучный любовник порядком поколочен разгневанным отцом и вытолкан вон из дому, если оскорбленная маменька засадит девушку в дальнюю комнату и, заперев ее на ключ, поднимет на ноги весь дом, чтобы вооруженною рукой противостоять осаде, предпринятой отчаянным любовником, если даже тончайшее сукно его одежды не защитит его от напора плебейских кулаков (тут аббат слегка вздохнул), то следует дать время выдохнуться всей этой кислой прозе, жалкому продукту грубейшей вульгарности, и тогда останется один чистейший осадок истинно поэтического любовного страдания. Вас грубо выругали и выгнали, мой любезный молодой друг, это и была та проза, которой нужно дать испариться, а как только она испарилась, всецело отдавайтесь поэзии.
Вот вам сонеты Петрарки[4 - Петрарка Франческо (1304–1374) – итальянский поэт, автор книги сонетов и канцон на жизнь и смерть мадонны Лауры.], вот Овидиевы элегии, возьмите их, читайте, сочиняйте, и прочтите мне все, что напишете. Быть может, и мне тем временем выпадет на долю некоторая любовная тоска, на что я имею легкую надежду, так как, вероятно, влюблюсь в неизвестную даму, только что приехавшую в гостиницу «Белой овечки», на Каменной дороге. Граф Нессельштедт видел ее лишь мельком в окошке, но утверждает, что она прелестна, очаровательна. Вот тогда, о друг мой, мы с вами, подобно Диоскурам, будем вместе страдать и об руку пойдем по блистательному пути чистой поэзии и любовной тоски. Заметьте, дружок, какое важное преимущество дает мне мое звание: какая бы любовь ни охватила мое сердце, ее надеждам и стремлениям не суждено осуществиться, и это придает ей сразу трагический характер. А теперь, мой друг, скорее пойдем в лес, в лес! Нельзя же без этого.
Благосклонному читателю стало бы невыносимо скучно, если бы я принялся теперь во всех подробностях и в самых изысканных выражениях излагать ощущения и поведение влюбленных Нанни и Ионатана. Этого добра наворачивают достаточное количество в каждом плохом романе, и подчас довольно забавно бывает подмечать, на какие чудеса и выверты пускается автор, чтобы показаться как можно оригинальнее.
Мне кажется, гораздо важнее обратиться к мастеру Вахту и проследить течение его мыслей.
Достойно удивления, что человек, одаренный таким здравым умом и сильным характером, как мастер Вахт, сумевший с непоколебимою твердостью перенести жесточайшие испытания, которые стерли бы в порошок всякого другого, более слабого человека, мог до такой степени выйти из себя из-за пустого случая, который всякий другой отец семейства счел бы за сущий вздор, легко устранимый, и так или иначе уладил бы его без особых хлопот. Благосклонный читатель, вероятно, того же мнения, и полагает, что такое обстоятельство должно было иметь какую-нибудь психологическую подкладку. Одна лишь эта досадная расстроенная нота в душе Вахта могла внушить ему мысль, будто любовь бедной Нанни к неповинному Ионатану должна разрушить счастье всей его жизни. Но именно потому, что в гармоническом существе величавого старика могла зародиться подобная фальшивая нота, не было надежды ее заглушить, а также нельзя было заставить ее молчать.
Вахт знал женскую натуру с самой простой, но в то же время самой возвышенной и прекрасной стороны. Его покойная жена дала ему заглянуть в самую глубь своего чрезвычайно женственного существа, чистого и прозрачного, как море в тихую погоду; он знал, какого сорта бывают женщины-герои, вечно воюющие с непобедимым оружием в руках. Его жена осталась сиротой без отца и матери, но у нее была богатая тетка, все состояние которой должно было перейти по наследству к ней; однако она отступилась от этого наследства и от всех родственников, сумела выдержать настояния церкви, доставившие ей много горьких минут, и, будучи воспитана в католической религии, не только вышла замуж за протестанта Иоганна Вахта, но незадолго перед тем сама, вследствие чистого и пылкого убеждения, перешла в лютеранскую веру в городе Аугсбурге. Все это воскресло теперь в памяти мастера Вахта, и он со слезами вспомнил, с какими чувствами повел он свою невесту к алтарю.
Нанни была живой портрет своей матери, и Вахт любил ее с несравненной горячностью; одного этого было более чем достаточно, чтобы ему казалось дьявольской жестокостью применить какое-либо насилие для разлучения ее с любимым человеком. С другой стороны, мысленно пробегая всю прошедшую жизнь Ионатана, он должен был сознаться, что редко можно встретить в одном и том же человеке такое счастливое соединение всяких добродетелей: Ионатан был благочестив, прилежен, скромен и вдобавок чрезвычайно хорош собой; правда, в его тонких чертах и общем выражении лица было нечто женоподобное, а изящная фигурка его была немного тщедушна, но на всей его внешности лежал несомненный отпечаток нежности и умственного превосходства. Далее, вспоминая, что эти двое детей от самого младенчества постоянно были вместе и постоянно проявляли чрезвычайное сходство характеров и наклонностей, мастер Вахт сам не мог понять, как он раньше не предвидел того, что случилось, и заблаговременно не положил этому предела… Но теперь было уже поздно.
Гонимый внутренним волнением, он скорым шагом углублялся в горы. Никогда еще не испытывал он такого настроения и склонен был считать его дьявольским наваждением, тем более что в его душе возникали такие страшные мысли, что через минуту сам он содрогался от них. Он никак не мог успокоиться и не в состоянии был прийти к какому-либо решению. Солнце уже близилось к закату, когда он достиг деревни Бух; он вошел в трактир и приказал подать себе чего-нибудь получше на обед и принести бутылку пива.
– Эге! Доброго вечера и приятного аппетита, эй! Вот, можно сказать, неожиданная встреча! Не думал, не гадал встретить здесь, в нашем живописном Бухе, и в такой прекрасный воскресный вечер дорогого мастера Вахта! Просто глазам своим не верю! Вероятно, и почтеннейшее семейство ваше где-нибудь тут же, поблизости?
Так приветствовал мастера Вахта чей-то звонкий, пронзительный голос. То был не кто иной, как господин Пикар Леберфинк, ремеслом лакировщик и позолотчик и самое уморительное существо, какое возможно себе представить. Он-то и прервал тягостные размышления мастера Вахта.
Самая внешность Леберфинка производила чудное впечатление. Это был маленького роста, коренастый человек с чрезмерно длинным туловищем и короткими кривыми ножками. Впрочем, он был совсем недурен собою, у него было добродушное, круглое лицо, румяные щеки и довольно живые, блестящие серые глаза. Следуя устарелой французской моде, он всякий день завивал и сильно пудрил себе волосы, а по воскресеньям одевался с особой изысканностью. Так, например, он надевал лиловый шелковый камзол со светло-желтыми полосками и огромными пуговицами в серебряной оправе, пестрый вышитый жилет, ярко-зеленые атласные штаны, белые шелковые чулки с тонкими полосками небесно-голубого цвета и черные лакированные башмаки с большими блестящими пряжками. Если к этому прибавить изящную походку настоящего танцмейстера, некоторую кошачью гибкость телодвижений, виртуозную ловкость в ногах, что было особенно заметно, например, при перепрыгивании через сточные канавки, то не мудрено, что маленький лакировщик повсюду слыл за отменного чудака. С остальными его качествами благосклонный читатель вскоре сам познакомится.
Мастеру Вахту было, в сущности, не неприятно, что таким образом были прерваны его скорбные мысли.
Лакировщик и позолотчик, господин или, скорее, мосье Пикар Леберфинк был нелепый малый, но при всем том честнейшая и благородная душа, большой либерал, добряк, щедрый к бедным и услужливый относительно друзей. Ремеслом своим он занимался лишь изредка, чисто из любви к искусству, потому что в заработке не нуждался.
Он был богат. Отец оставил ему в наследство хороший земельный участок с великолепным каменным подвалом, отделявшийся от участка мастера Вахта обширным садом.
Мастер Вахт был сердечно расположен к забавному Леберфинку, во-первых, за его великую честность, а во-вторых, за то, что и он был членом маленькой протестантской общины, которой дозволено было исповедовать свою религию в этой местности. Вахт предложил ему присесть к его столику и выпить с ним еще бутылку пива, на что Леберфинк согласился с восторженной готовностью. Давно уже, по его уверению, собирался он навестить мастера Вахта в его доме, потому что чувствует надобность побеседовать с ним о двух предметах, из которых один особенно тяжело лежит у него на сердце. Мастер Вахт отвечал, что, кажется, Леберфинк его хорошо знает, и всем известно, что о всяком предмете с ним можно объясниться начистоту.
Тогда Леберфинк открыл по секрету мастеру Вахту, что сосед его, виноторговец, предложил ему, Леберфинку, купить его прекрасный сад с солидной каменной беседкой, тот самый сад, что приходился между земельными участками Вахта и Леберфинка. Ему помнилось, как будто мастер Вахт говорил однажды, что ему было бы очень приятно обладать этим садом; так вот теперь представляется случай его купить, и Леберфинк предложил взять на себя обязанность посредника и устроить ему это дело.
Мастер Вахт действительно давно уже мечтал увеличить свой земельный участок прикупкою к нему хорошего сада; в особенности потому, что Нанни всегда душой тянулась к роскошным кустам и деревьям, в пышной красе благоухавшим из-за решетки этого сада. На этот раз ему показалось, будто судьба особенно кстати посылает такой случай порадовать бедную Нанни именно в то время, когда она переживает глубокое горе.
Мастер Вахт немедленно обсудил все подробности с услужливым полировщиком, который, с своей стороны, обещал, что в следующее воскресенье мастер Вахт будет разгуливать по тому саду в качестве законного его хозяина.
– Ну, – воскликнул Вахт, – теперь говорите, друг Леберфинк, что же тяжело лежит у вас на сердце?
Тут Пикар Леберфинк начал испускать самые жалостные вздохи, строить престранные гримасы, и завел такую галиматью, что со стороны никто не мог бы понять ни единого слова. Мастер Вахт, однако ж, понял в чем дело, пожал ему руку и сказал:
– Что ж, и это можно будет устроить! – А сам подумал, улыбаясь себе в бороду: «Вот удивительная симпатия родственных душ!»
Весь этот разговор с Леберфинком благотворно повлиял на мастера Вахта. Ему казалось даже, что он наконец принял некое решение, с помощью которого ему удастся воспротивиться ужасному несчастию, грозившему его постигнуть (так думал он в своем ослеплении), а может быть, и вовсе побороть его. Только в том, что он теперь сделает, и выразится решение того высшего суда, который он носит в своей душе… А может быть, благосклонный читатель, тут-то в первый раз в жизни и погрешил этот высший суд!
Здесь кстати будет сделать маленькое указание, для которого впоследствии, пожалуй, не нашлось бы места. Как обыкновенно в подобных случаях, старая Барбара еще прежде жаловалась хозяину на влюбленных, но обвиняла их не во взаимной их склонности, а в том, что они вместе читают светские книги. Мастер Вахт приказал подать себе несколько книжек, лежавших у Нанни. Это было одно из творений Гете, но какое именно, осталось неизвестно. Он перелистал книжки, почитал немного, потом отдал Барбаре, велев положить их обратно на то самое место, откуда она их тайно похитила. Никогда ни одним словом он не обмолвился насчет чтений Нанни, но однажды за обедом по какому-то случаю сказал:
– Среди нас, немцев, народился какой-то небывалый гений, дай ему бог всякого успеха. Мое время уж миновало, и ни годам моим, ни званию не подобает заниматься такими вещами, но я завидую тебе, Ионатан, на твоем веку сколько еще будет интересного и великого!
Эти таинственные слова были тем более понятны для Ионатана, что за несколько дней перед тем, случайно очутившись возле рабочего стола мастера Вахта, он заметил там полузапрятанную под чертежами книгу, и оказалось, что это «Гец фон Берлихинген»[5 - «Гец фон Берлихинген» – историческая драма Гете.]. Великая душа Вахта признала и величие этого гения, и невозможность начинать свое образование сызнова.
На другой день после описанных происшествий бедная Нанни сидела, понурив головку, точно больная горлица.