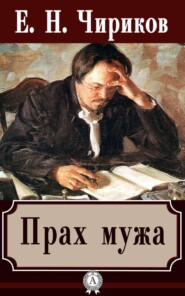По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А я почему знаю! К тебе много ходят. Записку на столе оставила.
«Милый, родной мой! Я – приехала. Остановилась пока в меблированных комнатах „Заря“, на Проломной улице. Приходила к тебе дважды. Жду тебя завтра утром. Твоя З.»
Сперва я страшно испугался. Словно меня поймали на месте какого-то скверного преступления. Я запер дверь, прилег на постель и притих. Что же теперь делать? Что делать? Как сказать, что я уже не тот, что все прошло и что она ошибается, называя меня прежним «родным и милым»?.. Что я наделал! Зачем я не написал ей, что все кончилось, что все это было ошибкой, увлечением, которое кануло в прошлое и не может вернуться?.. Нет сил пойти и сказать все это прямо в лицо. Лучше написать. Я вскочил с кровати и стал писать нервно, торопливо, словно боялся, что она может каждую минуту придти ко мне. «Многоуважаемая». Нет!.. «Добрая, хорошая Зоя Сергеевна»… Нет! нет! «Милостивая Государыня»… Нет, это жестоко и пошло. Я рвал бумагу и волосы на глупой голове, которая отказывалась помочь мне в этом затруднении. Можно не называть.
«Наша близость была ошибкой. Что прошло, то не вернется. Простите меня. Надеюсь, что это не помешает встречаться нам товарищами»…
Написал, заклеил в конверт и положил на столе. Лег и снова вскочил, разорвал конверт и стал перечитывать и писать, варьируя все те же жестокие слова и не находя других. А из рамы на меня смотрели с нежной грустью и застенчивой лаской глаза белой девушки и словно молили о пощаде.
Милая, бедная голубка! Ну, как же нам быть и что мне сказать себе? Может быть, я немного люблю еще тебя, но потух тот пламень, которым горела душа при каждом твоем слове, при одном звуке твоего милого голоса, при каждой случайной встрече наших глаз. Моя любовь к тебе покрылась какой-то грустной дымкой прошлого и не вспыхивает прежним пламенем. Тяжело мне, дорогая. Но я не виноват: я тогда верил, что моя любовь к тебе непобедима. Я хотел бы упасть к твоим ногам и поплакать, я хотел бы рассказать тебе, как всё это случилось… Но ты оттолкнешь меня и не захочешь моей правдивой исповеди. Да и сил нет пойти к тебе, называющей меня «милым и родным», и разбить твое золотое сердце. Я боюсь посмотреть в твои глаза, потому что они не встретят в моих ответного восторга и трепета любящей души… Надо всё это написать, чтобы ты поняла и простила. Ты ведь добрая и кроткая, ты – чистая, а я… уже грязный… Как сказать тебе об этом? Зоя, Зоя! Лучше бы ты не приезжала… Обоим было бы лучше и легче…
Всю ночь напролет я метался в постели и по комнате, а когда Палаша завозилась в кухне, я потихоньку вышел на улицу и побрел к меблированным комнатам «Заря». Было еще очень рано и не было опасности встретиться. И всё-таки я долго бродил по другой стороне улицы, не решаясь приблизиться к дверям «Зари». Наконец решился, быстро вошел в крыльцо и, подав швейцару свое письмо, строго приказал:
– Немедленно передайте в № 24.
А потом быстро вышел и еще быстрее зашагал прочь, с чувством радостного освобождения от лжи – и глухой тоски по чем-то навсегда утерянном. Домой я не пошел: что-то пугало меня идти туда, и я очень долго бродил по отдаленным улицам и закоулкам, пугаясь встречных девушек, в которых мне поминутно чудилась Зоя…
XXII
– Письма или записки не было?
– Нет.
– Кто-нибудь был?
– Был. Студент.
– А барышни никакой не…
– Не было!..
Так начиналось теперь каждое мое возвращение домой. Когда Палаша говорила, что была барышня, я начинал подробно выспрашивать ее, какая из себя та барышня, и помогал Палаше нарисовать Зою:
– С большими золотыми косами, да?
– Нет, какие там косы! стриженая… К тебе с косами-то не ходят.
Когда признаки подходили, я показывал Палаше портрет:
– Не эта?
– Да ведь ты сказывал, что эта померла уж!
– Не твое дело… Воскресла, значит!..
– Эх ты, безбожник!
Ничего не ответила мне Зоя. Напрасно я ждал письма с упреками, слезами, мольбой… Ничего! Оборвалось и упало в пропасть всё, что было… Чего же я жду и зачем так упорно справляюсь у Палаши? Почему меня преследуют мысли о Зое и почему мои взоры на улицах пытливо скользят по встречным девушкам, с затаенной надеждой встретить именно ее? Почему я каждый день подолгу смотрю на портрет и улыбаюсь ему грустной улыбкой? Не знаю, ничего не знаю. Где она теперь? Быть может, она уехала из города, и я напрасно боюсь и надеюсь с ней встретиться… Какая она стала теперь? Как она переживает наш разрыв? Быть может, не переживает его, а, быть-может, уже примирилась и кто-нибудь из студентов снова разбудил ее красивую душу, и она снова кому-нибудь стыдливо опускает ресницы… Почему – нет? Ведь я… Ах, проклятый черный дьявол, с черным пламенем в бесстыжих глазах, зачем ты встал на нашей дороге и разрушил такое чистое, красивое счастье? Где ты, Зоя? Мне хотелось бы узнать только одно: здесь ты или тебя нет в этом городе, где живу я…
Несколько раз я порывался зайти в «Зарю» и спросить, не здесь ли до сих пор живет Зоя, но не решался. И вот однажды…
Курсистки-фельдшерицы устроили вечеринку, и я, как непременный гость всех идейных вечеринок, конечно, попал и на эту. Было тесно, шумно и весело: говорили речи, пели, танцовали, декламировали запрещенные стихи. В числе любимых декламаторов был и я… Вот уже увидали, хлопают, требуют, кричат по фамилии и называют любимое… Я гордо закидываю назад волосы, выхожу на маленькую эстраду и воцаряется привычная уху тишина, чуткая, пропитанная нервным электричеством…
«Что мне она: не жена, не любовница
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь?..»
– начал я декламировать и обвел взорами сверкающую глазами толпу студентов и курсисток. Что это? Чьи это глаза странно так, пристально и удивленно, смотрят прямо в мою душу? Неужели – Зоя!.. Я замялся, опустил глаза и каким-то чужим голосом продолжал декламировать. Меня тянуло в ту сторону, где я столкнулся взорами с той, похожей на Зою, девушкой, но я не смел туда смотреть… Кончил – шум аплодисментов и крики: «бис»! Я раскланялся, показал жестом руки на шею и сошел с эстрады, отговариваясь болезнью горла, забрался в буфет и боялся выйти в зал. Окружив себя товарищами, я пил с ними пиво, говорил о серьезных вопросах, а сам трепетал от страха и радости какого-то ожидания… Она, она! Это ее глаза смотрели на меня с каким-то грустным изумлением. Я это не только увидел, я это почувствовал… Еще раз, хоть один только раз, увидать бы ее всю, а не одни глаза… Она, она!..
Я низко опустил голову: мимо, под-руку с Верой Игнатович, проходила Зоя. Торопливый жадный взгляд вслед уходящим: точно выросла на целую голову, стройная, гордая, с теми же тяжелыми золотыми косами, оттягивающими назад голову, та же плавная походка. И та, и не та.
– Ты что покраснел?
– Зубы заболели. Горло и зубы.
– Выпей коньяку: от зубов хорошо помогает.
– Коньяку? Что же… Пожалуй!
– Возьми полбутылки: у нас тоже зубы ноют… Деньги есть?
– Сколько угодно: только вчера из дому поддержку получил.
Взяли коньяку, стали пить. У меня быстро затуманилась голова и пропал страх перед Зоей. Ну, что ж, пусть проходит: я встану и раскланяюсь. В сущности, я ничего подлого не сделал, я сказал ей только то, что должен был сказать. Любовь – свободна…
– Выпьем, братцы!
И я затянул из «Кармен»: «Любовь свободна»…
– Посмотри, как похожа эта девица на Маргариту!
– Где?
– А вот, со студентом!..
– Да…
– Хорошенькая! – сказал один из компании и подмигнул.
– Пошляк! – бросил я в его сторону и почувствовал глубокое оскорбление. Начиналась ссора, но подошли две курсистки и быстро потушили наши сердца. В зале загремела музыка: старый знакомый такой вальс, и от этого вальса защемило в сердце. «Та-ра-ра-ра, т-а-та, та-ра-ра-та» – подтягивал я роялю и мне хотелось упасть головой на стол и расплакаться. Почему? Не знаю, ничего не знаю… «Та-рам-та-та, та-тааа, тарам, та-та-та-таа»…
– Выпьем, господа! Всё равно…
Потом я встал в дверях, скрестил по-наполеоновски руки и стал с грустной иронией смотреть на кружащиеся в вальсе пары. Подходили раскрасневшиеся курсистки и говорили:
– Я хочу с вами танцовать!
Другие электронные книги автора Евгений Николаевич Чириков
Другие аудиокниги автора Евгений Николаевич Чириков
Юность




 0
0
Зверь из бездны




 4.5
4.5