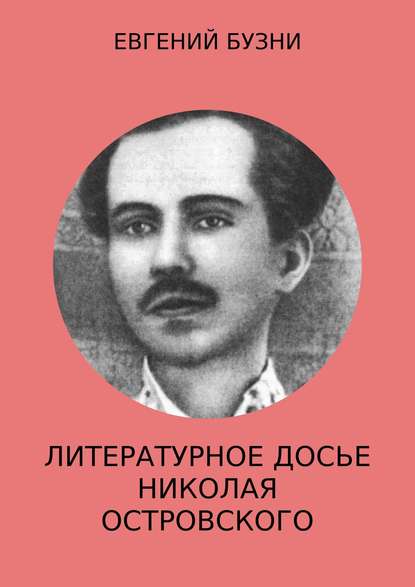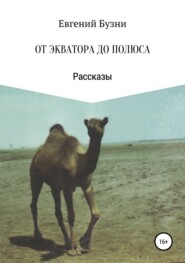По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературное досье Николая Островского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В окончательном, опубликованном, варианте всё несколько упрощается сокращениями и вместо Лагутиной этот эпизод переносится на Анну Борхарт:
"Однажды вечером Борхарт зашла к Окуневу. В комнате сидел один Корчагин.
– Ты очень занят, Павел? Хочешь, пойдём на пленум горсовета? Вдвоём нам будет веселее идти, а возвращаться придётся поздно.
-Корчагин быстро собрался. Над его кроватью висел маузер, он был слишком тяжёл. Из стола он вынул браунинг Окунева и положил в карман. Оставил записку Окуневу. Ключ спрятал в условленном месте.
В театре встретили Панкратова и Ольгу. Сидели все вместе, в перерывах гуляли по площади. Заседание, как и ожидала Анна, затянулось до поздней ночи.
– Может, пойдём ко мне спать? Поздно уже, а идти далеко, – предложила Юренева.
– Нет, мы уж с ним договорились, – отказалась Анна.
Панкратов и Ольга направились вниз по проспекту, а соломенцы пошли в гору.
Ночь была душная, тёмная. Город спал. По тихим улицам расходились в разные стороны участники пленума. Их шаги и голоса постепенно затихали. Павел и Анна быстро уходили от центральных улиц".
Таким образом, мы видим, как постепенно трансформируется первоначальный вариант текста, который помещается во вторую главу второй части книги. Из него удаляется урядник, меняется имя Лагутиной на Анну Борхарт. Затем исчезает описание заседания, остаётся лишь его обозначение несколькими фразами, и этот эпизод переходит уже в третью главу второй части романа. Неизменной остаётся сцена у тоннеля. Она и становится одним из многих запоминающихся эпизодов романа. Однако в первоначальном варианте Островский далеко не так быстро подходит к этому эпизоду.
"Женских платочков в зале было немного, в большинстве кепки, защитные фуражки, будёновки, и всё же найти Лагутину было трудно. Павел смотрел во все стороны, но не находил белого платочка и белой блузки Лагутиной.
"Этот Стёпка не мог найти её и передать, где я сижу? А то сидит где-то там, вечно не доделает, долговязый чёрт, – возмущался Павел. – И почему именно меня конвоиром к Лагутиной? Что мне больше делать нечего, кроме как девчат домой провожать? И даже не рассказал толком, в чём дело. Вот ещё дубина! "
Но Лагутину всё же нужно было найти, так как заставить её одну идти домой было не по-товарищески. Павел поднялся и стоя стал рассматривать отдалённый угол, который ему не был виден сидя. Заметив белое пятнышко в углу около ложи, и дойдя туда, он нашёл Лагутину, склонившуюся на ручку кресла в полудремоте. Усевшись с ней рядом в свободное кресло, Павел дотронулся до её руки. Лагутина подняла к нему усталое и бледное лицо.
– Слушай, товарищ, – сказал Павел, – домой идём вместе. Ребята ушли охранять склады продбазы на пристани, так что топать будем на пару.
На Павла глядели встревоженные глаза Лагутиной.
– Но мы же думали идти все вместе домой, – тихо проговорила она.
Павел коротко передал разговор с Горбуниным. Тревога на лице Лагутиной не проходила.
– Ну, а у тебя есть хоть оружие? – спросила она, наклоняясь к нему.
– Есть, – коротко ответил Павел и, замолчав, почувствовал, что не сходящая с глаз Лагутиной тревога и последний вопрос говорят за то, что ей не слишком нравилось это путешествие вдвоём с семнадцатилетним парнем через пустырь да железнодорожного района в такое время, когда даже патрули не ходили в этих местах по одному, а группами.
Павел ясно это осознавал. Обида заполняла его. Это недоверие к его юности, к его молодости не раз приходилось ему испытывать, когда случай выдвигал его, как исполнителя той или иной задачи. Недоверие вызывали одни только годы и ничто больше. Эта острая обида за молодость заполняла его возмущением и протестом каждый раз, когда выдвинутый для того или иного поручения он видел в глазах большевиков, поручавших ему дело, тот же взгляд полунедоверия и нерешительности, который он сейчас видел в глазах Лагутиной.
И невнимательно вслушиваясь в речь продкомиссара с ещё не осевшим раздражением думал: "Лагутина не смотрела бы так испуганно, если бы её провожатым был хотя бы сидящий впереди широкоплечий с крепким затылком секретарь агитпропа Подива по одному только, что ему не семнадцать, а уже, наверное, все тридцать лет… бумагоед, чернильная душа".
И незаметно для себя самого его раздражение вылилось на ни в чём не повинного секретаря агитпропа, которому и не чудилось, что он вызвал такие неприязненные мысли по своему адресу у соседа. Но раздражение как сразу вспыхнуло, разу же быстро и улеглось.
Заседание кончилось. В одиночку и группами товарищей поднимались и выходили, не дожидаясь конца.
Партер устал и, как всегда перед концом заседания, был шумлив и невнимателен. Быстро кидая слова, продкомиссар читал резолюцию, стоя голосовали, и беспорядочной шумной толпою заседавшие двинулись к выходам. Вслед выкрикивались сообщения о различных совещаниях, но их никто не слушал – зал пустел.
Выйдя на подъезд, Лагутина и Павел остановились, пропуская мимо себя поток выходивших. Завернув рукав блузки, Лагутина всматривалась в часы.
– Половина второго. Ну, пойдём, – сказала она, повернувшись к Павлу.
Они пошли сначала в общей толпе, постепенно тающей, через двадцать минут они уже шли вдвоём, изредка перекидываясь словами. Говорила больше Лагутина. Павел отвечал вначале отрывисто, коротко, но потом беседа завязалась. У Павла прошло чувство обиды на Лагутину.
"В сущности, чего я на неё озлился? Пусть себе думает, что хочет, – подумал он, – мне-то какое дело до её мыслей?"
Кончались центральные улицы города. Лагутина и Павел спускались вниз к огромному пустому рынку, глядевшему угрожающе своими бесконечными рядами пустых ларьков. На рыночной площади темнели четыре фигуры патрульных. Короткое знакомое "Кто идёт", "Пропуск", несколько фраз с той и другой стороны, и патруль остался позади.
Павел с Лагутиной шагали по улице, ведущей к железнодорожным складам через пустырь, отделявший рабочий район от центра города. Здесь начинались самые неприятные места. Прошли последний фонарь. Громадные силуэты складов выступали сквозь темень, и от них становилось более темно и неприветливо; Лагутина пододвинулась вплотную, просунув свою руку под локоть Павла. Она уже теперь не смеялась и почти не говорила – чувствовалось, что в ней нарастает тревога. Желая её хоть немного успокоить, Павел сунул руку в карман, найдя шершавую ручку нагана, вытащил его, без слов показал Лагутиной, но, сохраняя внешнее спокойствие, сам почувствовал охватившую его настороженность и напряжённость.
Он всегда ощущал это в только что прошедшие мятежные годы, когда ему приходилось идти в цепи, входившей ночью в оставленный поляками город, где каждый тёмный переулок мог хлестнуть огневым плеском и глаза так жадно и упрямо стремятся просмотреть, просверлить темноту, а палец на спуске напряжён, как стальная пружина, и сердце стучит упрямее и настойчивее.
Начинался пустырь. Тут становилось свободнее. Хотя окружала темнота, но не было черноты закоулков, тупиков, которых не просмотреть, не прощупать и мимо которых проходить, как мимо собаки в подворотне, не зная, пропустит ли она безмолвно или вцепится. Пустырь не давил тяжестью стен. Здесь было, где разбежаться, куда нырнуть, и напряжение постепенно спадало. Палец на спуске разогнулся. Только теперь почувствовалось, что он затёк, и наган медленно заполз в карман, хотя рука и не оставляла рукоятки и спуска. Но это уже было нормальное состояние, ибо Павел всегда так ходил в ночное время, где бы то ни было.
Мысли своё думают, решают, спорят, отрицают, соглашаются. Всегда они далеки от дороги, по которой идёт человек. А рука своё, она на посту, пальцы одно целое с резьбой рукоятки; указательный крючком загнут, зацепился за железный язычок, и оттого от руки передаётся мыслям то спокойствие, которое идёт человеку от сознания, что он не сам, один со своими мускулами, со своей физической силой, а что эту силу удесятеряет, умножает, стирая грани первенства, стальная шавка со зло вытянутой мордочкой, жутковато темнеющей одним зрачком.
Желая подбодрить примолкнувшую спутницу и отчасти от желания отплатить за недоверие, Павел, освобождая локоть из-под руки Лагутиной, засмеявшись, сказал:
– Руку-то что так крепко держишь? Чтобы не драпанул при первом случае? – И, усмехнувшись, не зло спросил:
– Скажи-ка, товарищ, по совести: ведь не особенно тебе улыбается прогулочка… – он запнулся, не найдя подходящего слова, – Тут-то и надо попридержать на всякий случай, а то рванёт вёрст двадцать в час, лови чёрта на полёте, – и он рассмеялся уже звонко, как только умеет смеяться молодость.
Он чувствовал растерянность и смущение Лагутиной, застигнутой врасплох его словами и не нашедшей, что ответить. Этим Павел хотел отомстить за недоверие там, в театре.
Перебивая Лагутину, смущённо пытавшуюся отрицать его упрёки, хотя только что она об этом думала, и своими словами он лишь передал её мысли, примиряюще дружески Павел проговорил:
– Ну ладно, чёрт с ним, дело не в этом. Я на тебя не в обиде. Ты же меня не знаешь, товарищ, так можно было и подумать, что парень драпанёт. Факт тот, что обойдётся без проверки. Станция близко, скоро будем дома. Можешь успокоиться. Завтра гора работы, как тебе, так и мне. Давай, прибавим шагу. Места скоро пойдут людимые, провожу тебя за туннель и там разойдёмся.
Лагутина, как бы отвечая на свои мысли, не оставлявшие её, говорила:
– Скоро уже можно будет спокойно ходить по городу. Давно уже надо было нам заняться очисткой города. А то подумай: как свечереет, ни из города, ни в город из района не пройдёшь – вечно волнуешься".
Кстати, в этой части главы, рассказывая о том, как Павел и Лагутина идут мимо железнодорожных путей, Островский подводит постепенно читателя к последующему рассказу о Боярке, то есть о необходимости строительства подъезда к дровам. Ненавязчиво он описывает замирающую жизнь железнодорожной системы.
"Вокзал был уже близок, когда вышли на мостик, перекинутый через грязную вонючую речушку и повернули вправо, сразу стали видны разноцветные огоньки фонарей. Устало вздыхал маневровый паровоз.
Там наверху, на высоко поднятой насыпи, где проходили десятки подъездных путей, замерла жизнь и движение, бывшие здесь когда-то. Вокзал громадного города был молчалив, не грохал железом, не рычал разноголосыми гудками паровозов, не шевелился, как какое-то железное чудовище, змеями поездных составов.
И дальше:
"Вокзал был обескровлен. Не было дров. Застревали устало приползавшие поезда. Их нечем было кормить. Они заполняли запасные пути, молчаливые, опустевшие.
В этот своеобразный городок каждый день втискивались новые составы, образуя собой длинные улички. И сейчас живых паровозов, окликавших друг друга, было три-четыре. Они двигались и своим рёвом напоминали, что не всё ещё замерло. Это была уже жизнь, движение".
Да, это самое отсутствие в городе дров привело к решению строить подъездные пути к Боярке. Стало быть, эта глава должна была в романе предшествовать событиям в Боярке. В опубликованном варианте романа эта проблема отсутствия дров обозначена весьма коротко в конце первой главы второй части:
"Улеглась тревога.
Но новый враг угрожал городу – паралич на стальных путях, а за ним голод и холод.