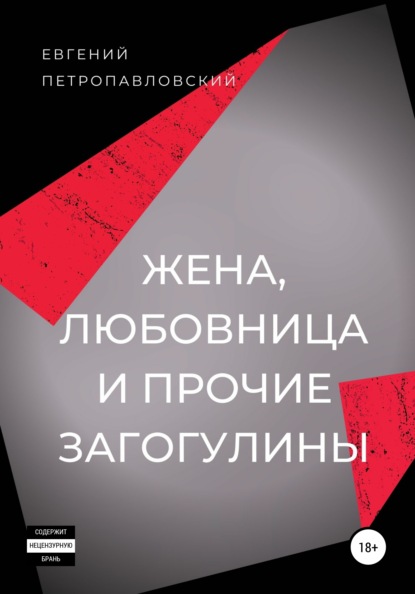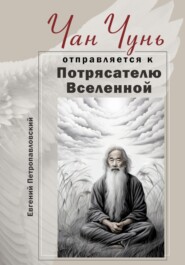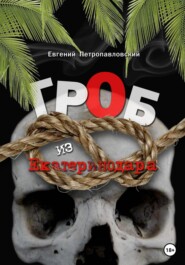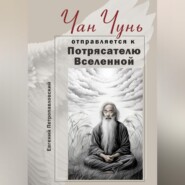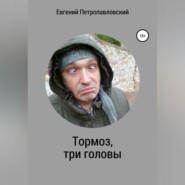По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жена, любовница и прочие загогулины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А потом её заставили выпить сразу целый стакан водки и – уже в драбадан пьяную – отвезли домой.
Дальнейшее было как в тумане.
Какие-то обрывки – воспоминаний ли, пьяного ли бреда… Это Чуб хорошо понимал, такое с ним не раз бывало.
Однако она помнила: родители не замедлили устроить бешеный скандал из-за того, что она так напилась. Но что она могла им сказать? Что её только что изнасиловали? Не приведи господь, от этого её отношения с предками вряд ли улучшились бы.
…Вторым мужчиной в её жизни оказался учитель математики. За молодым, красивым и, вдобавок ко всему, холостым «математиком» бегали все девчонки из её класса. Какой нормальный мужик устоит? И добрый преподаватель не оставлял без внимания своих учениц. Правда, дальше нескольких «сеансов» дело не заходило: «математик» быстро переключался с одной юной пассии на другую. Но каждая девчонка считает себя самой чудесной, обольстительной и неповторимой, так что Машка, не испытывая никаких сомнений, решительно приступила к делу. Однажды на перемене подошла к учителю и попросила позаниматься с ней дополнительно – у него на дому, – тем более что по предмету она действительно не блистала. Мужчина, естественно, понял, чем вызван внезапно вспыхнувший интерес этой фигуристой девятиклассницы к математике.
Когда она явилась в его квартиру, они немедленно занялись далеко не уравнениями, графиками и функциями.
Он был нежен, обходителен, и в постели многому её научил. После него ей ни с кем так хорошо не было («Нет, если, конечно, не считать тебя, Коленька, – потупившись, быстро поправлялась Машка. – Тебя-то я тогда ещё не знала!»); он приносил ей в постель кофе с шоколадками и шампанское; она как-то внутренне разомлела и ей уже грезилось невесть что: этакое слабо очерченное счастье в покое и неге с любимым человеком, пусть он и намного старше неё… Однако через месяц всё рухнуло. «Математик» сказал ей, что им пора заканчивать свою связь, и что – именно в силу большой разницы в возрасте – между ними ничего серьёзного быть не может.
Два дня Машка ходила как пришибленная. А потом появилась злость. Ах так, он бросил её? Что ж, тогда пусть и расплачивается за это! Когда созрело решение, девушка не стала медлить – пошла к преподавателю и заявила: дескать, раз она была нужна ему лишь как проститутка, для примитивного удовлетворения полового инстинкта, то пусть он теперь и расплачивается с ней, как полагается расплачиваться с женщинами лёгкого поведения. И потребовала у него две тысячи рублей. Так сказать, за оказанные интим-услуги. Деньги по тем временам были неслабые. Только «математик» не собирался их давать ей. Рассмеялся в лицо и выгнал из своей квартиры.
Но Мария не успокоилась. Она горела жаждой мщения. Поэтому однажды на большой перемене подошла в школьном дворе к Андрюхе Нечипоренко, который давно за ней безуспешно ухлёстывал, и соврала тому, что учитель её изнасиловал. Андрюха, взяв с собой двух дружков, подкараулил препода после уроков: тому здорово досталось. Затем было долгое разбирательство с полицией; пацанов чуть не посадили. К счастью, после родительской беготни и слёз (а может, и денег, бес его знает) мальчишкам удалось отделаться лёгким испугом.
Пришлось Машке в качестве наглядной благодарности расплачиваться натурой. А куда было деваться? Ничего ценного, кроме собственного тела, она не имела. Целый месяц Андрюха таскал её по подвалам и чердакам, потому что дома у него сидела любопытная и довольно сварливая мать, там никакого секса у них бы не получилось… Особенно не нравились ей чердаки – с вездесущими голубиными перьями и толстым слоем помёта повсюду. Андрюха как мужик не внушал ей абсолютно никаких чувств, так что с ним она не выдержала дольше месяца. А потом, вдобавок, припёрло сделать аборт, после которого – несмотря на полученные с перепуганного кавалера деньги – Машка стала и вовсе испытывать к Андрюхе отвращение. Тогда она его без сожаления бросила.
Затем была какая-то полуслучайная компания, в которой Машка шапочно потусовалась – недели полторы – на дискотеке. До тех пор, пока новообретённые товарищи по времяпрепровождению не оттрахали её ночью вчетвером – прямо под хлебным магазином на улице Пролетарской.
Машка в конце концов уяснила, что теперь ей терять нечего. И понеслось: она крутила шуры-муры то с одним, то с другим, то с третьим… Её имели на речке. Имели во дворике детского садика. Даже в её собственном подъезде… Сначала с ней были, в основном, парни из её школы. Потом – и вовсе кто угодно… Дальнейшие Машкины амуры туманились и путались, длинная цепочка воспоминаний с бессчётными звеньями портретных характеристик слишком разбрасывалась во времени и пространстве для того чтобы различимо улечься в расплывавшемся мозгу Чуба; он закрывал глаза и вскоре уплывал в тёплую пелену сновидений, бестревожно посвистывая носом.
Со временем всё рассказанное невестой действительно стало казаться ему почти сновидением, далёкой сказкой наподобие «Тысячи и одной ночи», которую он в детстве – каждый день в одно и то же время – слушал по радиоприёмнику, когда работал с матерью в огороде. А если не сказкой, то чем-то наподобие досужей байки, в которой тоже нет ничего, кроме увлекательной неправды. И с постепенной неуклонностью память о прошлом Марии вытеснялась из головы Чуба пониманием того, что теперь его собственная жизнь, впервые осенённая продолжительной привязанностью женщины, должна обрести новый смысл.
Этот смысл был неясен с непривычки, но уже угадывался, прощупываясь в том тёплом теле, которое беззащитно и требовательно прижималось к Чубу по ночам, обволакивало и дарило быстро сделавшиеся для него привычными расслабленность и умиротворение.
Понятное дело, он не собирался по данному поводу визжать от радости и пускаться в пляс. Однако всё чаще говорил с Машкой, не выказывая своего превосходства. Условиям момента не противился, не надрывал своих сил против естества. Зачем? Хорошего в бытовой текучести и так немного, пусть остаётся хотя бы то малое, что само собой проковыривается навстречу его душе из густоплётной мешанины жизни.
***
Каждое утро, проснувшись, Чуб неторопливо завтракал, затем с наслаждением выкуривал сигарету и, выйдя из дому, бодро шагал к остановке вахтенного автобуса, чтобы ехать на работу. Он скользил взглядом по случайным прохожим и чувствовал себя на улице так, будто он – единственный живой человек среди покойников. Потому что окружающая сутолока казалась ему бесцветной и пустопорожней в сравнении с тем, что ожидало его каждый вечер в постели.
Он всё чаще с приятным удивлением ловил себя на мысли о том, как, оказывается, мало нужно человеку, чтобы по-настоящему радоваться своему существованию и сопутствующим ему незначительным событиям. Даже если стараться – по мере возможности – обходиться без выпивки.
Работа на консервном заводе оказалась нетрудной. Обязанности Чуба заключались в том, чтобы всю смену стоять в белом халате над наполненной водой огромной железной ёмкостью с плававшими в ней яблоками и большой деревянной лопатой подгребать эти яблоки поближе к желобу, из которого они должны более или менее равномерными порциями высыпаться на резиновую ленту транспортёра. Чуть поодаль по обе стороны транспортёра стояли две молодые женщины, Вера и Оксана. Им вменялось в обязанность производить сортировку плодов: убирать гнилые яблоки, а заодно с ними – разный мусор типа щепок, листьев и дохлых крыс. Щепки, листья и гнилые плоды женщины добросовестно снимали с ленты. Но трогать крыс, пусть даже и неживых, они боялись, поэтому оставляли грызунов ехать своим маршрутом. Тем более что народ сейчас в большинстве своём грамотный, и все хорошо понимают: если одна крыса будет перетёрта и смешана с добрым центнером детского яблочного пюре «Неженка», то никто её даже не заметит, а что касается микробов, то они гибнут в автоклавах при стерилизации под большим давлением.
Чуб смеялся над женской слабиной относительно грызунов. Сам же не брезговал съедать по доброму десятку банок «Неженки» за каждую смену, не забывая и домой всякий раз выносить через проходную столько, сколько получалось напихать за пояс брюк под телогрейкой. Мужики, работавшие на проходной, никогда к нему в брюки не лезли, а о регулярных полицейских проверках заводское начальство загодя предупреждало своих работников. Поначалу Чуб таскал домой также и яблоки, но вскоре они обрыдли и родителям, и Машке, а уж он сам давно на них смотреть не хотел.
«Неженки», конечно, не хватало, чтобы как следует напитаться требовательному взрослому человеку, однако дома она являлась некоторым подспорьем в еде; а матери сладкое яблочное пюре даже нравилось. Вдобавок батя в скором времени наладился сбраживать «Неженку» и гнать из получавшейся браги самогон. Которым в силу необходимой благодарности стал щедрее делиться с Чубом, дабы тот не прекратил поставки необходимого сырья.
В прежней жизни случалось немало досадного – такого, от чего можно было не только расстроиться, но иной раз даже сдвинуться в трудновменяемую сторону. Тем явственнее ощущалось, что с недавних пор всё стало иначе. Не зря говорят: не тот казак, кто переборол, а тот, кто извернулся. Некоторые люди любят проявлять активность, принимая участие в разнообразных делах и происшествиях, но Чуб ни к чему подобному не стремился и даже малейших позывов не испытывал: ему хватало собственной жизни, а посторонним явлениям вольно складываться и без его участия, так он считал.
Теперь Чубу не приходилось ни изворачиваться, ни тем более пересиливать напор обстоятельств. Всё остальное, кроме этого, представлялось ему незначительным. Как сложилось, так и получилось – и оказалось прямо противоположным тому, чего он опасался поначалу. Оставалось лишь самую малость успособиться существовать без посягательств на несбыточное, приладиться к струению равномерной обыденности. Пустяки. Тем более что больших амбиций в нём не возникало. Да и малых, наверное, тоже (а если и возникали, то в зачаточном и очень притаённом виде, ибо ему не доводилось отягощаться ими применительно к любой из сфер своего текущего существования). Каждодневная повторяемость событий – без разбегов и спотычек, без вынужденных вихляний и подскоков – это было то, что надо.
Да, это было Чубу в самый раз.
Глава четвёртая
– Обезьяны не читают философию!
– Почему же, читают. Только они её не понимают.
(Художественный фильм «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»).
«Хороший, плохой… Главное – у кого ружье!»
(Художественный фильм «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3»).
Между делом произошло знакомство с родителями невесты. Не сказать чтобы Чуб забыл об их существовании, а просто не задумывался о предстоявшем ему родстве с новыми людьми. Но предки, оказывается, спроворились в его отсутствие втихую сговориться о желательной встрече как-нибудь вечером, для того чтобы скромно, по-родственному, отметить помолвку. Так и вышло, что однажды Чуб воротился с работы – по обыкновению, с полными штанами «Неженки», – и увидел сидевших за столом отца и мать, и празднично сиявшую Машку, и с ними – степенную пожилую пару, которую Чубу никогда прежде не доводилось наблюдать у себя в гостях.
Стол всем своим обильным натюрмортом выказывал неординарность отмечаемой даты. Были на нём и материна клубничная наливка, и отцов настоянный на лимоне и ореховых корках самогон, а из закусок – маринованные грибочки, жареный окунь под майонезом, квашеная капуста с яблоками, нарезанная тонкими кружочками ливерная колбаса на блюде, украшенном по центру петрушкой, салат из свежей редиски с собственного огорода, фаршированные яйца, подёрнутый непроницаемой жировой плёнкой холодец со щедро бугрившимися из него свиными хвостами, а также неизменно сопутствовавшая каждому станичному празднику селёдка под «шубой».
Пришедшему Чубу шумно обрадовались. И пока он выкладывал из-под засаленной телогрейки банки с детским яблочным пюре, Мария и предки принялись в три голоса знакомить его с будущими родичами.
По отношению к гостям полагается проявлять вежливость, потому Чуб выдавил из себя посильное количество дипломатичных выражений и жестов. Однако на большее его не хватило: за рабочий день он изрядно проголодался, оттого не стал мучить свой организм ненужным ожиданием и поторопился к столу.
Машкиного родителя звали Василием Поликарповичем. Выглядел он так, будто носил внутри себя собранный отовсюду чужой смех, который по жадности натуры не желал выпускать наружу, чтобы в положенное время унести его с собой в могилу. То ли по этой, то ли ещё по какой-то неясной причине Василий Поликарпович не понравился Чубу. Будущий родич непрерывно делал серьёзные глаза, быстрыми музыкальными переборами почёсывал свой утиный нос и не по сезону потел в костюме-тройке серого цвета. Воротник его тонкой бледно-голубой рубашки был туго перехвачен широким, чёрным в белый горошек галстуком. В текущий момент толстые стёкла его очков запотели от выдыхаемых паров самогона, а сам он, хоть и ещё не разговорился окончательно, но всё же успел поведать Чубу в нескольких словах, что до своей заслуженной пенсии успешно трудился по автотранспортной линии и даже имел неоднократные поощрения от руководства.
Машкину родительницу – женщину дородную, загузастую, с безнадёжно опавшей от давно забытого материнства грудью и коровьим лицом, напоминавшим скорее о жевательных свойствах, чем о способности её внутреннего мира к самосознательной организации – звали Таисией Ивановной. Она была одета в строгий женский костюм тёмно-синего цвета, состоявший из длинной юбки и жакета, под которым находилась блузка – белая в чёрный горошек. Степенно шевеля вилкой и отпивая из рюмки небольшими скромными глотками, она, в свою очередь, не замедлила поделиться мнением, что любой порядочной жене для обоюдоострого контроля полагается всегда быть подле мужа – так, например, она сама, долгое время проработавшая кассиршей на автостанции, никогда не выпускала из поля зрения своего супруга. Потому что он у неё хоть и является потомственным интеллигентом с высшим политехническим образованием, но, как все мужики, в обычной жизни слишком простодушный и очень легко может явиться добычей охотниц до чужих мужей.
– Ерунду городит, – подытожил монолог супруги Василий Поликарпович. – Как говорится, бабьему языку каждый день праздник. Не слушайте её, я никогда не давал повода усомниться в моей моральной платформе. Ох женский пол, ох фантазёрки!
Отец Чуба одобрительно крякнул. И не преминул поддержать свата:
– Это верно, бабам только палец покажи – так они уж сразу забивают себе головы бредовнёй и готовы в тебе заподозрить измену без уважительного повода. Курицы, одно слово, что с ними поделаешь.
Сказал как отрезал. Впрочем, беззлобно: просто обозначил своё нежелание обсуждать тему женского нравственного контроля в семье. И беседа не замедлила сменить вектор в сторону легенд и преданий былых времён, а также брачных происшествий курьёзного характера, которые случаются в нынешние дни.
Усевшись за стол, Чуб поначалу добросовестно старался распределить своё внимание между гостями и едой. Но пища всё-таки перевешивала, поскольку он был голоден после смены. Оттого в скором времени гости отодвинулись за линию его умственного горизонта. Мария любовно подкладывала Чубу в тарелку лучшие куски. Вкусы и запахи смешивались у него внутри, где-то недалеко, между ноздрями и языком, одно практически не отличалось от другого, отчего еда казалась намного приятнее, и было невозможно от неё оторваться. Он шевелил челюстями и размягчённо размышлял о том, что в мире имеется много простых радостей, о которых он прежде и не догадывался: когда, например, ты после работы заурядно удовлетворяешь свой аппетит, а рядом сидит любящая женщина и заботливо подливает тебе самогон в рюмку, и подкладывает в тарелку холодец с хреном и селёдку под шубой, и куриные котлеты, и салат из крабовых палочек, ожидая, когда ты наешься в достаточной степени для того чтобы иметь силы идти с ней ночью в постель.
Даже думать об этом было удивительно хорошо.
Никаких других мыслей в эти минуты он не хотел. Да они и не появлялись. Разве только иногда мелькали слаборазличимые позывы в ту или иную сторону, однако оформиться в определённых контурах им не давали звуки общезастольного разговора, ни к чему не обязывавшего, а лишь фоновым образом сопровождавшего сиюмоментное довольство положительной направленностью всех близкозримых векторов и продолжительное предвкушение очередной ночи в одной постели с ласковой Машкой.
***
Насытившись, Чуб откинулся на спинку скрипучего стула и, время от времени поднимая тосты вместе со всеми, слушал легко предсказуемую болтовню предков.
Батя перемежал разговор весёлыми репликами. Встряхивал брылями, поросшими трёхдневной сивой щетиной, и провозглашал благоприятным голосом что-нибудь гостеприимно-приблизительное – примерно в таком роде:
– Добрые гости всегда впору!
– Гость не кость, за дверь не выкинешь, – шутейным голосом вторил ему Василий Поликарпович. – Рад не рад, а говори: милости просим!
Мать тоже вставляла свои пять копеек в дружелюбную тему:
– Не всё на чужих такать, следует и об родственном покалякать. За столом посидим, повеселимся-пошутим, а там и приобвыкнемся со всей взаимностью.