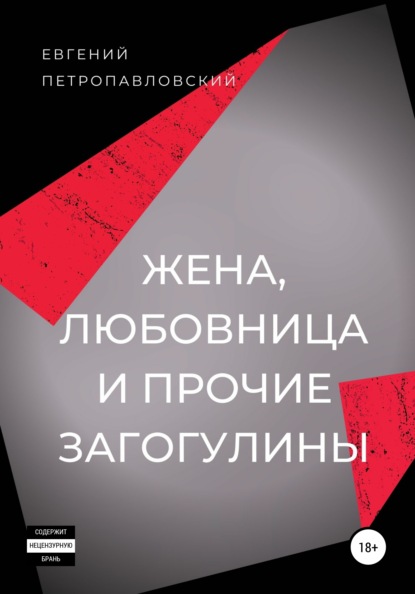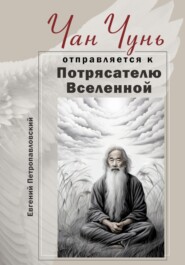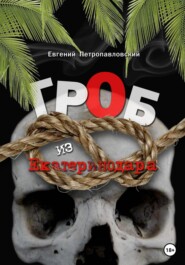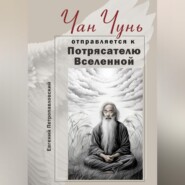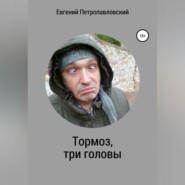По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жена, любовница и прочие загогулины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И далее в подобном духе они продолжали сотрясать воздух не менее получаса, а толку – ноль. Итог был один: Чуб окончательно осознал, что хорошего отношения ждать от предка не приходится.
С одной стороны, отец представлялся ему прозрачным в своей непреложной простоте. Но с другой – взгляды Чуба на жизнь и на всё остальное пересекались с батиными взглядами под слишком тупыми углами, оттого было практически не за что зацепиться для благоприятного обмена мнениями: ни так, ни сяк, ни разэтак, ни под каким соусом, хоть тресни. Получался сплошной клубок противоречий, который нисколько не повышал желание Чуба идти навстречу родительским понуканиям. Скорее наоборот.
***
Всё-таки Чубу казался удивительным быстро наболевший факт, что за считанные дни житьё в одной хате с предками успело ему осточертеть. Со временем обстановка нисколько не сдвигалась в лучшую сторону, и не составляло труда догадаться, что конца и края мозгополоскательной атмосфере не предвидится.
Не того бы хотелось, да так сталось.
Из-за батиного дурного характера Чуб порой с трудом удерживался от того, чтобы не закипеть, как чайник. Он уже был готов бежать в любом направлении и поселиться где угодно, в самом неказистом месте, если б ему там предоставили жилплощадь. Правда, о подобном оставалось лишь мечтать в беспочвенных фантазиях, ибо дармовую жилплощадь предоставляли только в советские времена, да и то – редким категориям: молодым специалистам, передовикам производства и разнотравчатым активистам хитрожопой масти. А теперь, при жестоких гримасах капитала, даже на кладбище поселиться не позволят, пока ты ещё находишься в неповреждённом состоянии и способен передвигаться на собственных ногах.
К слову, жизнь на кладбище – конечно, не до самой старости, а временная, недели две-три – казалась ему не лишённой интересных склонений. Можно, например, покараулить потусторонние явления или дождаться аномалий, а то и вообще попытаться понять души всех, кто упокоен в окрестных могилах – ночью, без посторонних звуков и прочих помех, это должно быть сподручнее, чем в дневное время.
Однако фантастические желания и любопытство ещё никому не помогали в борьбе с родственной надоедливостью. Отец продолжал поедом есть Чуба: при любой случайной возможности, к месту и не к месту, тыкал его носом в затянувшуюся безработность, гнул свою линию, рассказывая об инфляции и дороговизне всего подряд, о слабой приспособленности молодого поколения к созидательной программе природы, о нелёгкой трудовой копейке, о материальных основах человеческого существования, о необходимости персонального вклада в дело народного патриотизма, о неувядающих семейных традициях, о практическом воплощении идеалов и тому подобной издевательской ерунде.
Чуб не хотел слушать это хамство. Он запирался на швабру в своей комнате, однако старый дурандас всё равно бодал дверь, продолжая выкрикивать свои скалдырные соображения насчёт трудоустройства и ругаясь дремучими оборотами.
– Давай усердствуй, хрен ты ко мне прободаешься, козёл комолый, – злоехидно бормотал Чуб, заваливаясь на кровать. – Твоё время уже почти истекло, а моё, можно сказать, только начинается. А слова-то я уж как-нибудь перетерплю: сотрясай воздух, словоизвергайся, если неймётся, брань на воротнике не виснет. Я тоже мог бы укрыть тебя по всем швам, да не стану. Всё равно рано или поздно утомишься драть горлянку. Ох-хо-хо, вот же каким предком наградила меня судьбина: чистая болячка, хуже чирья.
Под бестолковые крики родителя Чуб лежал на кровати, глядя в потолок и ковыряя пальцем стену. Непроизвольно, разумеется, ибо смысла упомянутое действие в себе не несло – это была привычка, установившаяся с детства: стоило Чубу рассердиться на кого-нибудь или разнервничаться по иной причине, как он укладывался в постель и принимался ковырять, всегда в одном месте (оттого ноготь у него на указательном пальце правой руки всегда был стёрт, зато рос значительно быстрее ногтей на других пальцах и толщину имел незаурядную – такую, что в армии ни один салага не выдерживал щелбанов Чуба без крика и слёз). За многие годы кропотливого воздействия в стене образовалась довольно глубокая дыра, напоминавшая нору загадочного зверя. Порой, плотно приникнув глазом к этой дыре, Чуб всматривался в казавшуюся безразмерной темноту внутристенного пространства – и видел там разные абстракции, складывавшиеся в причудливые иномирные пейзажи, и мало-помалу распространялся сознанием дальше, чем мог предположить, дорисовывал в воображении целый космос, посреди которого чувствовал себя крохотной мыслящей частичкой, парящей над чёрной пустотой. До того правдоподобно чувствовал, что несколько раз падал с кровати. Ерунда, конечно, но всё же это занятие скрашивало настроение и отвлекало мысли от остроугольных жизненных обстоятельств.
…А отец ругался и ругался, безответно тираня дверь. Костерил на чём свет стоит всех лодырей, у которых руки до работы не достают, и разбирал по косточкам своего неудалого сына как частный пример вырождения сознательного трудового класса, и сокрушался, что заботливые люди обычно со старанием и упорством ищут какого-нибудь достойного дела, а ленивые от любого дела рыщут – в общем, тянул канитель в полувнятном и кривосудном духе, нисколько не заботясь о встречном понимании.
Дожидаться избавления от батиных нападок было бесполезно. Наверное, даже у наисвятейшего человека не хватило бы терпения выслушивать каждодневную близкородственную околесицу. Оттого в конце концов Чуб не выдержал, взял документы и выскочил прочь из родительской хаты, сглатывая пузырившиеся на языке ответные возгласы в бранном наклонении.
Улица встретила его вялым шумом рядового дня и неприветливой температурой. Жара стояла такая, что казалось, её с трудом возможно разрезать ножом, а уж кулаком-то и вовсе не прошибёшь, бесполезно стараться.
Станица Динская днём – далеко не самое живописное место на глобусе, поэтому Чуб со скучными глазами шагал по ней несогласным шагом, как по бесплодной пустыне. Злой и внутренне дезориентированный, точно пришибленная поленом собака. Двигался сам собою, засунув руки в карманы брюк и мечтая с кем-нибудь подраться, чтобы стравить пар. Однако никого подходящего не подворачивалось, улица была до обидного безлюдна. А зайти куда-нибудь выпить не имелось достаточных средств. Может, в силу упомянутых причин окружающий мир с удвоенной силой давил на Чуба – не то чтобы угрожая в скором времени окончательно задушить его, но всё же.
Многим людям удаётся разбогатеть и жить без материальных проблем: нахрапистым ворам и беззастенчивым жуликам, знаменитым артистам и талантливым учёным, кропотливым банковским работникам и нечистым на руку чиновникам. Тем более от рождения обеспечены довольством наследники зажиточных родителей, поскольку этим дармоедам без малейших утруждений с их стороны приносят на блюдечке всё желаемое. Но Чуб в данном отношении не мог питать каких-то особенных надежд, ведь он не являлся ни вором, ни жуликом, ни представителем другой благополучной профессии. А уж о сколько-нибудь ощутимых наследственных достатках даже помыслить было смешно. Хрен на постном масле – вот всё его наследство, которого ещё неизвестно когда получится дождаться. Невозможно не ощущать несправедливость, когда одни умудряются отчекрыживать от общественного пирога громадные шматки, а другим перепадают смехотворные крохи.
«Деньги идут к деньгам, а у меня идти-то не к чему, несладко жить без средств, – вертелось у него в голове. – При подобном обстоянии не больно-то погордишься перед предками или ещё перед кем-нибудь. Не раскопылишься вширь, когда у тебя не имеется за душой ничего, кроме крепкого здоровья да громозды желаний. Верно говорят, что от гордости мало корысти, а я всё заношусь и амбиции воображаю, дурень. Кабы имелись деньги, тогда другое дело: мог бы чувствовать себя пренебрежительным человеком. А если шиш в кармане да вошь на аркане, разве почувствуешь? И разве усидишь на месте спокойно, когда тебя шпыняют и подзюкивают каждодневными оскорблениями? От бедности да от батиной грызни и собака со двора побежит, не то что я – хоть в белый свет как в копеечку, а хоть и на работу. Оно, конечно, ретивому коню тот же корм, а работы вдвое, нехорошо с этим торопиться. Лучше было б осадить настроение и переждать отцовский нетерпёж: может, со временем тот отмякнет и позволит ещё пожить без трудовых подвигов. С другой стороны, рада бы курочка не идти на пир, да за хохол тащат… В армии, когда мечтал поскорее вернуться домой, разве мог я представить, что батя станет до такой степени докапываться с трудоустройством? И ведь сам-то по себе он человек незначительный, до смехотворности безрезультатный, а вот поди ж ты, воображает о своей персоне незнамо что – и шпыняет, шпыняет, как проклятого! Ладно, может, устроюсь на какое-никакое прохладное место и проскочу одним махом все невзгодья. Хотя вряд ли. Кому-то бог дал, а мне даже не посулил, но почему бы не попробовать? Наперёд не узнаешь, где найдёшь, где потеряешь, так уж водится на свете, что материально недостаточному человеку надо как-то изворачиваться. Вот и попробую, попытка не пытка».
Людей на улице было немного, и отыскать в них сколько-нибудь примечательные знаки Чубу не удалось бы при всём старании. Хотя он совершенно не старался, а просто двигался по неприбранному тротуару, засунув руки в карманы и время от времени сплёвывая то вправо, то влево, точно выполняя специальный ритуал, предназначенный для подманивания удачи и охранения от затаившихся враждебных сил. Чужие взгляды прозрачно мельтешили вокруг Чуба наподобие прыгучих кузнечиков, однако не оставляли следов в его воображении, поскольку он думал о своих проблемах, и для посторонних мелочей в его умственном пространстве не имелось места.
Впрочем, в один непреднамеренный момент Чубу вдруг помстилось, будто он недавно умер и в образе призрака воротился в родимые места ради остаточных чувств и прощальных воспоминаний. Он даже остановился от неожиданности. И затряс головой, чтобы отогнать ерунду. А когда восстановил внутреннее равновесие, снова зашагал по привычным улицам полусонной станицы.
Спустя несколько минут Чуб умеренным аллюром добрался до проходной консервного завода. Перед которой замедлил шаг и – как бы продолжая нескончаемый разговор с отцом – произнёс сомневающимся голосом, обращаясь в никуда:
– …Человек не создан для работы.
И возразил из нутряной глубины – на сей раз противовесным батиным полубасом:
– Зато работа создана для человека, тем более когда нужда нужду ведёт, а горе сводит. Надо идти на уступки действительности и не поддаваться разложению.
Почему ноги принесли его именно к проходной консервного завода, а не в какое-нибудь другое место, Чуб объяснить бы не смог, даже если б его об этом спросили. Но его никто не спрашивал. Многое на свете происходит само собой, беспричинно, просто так – вот и с ним произошло.
***
– Тебе чего? – подозрительно поинтересовался заводской охранник, прогуливавшийся от скуки вдоль длинного красно-бело-полосатого шлагбаума.
– А-а… на работу устраиваться, – по непонятной причине внезапно оробев, ответил Чуб.
– Так это не сюда. Устраиваться иди в контору, – охранник указал рукой направление. – Вон, за твоей спиной, видишь?
– Вижу.
– Вот и дуй прямиком в отдел кадров. Оформляйся, стало быть. А сюда уже с пропуском пришагаешь.
«А что, – мысленно рассудил Чуб, стараясь подбодрить себя перед решительным жизненным шагом, – на консервном заводе в основном бабцы трудятся. Среди них мужику должно быть интересно».
И, деловито наморщив нос, направился к зданию заводоуправления.
…В отделе кадров ему неожиданно обрадовались:
– Только что из армии? – расплылась в улыбке, просматривая его документы, сухостойная тётка средних лет. – Нам как раз нужны надёжные ребята, малопьющие, на первичную переработку. А то кругом одни женщины, а из мужиков – только алкатории пожилые: день поработают, а потом уходят в запой на целую неделю. В общем, берём тебя без разговоров.
– Оклад какой дадите? – уточнил Чуб осторожным голосом.
– Ну, пока что восемнадцать тысяч рублей. Но вообще – глядя по выработке – может и больше получаться.
– Да всё равно маловато.
– Так у нас же пищевое производство, – слегка понизив голос, многозначительно сузила глаза тётка. – На консервных предприятиях везде зарплаты маленькие. Потому что есть возможность – ну, там: то яблочек, то сахарку домой понемножку, понимаешь?
– А-а-а, понимаю, – закивал Чуб, легко нарисовав себе в уме возможность каждодневного беспочвенного обогащения, в которое обычно верят бесхитростные трудящиеся. – Ладно, тогда оформляйте.
– Вот и правильно, – одобрила его решение сухостойная кадровичка. – Запасливый нужды не знает, а чего не припасёшь, того и не будет. У нас все выживают по такому принципу. Только ты не наглей, не проноси через проходную слишком много за раз, чтобы не попасться.
– Ага, постараюсь не наглеть.
Ему по большому счёту было безразлично. Чубу надоела не столько неопределённость собственной жизненной позиции, сколько материальная зависимость от отца и матери. Невозможно до бесконечности выносить попрёки, этак недолго и мозгом сдвинуться… Путёвую работу он всё равно подыщет себе чуть погодя. А пока – чтобы несколько месяцев сильно не напрягаться – подойдёт приткнуться и на консервном заводе. Радоваться особо-то было нечему. Хотя, если подумать, и для кручины не имелось оснований. Ни то ни сё, в общем: хрень на постном масле и густота в умственном пространстве. Послал бог работу, да отнял чёрт охоту. Ну и ладно, лишь бы батя больше не пристёбывался. Успокоится старый перец – вот и ладно. Для начала вполне достаточный результат.
…Оставив за спиной заводскую проходную, он ощутил внезапную усталость. Как будто не плёвое дело сбросил с души долой, а по-стахановски отпахал рабочую смену в консервном цеху. Усмехнувшись, пожал плечами: имел бы склонность к суевериям – посчитал бы это дурным предзнаменованием. И затем весь путь от завода до родительского подворья прошагал в замедленном темпе, точно слабозрячий инвалид, опасающийся нечаянно расшибиться об стену или угораздиться под автомобиль.
***
Чуб оказался прав, ожидая положительного разворота в отношениях с родителем. В самом деле, узнав о сыновнем трудоустройстве, отец переменился на глазах. Стал относиться к нему как к человеку взрослому и даже в некоторой степени существительному. Не то чтобы перестал общаться в тоне превосходства, однако заметно сбавил суровость в выражениях. За ужином налил Чубу и матери по рюмке самогона, чтобы отметить состоявшийся факт записи в трудовой книжке. И произнёс в виде тоста:
– Работа по пищевой части – это для меня область незнакомая и, по правде выражаясь, вдвойне удивительная прилагаемо к тебе. Но ничего особенного, трудновыполнимость предполагать на консервном заводе не приходится. Тем более казак – он как голубь: куда ни залезет, там и пристанет. Буду надеяться, сынок, что с сегодняшнего дня закончится твоя молодая дурость, широкий праздник разгультяйства. Я всё-таки не зря утверждал, да ты и сам видишь, если не дурак: на дворе стоит кризис, даже можно сказать, сразу несколько кризисов разбухают внутри друг дружки, потому пора приготовляться к трудным временам. Как говорится, всего вдруг не сделаешь, но с чего-то начинать надо, а деньги – они ровно мыши: где обживутся, там и поведутся. Не век же мне односильно обеспечивать семейство достатками, верно? Каждый человек должен иметь полезное применение, иначе зачем он существует? Животные и растения – те порождаются на свет для нашего пропитания. А людей природа предназначила для трудовой деятельности. Никуда от этого не попляшешь, всегда так было, есть и будет. Да и сколь нам с матерью осталось до дряхлого состояния? Пять или десять годков – самое большее. А потом уже твоя очерёдность приспеет: станешь тянуть главенствующую лямку нашей жизни, чтоб мы не доедали хлеб до голых рук. За то и выпьем, сынок!
После этого, не дожидаясь ответных слов согласия или, наоборот, возражений, родитель выплеснул себе в рот пятидесятиградусное содержимое рюмки.
Разве такому упёртому дундуку возможно объяснить безболезненную равновесность настоящей правды? Которая заключалась в нежелании Чуба не только мантулить на заводе в поте лица, но даже думать о чём-нибудь лишнем. Он человек с современными понятиями, ему подневольное утруждение под любым соусом пока ни к чему. Работа дураков любит, а он совсем не жаждал засовываться под эту преждевременную планку. После недавних армейских тягостей и тоскливого ожидания дембеля Чубу хотелось навёрстывать упущенное, погрязнув гражданских развлечениях. Ничего дополнительного – только выстраданные умом и сердцем удовольствия, и вся недолга! Досада в том, что человеческие желания и возможности редко находят подходящий момент для своего совпадения.
«Размечтался, буду я тебе тянуть лямку, как же, – злопамятно сдвинул брови Чуб и, покосившись на отца, сглотнул самогон. – Поищешь себе покорного пролетария в другом месте, не на того напал. Без отдыха и конь не скачет. Ладно, обтерплюсь до времени, но настанет когда-нибудь и мой черёд куражиться. Уж я своего не упущу: при первой возможности плюну на тебя с широкой колокольни, отставной козы барабанщик».
***